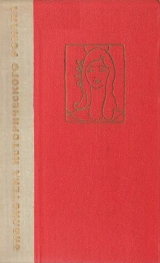
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
…Но если вихрь холодный осквернит
Своим дыханьем чистую обитель, —
Ее покинет ангел, душ хранитель,
И бог от грешной взоры отвратит.
Луиса Перес де Монтес де Ока
Было уже совсем светло и солнце порядочно припекало, когда сенья Хосефа вернулась в свой домишко на улице Агуакате. Внутри, казалось, не было ни души, только курица с цыплятами, квохча у дверного косяка наружной двери, искала выхода во двор. Прежде всего старушка поспешила проверить, спит ли внучка на своей высоко взбитой постели. Удостоверившись, что та спокойно почивает, сенья Хосефа скинула холщовую накидку, расстегнула ремень, и опустилась в кресло, сбросив с сиденья кота, которым при появлении хозяйки поднялся на ноги и принялся потягиваться и зевать, широко раскрывая рот, показывая красный язычок и острые зубки.
Грузно опускаясь в кресло, сенья Хосефа глубоко вздохнула. Ей выпало на долю испить самую горькую чашу, которой когда-либо касались человеческие уста. Ее единственная дочь томилась в больнице, терзаемая тяжким душевным недугом, и, лишенная материнской заботы, обречена была угаснуть там от чахотки, а она, Хосефа, ничем не могла помочь ей. Случалось уже и раньше, что сенью Хосефу одолевали сомнения, но в это утро она окончательно убедилась, что до тех пор, пока дочь ее будет находиться в больнице, на выздоровление надеяться нечего.
Почему же несчастная мать в течение стольких лет была разлучена со своею больной, безумной дочерью? Вот уже шестнадцать лет длилась эта разлука, ибо, как, наверное, вспомнит читатель, Мария-дель-Росарио Аларкон потеряла рассудок с горя – после того как у нее вдруг отняли и поместили в приют рожденное ею дитя. Когда же через несколько дней малютку здоровой и невредимой вернули матери, было уже слишком поздно: в мозгу молодой женщины погасла последняя искра разума. Если бы ее помешательство носило тихий и спокойный характер, то она, пожалуй, могла бы провести остаток дней рядом со своей матерью и дочуркой; однако у нее порой наступали приступы буйства, и тогда трудно было ее сдержать и предотвратить вред, который она в бессознательной ярости могла причинить себе самой и своим близким.
В Гаване не было дома для умалишенных, и хотя некоторых женщин, потерявших рассудок, и принимали в такие приюты, как, например, больница Де-Паула, но те больные, семьи которых не в состоянии были обеспечить им ухода – а таких было большинство, – свободно бродили по улицам, становясь посмешищем для мальчишек и внушая ужас богобоязненным людям. Одной из таких несчастных была Долорес-Санта-Крус, о которой упомянула в разговоре с Хосефой смотрительница больницы Де-Паула.
Долорес-Санта-Крус была когда-то невольницей и принадлежала знатному семейству Харуко, чью фамилию ей и дали. Благодаря ловкости и бережливости она добилась освобождения и сумела сколотить капиталец. Долорес приобрела себе домик, завела собственных рабов и занялась перепродажей мяса и фруктов, что было довольно доходным предприятием в ту пору.
Неизвестно по какой причине кто-то опротестовал через суд ее права на владение этим маленьким хозяйством. Началась длительная и дорогостоящая тяжба, которая в конце концов была выиграна, правда ценою взяток, подкупов, подношений и подарков адвокатам, прокурорам, нотариусам, судебным чиновникам, судьям и заседателям; дело это, однако, поглотило стоимость и домика и двух рабынь. В один прекрасный день несчастная женщина была не фигурально, а буквально выброшена за дверь собственного дома.
Для женщины, которая так любила деньги и так ценила блага, приобретаемые с их помощью, удар этот оказался слишком жестоким. Быть рабой, выкупиться на волю и стать свободной, приобрести дом, состояние, самой владеть рабами – и вдруг оказаться пригвожденной к столбу иного рабства, рабства нищеты, – нет, пережить подобную катастрофу и не потерять рассудок невозможно! И у обездоленной негритянки действительно помутился разум; с тех пор, одетая в лохмотья, с искусственными цветами и соломой в волосах, подобно Офелии, с длинной палкой в руках и нищенской сумой Долорес днем и ночью бродила по улицам, неистово выкрикивая:
– А вот и я! А вот и я! Вот идет Долорес-Санта-Крус. Я не имейт деньга, я – голодный, бесприютный. Воры взяли, что я имейт. Вот идет Долорес-Санта-Крус!
Вообразите же, дорогой читатель, что произошло бы, если бы дочь сеньи Хосефы, столь же незадачливая и в своем материнстве, как и родная ее мать, разоблачила в безумии имя виновника или, быть может, нескольких виновников своего несчастья и поведала о том, каким образом была она доведена до нынешнего своего плачевного состояния. Подобного скандала нельзя было допустить, и его действительно не допустили. Сколь ни прискорбна была жертва, надлежало принести ее сполна, поскольку от нее до некоторой степени зависело также здоровье и благополучие невинной малютки, явившейся косвенной причиной болезни своей матери. Не следовало также допускать, чтобы девочка, подрастая, поняла, что мать ее умалишенная и что безумие делает ее посмешищем в глазах людей. «Еще не настало время, – думала бабушка, – чтобы дочь и мать вновь встретились. И, возможно, разлука их будет вечной».
Никогда еще мысли эти не возникали в душе Хосефы столь отчетливо, как сейчас, и она сидела, глубоко задумавшись, когда неожиданно кто-то постучал во входную дверь. Словно очнувшись от тяжелого сна, Хосефа поднялась, чтобы открыть стучавшему. Перед нею стоял одетый в простое крестьянское платье, с кувшином под мышкой и жестяной кружкой в руке, продавец молока, уроженец Канарских островов, судя по его характерному выговору. Поздоровавшись со старухой, он сказал:
– Этак бы я, хозяюшка, и до завтрего мог стучаться. Ей-ей, уж третий раз приношу вам молоко.
– Я в церковь ходила, – ответила сенья Хосефа, подавая кастрюлю для молока.
– А я уж подумал – никак они тут в доме все перемерли.
– Я только сейчас вернулась домой.
Тут продавец молока как-то странно взглянул на старуху и добавил:
– Глядите в оба, хозяюшка, недаром же в пословице сказано, что не спится тому, у кого есть враги.
– Нет у меня врагов, благодарение богу.
– Это вам так только кажется, хозяюшка… У кого на свете нет тайных врагов? Вот у вас, хозяюшка, к примеру, дочка-красавица.
– Дочка? Нет, что вы, это внучка.
– Э, все едино. Стало быть, внучкина красота и есть враг вашему покою, хозяюшка. Не найдется парня, что не помирал бы из-за красивеньких мордашек. Провалиться мне на этом место, коли я не видел здесь нынче утром одного пригожего молодца! Сейчас-то уж не помню, боюсь сказать, у дверей он стоял или у окошка… Но уж коли я его видел, так видел.
– Вы, хозяин, ошибаетесь, – сердито возразила Хосефа, вся задрожав. – Я уходила совсем не надолго, а у внучки моей и парня такого нет, что гонялся бы за ее красивеньким личиком, как вы говорите.
– Мое дело, хозяюшка, сказать, а уж вы там глядите в оба да будьте начеку, потому что коли я это видел, так, стало быть, видел.
Этот разговор послужил Чепилье поводом для новых беспокойств и огорчений. Она знала, что белый юноша из богатой семьи неотступно преследует ее внучку, что он делает ей дорогие подарки, предоставляет ей свой экипаж для поездок на балы в дни ярмарок; она знала также, что девушка явно платит ему признательностью за все эти знаки внимания. Но старушка была далека от того, чтобы поверить или хотя бы предположить, что молодой человек воспользуется ее отсутствием и, пока она будет в церкви или в больнице, сумеет улестить Сесилию, соблазнить девушку и погубить ее.
Тут сенья Хосефа вспомнила, что оставила внучку одну, поручив ее заботам соседки, и поэтому вполне возможно, что влюбленные могли договориться о свидании заранее и встретиться именно здесь, пока она ходила в больницу Де-Паула. Как бы там ни было, но ведь продавец молока утверждал определенно, что видел рано утром какого-то молодца не то у двери, не то у окна их дома. А может быть, он заходил и в дом? Случись такая беда – иди потом ищи виноватого! Неужели ее внучка пойдет по тому же пути, что и ее несчастная мать, и безвозвратно себя погубит?
– Ах! – воскликнула сенья Хосефа, падая на колени перед нишей, где находилось изображение скорбящей божьей матери. – Пресвятая дева! Что совершила я, что так сурово наказана? В чем моя тяжкая вина? Неужели вся моя жизнь была смертным грехом, хотя я того и не ведала? Ты знаешь, что я была хорошей дочерью, доброй сестрой и любящей матерью. Я старалась воспитывать своих детей в трепетном страхе перед господом! Я с величайшим усердием внушала им здравые понятия нравственности, добродетели и религии. Я точно соблюдала все, что велит наша святая матерь церковь. Зачем попускаешь ты, милосердная, щит и прибежище слабых, зачем попускаешь ты, чтобы искуситель в образе человека совратил со стези добродетели мою внучку – невинное дитя, кроткую овечку господню? Как позволяешь, чтобы он ввергал ее во грех, отвращая от нее милость всевышнего, как это случилось с ее несчастной матерью? Неужто и ты, смиреннейшая матерь божья, покинешь меня в этот грозный час испытания?
Сенья Хосефа была женщиной простой и понимала почти буквально слова своих молитвенников – тех единственных книг, что ей приходилось читать; однако сила глубокой веры, страх перед новым грозящим несчастьем, сознание тяжкой ответственности, которая пала бы на нее, если бы ее подозрения подтвердились, – все это преисполнило таким глубоким волнением сердце Хосефы, что слова горячей молитвы сами вдохновенно пололись из уст этой старой невежественной женщины, давая выход охватившим ее чувствам. И все же молитва принесла мало облегчения истерзанному сердцу сеньи Хосефы, ибо предупреждение канарца, сделанное своевременно и к месту, произвело на душу ее то же действие, что воткнутый в тело нож: если притронуться к нему, он причиняет боль; если вонзить его поглубже, он убивает. Она не могла забыть последних слов канарца, не могла не думать о них; они непрестанно звучали в ее ушах: «Коли я это видел, так, стало быть, видел».
Не переставали они звучать и в ушах Сесилии, которая проснулась еще задолго до того, как бабушка вернулась из церкви; однако на нее эти слова произвели совсем иное впечатление: они пробудили в сердце девушки гнев и негодование. Сесилия думала: кто просил этого человека лезть со своими предупреждениями? Что ему за дело, есть ли у нее возлюбленный или нет и говорила она с ним через дверь или через окошко? Да и к чему уверять, будто он здесь кого-то видел? Вот ведь проклятый деревенщина! И как только у него язык от таких слов не отсох? Конечно, он видел, как Леонардо входил и выходил, и если не стал на этом настаивать, то лишь потому, что бабушка не дала ему ни времени, ни повода для подобных утверждений.
И все же, как ни занимали эти мысли Сесилию, она не могла не заметить необычайного душевного состояния бабушки, которая не в силах была скрыть своего глубокого отчаяния и горя, порожденных, видимо, какой-то серьезной причиной. Но что же это была за причина? Сесилия находилась в полном неведении относительно того, что случилось в больнице Де-Паула. И ее встревоженная совесть по-своему истолковала эту загадку. Она совершила тяжкую ошибку, когда тайком от бабушки и вопреки ее строгому приказанию впустила в дом белого юношу, с которым ее связывало взаимное любовное влечение.
И, осознав это, высокомерная и независимая Сесилия испытала нечто такое, чего ранее она никогда не испытывала и чего сама не в силах была объяснить. Все в ней будто перевернулось. Перед лицом своей вины она вдруг показалась себе самой такой слабой, робкой и нерешительной, что ей стало стыдно за себя, стыдно перед бабушкой и перед своими подругами. С каким лицом предстанет она перед ними?
Продавец молока наверняка сегодня же утром станет распространять повсюду сплетни о ее поведении. Наверное, весь квартал знает уже о ее грехе, и как только она выйдет на улицу, на нее станут показывать пальцами и говорить так, чтобы она слышала: «Смотрите, вот она идет, эта девица, которая принимает своего поклонника у себя дома наедине всякий раз, как бабка ее уходит в церковь».
Но из всей этой путаницы Сесилия без особого труда уяснила себе две вещи: первое – что бабушка, возможно, еще не уверена в ее виновности, и второе – что для спокойствия их обеих нет иного выхода, как вести себя по возможности так, будто ничего не случилось, пока все не выяснится окончательно, и тогда только принять решение. Сообразив это, девушка осторожно встала с постели, накинула поверх рубашки платье и выглянула из двери спальни. Старушка все еще стояла на коленях, заканчивая импровизированную молитву. Сесилия опустилась на колени рядом с ней, обхватила ее рукой за талию и, поцеловав в щеку, спросила с выражением самой трогательной нежности:
– Мамочка, что с вами? Чем вы так опечалены?
Старая женщина не ответила ни слова, села опять и кресло и залилась слезами. Ничто не действует так заразительно, как плач, а Сесилии в ее нынешнем состоянии духа не много было нужно, чтобы расплакаться; она бросилась в объятия бабушки и смещала свои слезы с ее слезами; обе нуждались в том, чтобы выплакать свое горе, хотя причины его были прямо противоположны. Возможно, это благоприятное стечение обстоятельств и душевное состояние обеих женщин привели бы к решительному объяснению между ними, которое могло оказаться благотворным для обеих. Но тут в дверь снова постучали, и сенья Хосефа, поднявшись с колен, пошла открывать, вытирая по дороге мокрые от слез щеки. Вошла продавщица мяса, масла и яиц, уроженка Африки, разносившая свой товар на четырехугольном лотке, который она водружала на голову, подкладывая под него особую круглую подушечку. В правой руке торговка держала ветвь кокосовой пальмы, служившую ей для того, чтобы отгонять от товара назойливых мух.
Потому ли, что негритянка была довольно толста или из-за жары, а может быть – из-за обычной среди цветных неряшливости, но вся одежда этой женщины состояла только из полосатой юбки и кургузой безрукавки с узкими плечиками, давно утратившей свой первоначальный белый цвет и оставлявшей открытыми на греческий или римский манер не только руки и плечи, но чуть ли и не всю спину негритянки. И обнаженная кожа этих частей тела, равно как и круглые пухлые щеки ее блестели так, словно она, по обычаю своей страны, намазала их салом. Башмаков на ней, разумеется, не было, и при ходьбе она шаркала открытыми сандалиями, державшимися на пальцах ног. Как только сенья Хосефа открыла дверь, торговка сняла свой лоток с головы, поставила его у порога и пронзительно-тонким голосом, не соответствовавшим ее пышным формам, заговорила, коверкая слова:
– Добрый день, хозяин. Ничего не берешь мне сегодня? Я еще никому не продавал.
Сухо ответив на приветствие, сенья Хосефа помогла торговке поставить лоток на пол и попросила ее поскорее отпустить ей на один реал пшеницы, на полреала яиц и еще на полреала масла. Негритянка отрезала мяса на глазок, с добрым походом, и вместе с остальными продуктами положила на блюдо, принесенное Сесилией. Но едва увидела девушку, как ее точно прорвало.
– Наш Гавана пропадай, хозяин, право, пропадай. Всех подряд убивайт и грабил, – трещала она. – Вот токо-токо своим глазом видел – раздевайт один добрый человек. Красивый-красивый белый господин. Один мулат сзади, другая негр впереди прижали белый господин к пушка около угол Санта-Тересе. Взяли нож, хотели убить белый господин. Средь бело дня отнимайт у него часы и денег. Я не хотел гляди. Проходи много люди. Я знает негр, она сын моя муж. Ах, какая страх мне. Весь груд дрожит! – Эта беспорядочная и невразумительная речь напугала Сесилию: у нее мелькнула мысль, не ее ли возлюбленного ограбили на улице, но она притворилась безразличной, а торговка мясом продолжала: – Тама, коло крепость, прошлый ночь был суматох: Тонда хотела хватать, кто убила хозяин погреб на улица Манрико и Эстрелья. Они была на похороны. Гобернадор приказал хватай их. Тогда Тонда брал своя шпага и хватай два человек. Маланга, сын моя муж, бежит через проходной дворы и сичас все прятаться. Эта самая плохая дела. Вот, хозяин, теперь ты все знай. Никого нельзя верит. До свиданья, хозяин! Добрый здоровье!
После ухода торговки пришел булочник с корзиной хлеба на голове и в сопровождении негра, следовавшего за ним точно тень. Только когда ушли и они, сенья Хосефа вспомнила о том, что пора приготовить завтрак. Как мы говорили уже в начале нашего рассказа, кухонный очаг находился в патио, под плоским навесом, в котором не было ни трубы, ни иного приспособлении, заменяющего ее. Там с помощью кремня, огнива, серы, свечного огарка и небольшого количества древесного угля старая женщина развела огонь, и немного погодя завтрак был готов. Сесилия тем временем успела накрыть на стол, и обе женщины сели за него. Они долго ни к чему не притрагивались и сидели, не поднимая глаз от тарелок, не произнося ни слова. Сесилия не смела взглянуть на бабушку, страшась, как бы та не прочла вину в ее глазах, но и Чепилья была расстроена и не могла совладать со своими чувствами. Неоднократно пыталась она заговорить, но каждый раз голос у нее осекался и вместо членораздельных слов вырывались рыдания. Наконец она сделала последнее усилие и сказала:
– Лучше бы мне умереть теперь же.
– Храни вас бог! Что вы говорите, мамочка! – воскликнула Сесилия, не поднимая головы.
– А почему бы мне так не говорить, если это теперь мое единственное желание? Зачем мне жить? Кому я нужна? Я только мешаю, больше ничего.
– Вы никогда так раньше не говорили.
– Возможно, но до сих пор я сносила любые невзгоды, какими бы жестокими они ни были. А теперь я уже состарилась, у меня нет сил, я больше не могу. Вот я и думаю, что лучше было бы мне умереть.
– Не говорите так, грех ведь жаловаться на труды и страдания, которые нам ниспосылает господь. Вспомните, как Иисус Христос нес свой крест до самой Голгофы.
– Горькая, горькая моя доля! Вот уж много лет, как я иду по крестному пути и уже давно на Голгофе! Остается только распять меня, и этим, видно, распорядятся те, кого я люблю больше всего на свете.
– Если вы, мамочка, говорите обо мне, то знайте, что вы поистине несправедливы. Видит бог, если бы для облегчения ваших страданий понадобилась моя жизнь, я без колебаний отдала бы всю свою кровь до последней капли.
– Что-то этого не видно, не скажешь, не скажешь по тебе этого! Куда там! Похоже, что ты бываешь рада, когда можешь делать мне наперекор, особенно если я тебе что-нибудь запретила. Если бы ты любила меня, как говоришь, ты бы не делала того, что делаешь…
– А, теперь я вижу, куда вы клоните.
– Я клоню туда, куда следует, куда должна клонить каждая мать, которая хоть немного заботится о будущем своих детей и о своем добром имени!
– Если бы вы не подставляли уши всем сплетникам да длинным языкам, у вас было бы меньше неприятностей.
– Видишь ли, девочка, на сей раз сплетня сходится с тем, что я видела собственными глазами и слышала собственными ушами, и пусть я оглохну и ослепну, коли это не так!
Осмелев в пылу спора, девушка спросила:
– Что же такое могли вы сами видеть и слышать кроме того, что вам насплетничали? Скажите мне.
– Сесилия, мне ясно как божий день, что, невзирая на мои увещевания и советы, ты ищешь своей гибели, как бабочка, когда она летит на огонь свечи.
– А что, если тот человек, на которого вы намекаете, женится на мне и я буду жить в богатстве, ходить в шелку и в бархате? Что, если он сделает из меня сеньору и увезет с собой в другие края, где никто меня не знает? Что вы тогда скажете?
– Я сказала бы, что это несбыточная мечта, пустой вздор, бредни. Во-первых, он белый, а ты цветная, как бы ни скрывали этого твоя перламутровая кожа и твои шелковистые черные волосы. Во-вторых, он из богатого и известного в Гаване дома, а ты бедна и происхождение твое темно… В-третьих… Впрочем, к чему я так стараюсь? Есть самое главное препятствие, гораздо большее, и оно непреодолимо… Ты – легкомысленная девчонка, неисправимая, себе на погибель… Боже мой, что я такое сделала, за что так наказана?!
Последнее восклицание сенья Хосефа произнесла уже стоя, заткнув пальцами уши, словно боясь вновь услышать из уст Сесилии подтверждение того, что внучка усвоила себе весьма опасную точку зрения на свое замужество. Сесилия тоже встала и хотела подойти к бабушке, то ли с тем, чтобы успокоить ее, то ли чтобы оправдаться и объяснить ей или дополнить свою мысль; на полпути она остановилась, ибо в этот момент с улицы заглянуло в полуоткрытую дверь уже хорошо знакомое читателю лицо Немесии.








