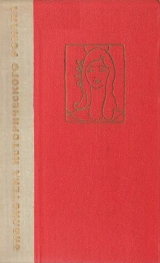
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
Ко всему этому надлежит добавить, что у метрополии не было военного флота в подлинном смысле этого слова: насчитывалось лишь несколько неповоротливых и почти прогнивших парусных судов. Если не считать Гаваны, то на острове не имелось и настоящих военных крепостей. Малочисленный гарнизон состоял из ветеранов, но и в их ряды проникало неповиновение. В числе солдат было немало таких, кто уже отслужил срок, а также выходцев из Мексики и Колумбии, завербованных по договору, да и старшие офицеры не все были испанцами. Во всех родах войск служили к тому же уроженцы Кубы, или креолы, которые никогда не внушали к себе доверия со стороны правительства, самого подозрительного во всей истории Испании, если не считать эпохи Филиппа II.
С другой стороны, беспорядочное управление колонией, опустошенная казна, продажность и развращенность судей и чиновников, упадок нравов и общая отсталость – все это вместе взятое угрожало гибелью тому обществу, которое подтачивалось в результате всякого рода злоупотреблений за длительные годы бесправия. В течение шести лет, что Вивес правил страной, ни жизнь людей, ни их имущество не находились в безопасности как в населенных местах, так и в открытом поле. Повсюду хозяйничали шайки свирепых разбойников, предававших все огню и мечу. Соседние моря безнаказанно бороздили корсары, уроженцы только что обретших свободу колоний, которые нарушали и без того жалкую торговлю Кубы. На близлежащих островках скрывались пираты, которые, занимаясь контрабандой, захватывали спасшиеся от корсаров суда, грабили их и, перебив команду, сжигали, чтобы замести все следы преступления.
Таково, в общих чертах, было положение вещей на острове Куба вплоть до самого 1828 года. Совершенно ясно, что если бы Соединенные Штаты не вмешались услужливо в события 1826 года, объединенные силы Мексики и Колумбии вторглись бы на принадлежавшие Испании Антильские острова в соответствии с планами Боливара и чаяниями самих кубинцев, которые выслали свою депутацию для встречи героя, когда он возвращался с победой с прославленных полей Аякучо [55]55
Аякучо —плато в Перу, где 9 декабря 1824 года испанские войска были наголову разбиты колумбийскими патриотами.
[Закрыть]. Произойди это вторжение, испанскому владычеству в Новом Свете был бы неминуемо нанесен окончательный удар. Для того чтобы при столь критических обстоятельствах по меньшей мере обезвредить происки врагов Испании внутри самой колонии, требовалось скорее искусство дипломата, нежели меч воина: нужен был человек, скорее лукавый и хитроумный, нежели решительный; характер, склонный скорее к интригам, нежели к насилию, скорее гуманный по расчету правитель, нежели суровый по натуре государственный муж, скорее Макиавелли, нежели герцог Альба. Именно таким человеком и был Вивес, на редкость удачно избранный на пост правителя Кубы самым деспотичным из всех испанских правительств текущего столетия.
Дон Кандидо крайне обрадовался, когда увидел одного из своих знакомых среди знатных особ, которые явились на прием к губернатору в его галерою, находившуюся во дворе крепости. Вид этого знакомого говорил отнюдь не в его пользу: он был маленького роста, рахитичного сложения и по привычке вбирал голову в плечи. Его длинное, оливкового цвета лицо говорило о желчном характере. Вся его неприглядная внешность вызывала отвращение. Однако в крошечных, глубоко сидящих глазах светились ум и темперамент, с лихвой искупавшие изъяны и пороки его облика. Приветствуя этого человека, дон Кандидо назвал его доктором.
– Как поживаете? – пропищал тот фальцетом и холодно улыбнулся.
При этом ему пришлось задрать голову, ибо собеседник был по крайней мере на две пяди выше его ростом.
– Все было бы хорошо, – ответил Гамбоа, – если бы не хлопоты, в которые меня вовлекли помимо моего желания.
– А что за хлопоты? – спросил доктор, видимо просто из вежливости.
– Да как же! Неужто вы не знаете, что эти собаки англичане только что задержали бригантину под жерлами орудий башни Мариеля – как говорится, у нас под носом; они утверждают, будто, это невольничье судно, прибывшее из Гвинеи. Но на сей раз они здорово опростоволосились: бригантина пришла не из Африки, а из Пуэрто-Рико, и не с африканскими неграми, а с индейцами, говорящими на испанском языке.
– В самом деле? А я вот ничего не знал. Правда, у меня столько больных, что, как говорится, и в затылке почесать некогда, а не то что истину выяснять. Уж если кому и вредит чрезмерная ретивость англичан, так это мне, ибо моей кофейной плантации в Агуакате чрезвычайно нужны рабочие руки.
– А кому они не нужны? Все мы, плантаторы, нуждаемся в них, как в хлебе насущном. Без них погибнут и поместья наши и плантации! А этого-то, видимо, и добиваются безбожники англичане, разрази их господь! Как по-вашему, доктор, – губернатор придерживается на этот счет того же мнения, что и мы?
– Увы, об этом, в частности, он при мне ни разу не высказывался.
– Но, может быть, вы слышали, как он выражался…
– Об англичанах? – продолжал доктор. – Да, безусловно. Конечно, Тольме порядком надоел ему, и его превосходительство не в силах больше терпеть его наглость и творимые им бесчинства.
– Так, так, – обрадовался Гамбоа. – Недаром говорят, что вы пользуетесь непререкаемым авторитетом у его превосходительства.
– Да? Неужто ходят такие слухи? – спросил доктор, показывая всем своим видом, что такое мнение немало льстит его тщеславию. – Правда, его превосходительство удостаивает меня своим вниманием и даже как-то выделяет среди других, но в этом нет ничего удивительного: ведь я его личный врач и лечу всю семью с того времени, как они приехали из Испании, да и к тому же всем известна его простота в обращении. Меня он, во всяком случае, ценит и относится ко мне хорошо.
– Я это знаю и слышал от многих… И вот я подумал, вернее – мне пришло в голову, что вы, к кому так прислушиваются, могли бы помочь нам сыграть хорошую шутку с англичанами и оставить их с носом. Я убежден, дорогой доктор, что вы не пожалеете, коли протянете нам руку помощи в нашей беде.
– Не совсем понимаю вас. Нельзя ли яснее, дон Кандидо?
– Благоволите взять на себя, доктор, спасение экспедиции. Если захваченный англичанами груз будет полностью спасен, то нам, его хозяевам, он даст чистыми восемнадцать тысяч золотых унций. Пусть мы потеряем даже половину – все же у нас останется девять тысяч чистой прибыли, а это на полу не валяется. Как видите, мы вполне можем позволить себе щедрость в отношении тех, кто нам помогает. Вы бы сами выбрали себе из этой партии с полдюжины молодых негров, притом из самого отменного товара, что поступает к нам с побережья Гальинаса. Вам бы стоило только…
– Пока что я ничего но понимаю, сеньор дон Кандидо.
– Ну, в таком случае я поясню вам. Экспедиция состоит из пятисот негров; триста из них, наверное, могут сойти за индейцев, говорящих по-испански и вывезенных из Пуэрто-Рико; сегодня утром на борт бригантины доставили около четырехсот смен грубой холщовой одежды. Так вот, коли его превосходительство полагает, что мы нуждаемся в рабочих руках для обработки полей и что не следует допускать, чтобы англичане губили наше богатое земледелие, то он не сможет не встать на нашу сторону, особливо если найдется кто-нибудь, кто поговорит с ним и обрисует ему надлежащим образом положение вещей. Одного вашего слова сеньору дону Хуану Монтальво из смешанной комиссии было бы достаточно, чтобы решить это дело в нашу пользу. И вы увидите, умеем ли мы быть щедрыми… К тому же пять-шесть негров не попадут ни в одну из партий, и, поверьте, нас, восьмерых судовладельцев, они не сделают ни богаче, ни беднее… Теперь вам понятна моя мысль?
– Разумеется. Можете рассчитывать, что, со своей стороны, я сделаю все, что в моих силах; мною движет, кстати, не столько ваше предложение, сколько желание услужить вам и способствовать тому, чтобы англичане были наказаны за свою заносчивость и злонамеренность. Полагаю, что вы решили обратиться к его превосходительству именно по этому вопросу.
– Да, именно для этого я пришел сюда с моими друзьями Гомесом, Маньеро и Мадрасо. Вы их, должно быть, знаете?
– Мадрасо я знаю только понаслышке, его поместье в Манимане входит в тот же округ Баия-Оида, что и мои плантации в Агуакате.
– И он и другие заинтересованные лица будут полностью согласны на все, о чем я условлюсь с вами. Раз вы считаете, что его превосходительство примет небольшой подарочек в несколько сот золотых унций…
– Предоставьте это мне. Я знаю, как подойти к его превосходительству. Сегодня же вечером я поговорю с ним, но сначала побеседуйте с ним сами. Кстати, пока я не забыл: что с той маленькой девочкой?..
– Какой, простите? Не догадываюсь… – ответил Гамбоа, заливаясь краской.
– Короткая же у вас память, как я посмотрю. Правда, прошло уже порядочно времени, но тогда вы приняли большое участие в судьбе этой девочки и настойчиво просили меня помочь ей.
– Ах, вот что! Ну, это другое дело… Она в больнице Де-Паула…
– Как в больнице!.. Неужто хворает?
– Еще того хуже, доктор. Полагаю, что она совсем потеряла рассудок.
– Да не может быть! Такая молодая?
– Теперь уж не такая!..
– Уверяю вас, совсем молоденькая. Постойте, сколько же времени прошло? Лет шестнадцать – семнадцать. Это было в восемьсот двенадцатом или тринадцатом году. Я твердо убежден. Больше ей и быть не может.
– Так вы не о матери говорите?
– Я вас спрашиваю о девочке, которую помню еще по Королевскому детскому приюту. Малютка обещала стать красавицей.
– Наконец-то я понял. Путаница произошла оттого, что для меня всякая молоденькая девица – девочка, ну а мать-то, конечно, к этому разряду не причислишь!
– Разве вы не припоминаете, – продолжал доктор, – что не я лечил ту женщину, о которой вы говорите, а Росани, хотя он и советовался со мной не раз по поводу этого случая? А я – то и понятия не имел, что больная из переулка Сан-Хуан-де-Дьос имеет отношение к малютке из Королевского приюта. Теперь мне все становится ясно. У матери была послеродовая горячка с острым менингитом…
Тут Гамбоа внезапно прервал разговор и присоединился вновь к своим друзьям. Маньеро спросил у него:
– Ну что это оказалось на поверку – кот в мешке?
– Нет, кошка, – вспылив, ответил Гамбоа.
– Я так и думал, – невозмутимо отозвался Маньеро. – Ты всегда любил кошачьи дела. А кто же, черт побери, этот человечек, которого ты величаешь доктором?
– Да разве ты его не знаешь?.. Доктор дон Томас де Монтес де Ока.
– Мне, помнится, называли это имя, но в лицо я его не видел. Фигура, прямо скажем, нелепая, и к тому же…
– Хороший врач и искусный хирург.
– Не дай бог попасть в его руки.
– Он лечит семью губернатора.
В это время среди лиц, которые стояли ближе к доктору, произошло движение, и тотчас же прекратились негромкие разговоры между теми, кто стоял поодаль. Падрон отнес каждого петуха в его клетку, а Вивес приветливо поздоровался с Лаборде, Кадавалем, Суритой, Молиной и Кордовой, обходя их всех по очереди, остановился наконец перед молодым негром, о котором мы уже упоминали, и, не подавая руки и не отвечая на приветствие, сказал ему:
– Тонда, ступай к секретарю за приказами.
Тут нам надлежит сделать некоторое отступление и сказать несколько слов по поводу Тонды. Это был негр, пользовавшийся особым покровительством губернатора Вивеса, который извлек его из рядов цветного ополчения, где тот дослужился уже до чина лейтенанта; после того, как. Тонда был произведен в капитаны и его величество король милостиво разрешил ему титуловаться доном и носить саблю, Вивес возложил на него обязанности по розыску цветных преступников в окрестностях города, должно быть потому, что нет того лютее, кто своих же собратьев бьет.
И в этом и во многих других случаях, которые можно было бы здесь привести, сказывались чутье и сноровка, облегчавшие Вивесу выбор нужных ему людей. Стоит ли добавлять, что избранник его вскоре же стал выделяться своей энергией, усердием и смелостью в раскрытии преступлений, а также в преследовании и поимке самих преступников. В этих столь трудных, сколь и опасных делах на помощь ему приходили его молодость и сила, представительная внешность и солидное образование, изящные манеры и большая сдержанность и, наконец, непоколебимое мужество, доходившее порой до безрассудной смелости. Благодаря этим качествам женщины восторгались им, а соплеменники причудливо наделяли его каким-то сверхъестественным превосходством над остальными людьми. И, как это часто случается с романтическими персонажами, народ прославил громкие подвиги храбреца в посвященных ему песнях и плясках и дал ему новое имя, которое до такой степени затмило подлинное имя негра, что и по сие время, спустя уже сорок лет, мы можем лишь сказать, что звали его Тонда.
Будучи исполнительным и преданным чиновником, он поспешил выполнить полученный приказ; для этого ему пришлось подняться со стороны крепостного двора в первый этаж губернаторского дворца. Политической канцелярией в ту пору руководил дон Хосе М. де ла Торре-и-Карденас. Он встретил Тонду с улыбкой, однако сесть ему не предложил и, едва ответив на его почтительное приветствие, ограничился сообщением о том, что прошлой ночью полицейский инспектор квартала Гуадалупе Барредо сообщил, будто на перекрестке улиц Манрике и Эстрелья было совершено чудовищное преступление и что его превосходительство повелел быстрее заняться этим делом, с тем чтобы можно было начать неустанное преследование виновника или виновников, пока они не будут пойманы и преданы суду, ибо губернатор твердо решил подвергнуть их примерному наказанию.
Между тем дошел черед до делегации плантаторов, и Маньеро, четко изложив суть дела, свел свою речь к тому, что по всем законам не подобает, чтобы бригантина «Велос», находящаяся сейчас в порту Гаваны, была объявлена призом, ибо, вопреки утверждению смешанной комиссии, хотя бригантина и перевозила груз, состоящий из негров, как свидетельствуют документы, составленные по всей форме, пришла она непосредственно не из Африки, а из Пуэрто-Рико, и даже если считать контрабандой торговлю рабами с первой из этих стран, то это не относится ко второй из них, которая, по счастью, как и весь остров Куба, принадлежит короне его величества короля Испании и Вест-Индии дона Фердинанда Седьмого, да хранит его господь.
Генерал Вивес улыбнулся и сказал просителю, чтобы тот представил ему памятную записку с изложенном всех доводов и со ссылками на факты, а он-де передаст ее в смешанную комиссию вместе с судовыми документами; губернатор сказал также, что получил уже сведения о случившемся из уст самого английского консула, который вместе с командиром британского фрегата лордом Кларенсом Пейджетом был у него до начала аудиенции. И не без некоторой строгости, которая чувствовалась и в голосе и в выражении лица, Вивес добавил:
– Я признаю, сеньоры, несправедливость и ущерб, причиняемые нам договором, по которому Англии, подлинному врагу наших колоний, предоставляется право осмотра наших торговых судов. Но министры его величества в своей высокой мудрости почли за благо подтвердить это право, а нам, верноподданным, остается только почтительно блюсти закон и повиноваться приказу августейшего монарха, да хранит его господь. И я полагаю, сеньоры, что если вы намерены уважать договор, то должны так или иначе и выполнять его. Тщетно притворяться, будто я не вижу того, чем вы занимаетесь изо дня в день (когда я говорю так, сеньоры, то не имею в виду лично вас, но всех тех, кто занимается работорговлей, кто вывозит негров из Африки): судя по всему, вы не остановитесь даже перед тем, чтобы снарядить экспедиции в Банес, в Кохимар, в Аркос-де-Капаси и даже в наш порт. Видимо, напрасно я приказал разобрать большие бараки на Пасео, ибо вы до сих пор ничему не научились и продолжаете ввозить негров к нам в крепость, убежденные, несомненно, в том, что для сбыта этого товара лучшего рынка и не найти. В такие минуты вы не вспоминаете о несчастном губернаторе, против которого английский консул мечет громы и молнии, ибо стоит только поступить сюда, пользуясь вашим выражением, мешку с углем, как англичанин, пронюхав об этом, сразу делается словно одержимым и начинает срывать на мне свое дурное настроение.
Итак, ступайте с богом и будьте в следующий раз более благоразумны. Кстати, по поводу благоразумия: вчера вечером пришел ко мне молодой приказчик из торгового дома и пожаловался на то, что у него на площади Сан-Франсиско среди бела дня отобрали мешок с деньгами, принадлежащий его хозяину. Можно ли совершить бóльшую неосторожность, чем идти по улице с деньгами напоказ, искушая дурных людей? Жаловался мне еще один, что вчера к вечеру двое негров с кинжалами остановили его возле статуи Карла III и ободрали как липку, захватив, кроме денег, часы и другие вещи. «Если бы у вас была хоть капля благоразумия, – сказал ему я, – вы бы не стали рисковать, проходя по такому пустынному месту, как Пасео, с наступлением темноты, то есть в такую пору, когда всякий преступник только и норовит совершить свои злодеяния. Берите пример с меня: я ведь не выхожу на улицу по ночам». Советую и вам, сеньоры: не попадайтесь в лапы англичан, тогда вы и экспедиции ваши спасете и не набросите тени на честь губернатора. Благоразумие – это первая из всех добродетелей на свете.
Глава 9Я о тебе подумал, и тогда
Рыдать меня заставила природа.
Хосе Мариа Эредиа
Дворецкий, дон Мелитон Ревентос, был в доме Гамбоа личностью куда более значительной, нежели это можно себе представить. В деле управления хозяйством его мнение значило больше, чем мнение самого хозяина, а иной раз он мог потягаться и с доньей Росой.
Но поистине огромна была его власть над невольниками. Ему было поручено одевать и кормить не только тех из них, что составляли домашнюю челядь в Гаване, но и тех, что жили в загородных поместьях Гамбоа. С первыми он держал себя как полновластный хозяин, даже как сущий деспот. Однако по отношению к слугам дворецкий делал два исключения. Прежде всего он не любил вступать в пререкания с кучером Апонте, не только потому, что тот был человеком хмурым и многие его побаивались, но и потому еще, что это был кучер общего баловня семьи – молодого Гамбоа, который не желал никому уступать права наказывать своего раба.
Точно так же дон Мелитон не позволял себе грубости в обращении, даже на словах, когда дело касалось Долорес. Напротив того, дворецкий приберегал для нее и улыбки, и гостинцы, и всевозможные знаки внимания. Время от времени он дарил ей косынки и различные безделушки, которые девушка не колеблясь принимала (хотя всякий раз, когда она их надевала, ей приходилось обманывать своих сеньорит), ибо в конечном счете ее тщеславию немало льстило, что белый человек столь любезен и предупредителен с ней.
Впрочем, дворецкий выделял Долорес вовсе не потому, что она была горничной сеньорит и вся семья относилась к ней с известным уважением, – нет; причина его внимания к ней таилась в чисто женской обаятельности, присущей молодой девушке: она была молода, хорошо сложена и для негритянки недурна собой.
В тот день, когда дон Мелитон, выполнив поручение касательно бригантины «Велос», сидел с видом хозяина на почетном месте в столовой и завтракал, а его старательно обслуживал Тирсо, случилось так, что Долорес, проходя мимо, задела его локтем, причем он в эту минуту подносил ко рту стакан вина. Было ли то сделано девушкой нечаянно или преднамеренно, сказать трудно, но дворецкий не преминул воспользоваться случаем и ущипнул ее за хорошенькую голую ручку.
– Ай, дон Мелитон! – воскликнула она, хотя и не слишком громко, дотрагиваясь рукой до больного места.
– Ай, Долорес! – передразнил он ее, покатываясь со смеху.
– Да ведь больно! – добавила девушка.
– Пустяки, потерпи. Придется мне все же отпустить тебя на волю.
Долорес издала губами звук, подражающий шипению яичницы на сковороде, показывая тем, что она ничуть не верит в искренность последних слов дворецкого. Но слишком сладостна свобода, чтобы молодая невольница могла пропустить мимо ушей такое обещание и не затаить в сердце надежду на его осуществление: она готова была пойти на любую жертву, которую потребовал бы от нее тот, кто бы ей это посулил. Дворецкий же, провожая девушку взглядом, пока та не скрылась под аркой патио, прошептал: «Чего доброго, еще выйдет замуж за этого мошенника Апонте. А жаль было бы!»
Мария-де-Регла, о которой мы упоминали в начале этой истории, родила Долорес в законном браке с поваром Дионисио за пятнадцать лет до настоящих событий. В то же время у доньи Росы родилась Адела, ее младшая дочь, которую сеньора препоручила заботам Марии-де-Регла, чтобы та выкормила ее, ибо сама она чувствовала себя не в состоянии выполнять самую приятную из всех материнских обязанностей. Разумеется, для выполнения столь отрадного поручения негритянка была вынуждена отнять от груди Долорес и кормить ее коровьим пли козьим молоком, начисто отделив свою собственную дочку от ребенка своей госпожи и хозяйки.
Марии де Регла было строго запрещено не только делить материнскую ласку и драгоценный дар своей груди между двумя крошками, но даже и брать их одновременно на руки. Однако, будучи рабой, страшившейся наказания, которым ей постоянно угрожали, Мария-де-Регла не переставала все же быть матерью: она нежно любила свое собственное дитя – любила, пожалуй, еще нежнее именно потому, что ей не позволяли кормить его грудью. Поэтому поздней ночью, вдали от господских взоров, всякий раз, когда другие невольницы предоставляли ей возможность покормить грудью обеих девочек, Мария-де – Регла делала это с несказанной радостью. Благодаря безупречному здоровью кормилицы молока у нее хватало с лихвой на двоих. Обе молочные сестры росли здоровыми и крепкими. Мария-де-Регла не делала никакой разницы между ними, и младенчество их так и протекало бы в полной безмятежности, если бы у кормилицы не начало пропадать молоко и девочки не стали бы пытаться с криком оспаривать его друг у друга, в особенности белая, не привыкшая к какому бы то ни было дележу.
Как-то ночью донья Роса, привлеченная громким плачем дочки, вошла в комнату и застала негритянку спящей: по обе стороны от нее лежали девочки, которые тянулись к груди кормилицы ручонками, мешая друг другу наслаждаться чудесным напитком. Что предпринять в подобном случае? Тут же наказать рабыню за ослушание? Сменить кормилицу? Ни то, ни другое не годится, подумала донья Роса. Первое – потому, что в результате наказания у невольницы могло бы испортиться молоко; второе – потому, что резкая смена грудного молока после восьми месяцев кормления могла бы сказаться роковым образом на здоровье маленькой Аделы, а может быть, поставила бы под угрозу и жизнь ребенка. В полнейшей нерешительности донья Роса посоветовалась с мужем, который, при всей своей несдержанности, порекомендовал ей, однако, быть благоразумной и до поры до времени не предавать проступок Марии-де-Регла огласке. «Достаточно и того, что мы обо всем знаем, – сказал он. – Впредь она на это не осмелится». Как бы то ни было, все шло по-прежнему еще в течение полутора лет, когда в один прекрасный день дворецкому было приказано прогнать кормилицу, посадить ее на шхуну, совершавшую рейсы между Гаваной и Мариелем, и сдать, с надлежащей рекомендацией, управляющему инхенио Ла-Тинаха. В 1830 году негритянка работала там сиделкой, отбывая наказание за то, что тринадцать лет назад она посмела быть любящей матерью.
Что рабство способно исказить в голове хозяина представление о том, что справедливо и что несправедливо, что оно заставляет человека упрятать подальше свою отзывчивость, что оно способствует ослаблению самых тесных уз между людьми, что оно притупляет чувство собственного достоинства и заставляет померкнуть даже чувство чести – все это понятно; но что оно может сделать сердце бесчувственным к отцовской или братской любви или к внезапно вспыхнувшему влечению чьей-то любящей души – такое встречается не часто. Ничуть не удивительно поэтому, что Мария-де-Регла, сосланная на весь остаток дней своих в инхенио Ла-Тинаха, страдала в глубине души из-за разлуки с дочерью, и ее отцом, и самой Аделой.
В неписаном законе рабовладельцев не признается ни соответствия, ни общего мерила между преступлением и наказанием. Карают не ради исправления, а ради того, чтобы дать выход своей минутной страсти, и потому нередко случается, что за одну и ту же провинность раба подвергают нескольким наказаниям. И вот на Марию-де – Регла посыпалась, как говорится в народе, одна беда за другой. Изгнание из Гаваны, разлука – быть может, на всю жизнь – с дочерью и мужем, превращение из городской кормилицы в деревенскую сиделку, переход из подчинения прихотям дворецкого в полную зависимость от капризов управляющего поместьем – все это, по мнению доньи Росы, было недостаточным, чтобы искупить вину несчастной рабыни.
Этой сеньоре так и не удалось доподлинно установить, какую девочку, приблизительно за полтора года до рождения Долорес, кормила грудью Мария-де-Регла. У дона Кандидо она смогла выпытать только одно, а именно – что доктор Монтес де Ока нанял негритянку кормить незаконную дочь его друга, имя которого не подлежало оглашению. Деньги на оплату кормилицы в размере двух золотых унций донья Роса получала весь положенный срок с величайшей точностью, из месяца в месяц, из рук самого дона Кандидо. Однако это не только не умерило ее ревности, а, наоборот, явилось поводом для самых сильных подозрений: уже одна таинственность при этом была постоянной причиной обид и недоразумений между супругами, которые отражались рикошетом на Марии-де-Регла в виде придирок, граничивших порой с ненавистью.
К счастью, такие вспышки несправедливости и жестокости происходили в ту пору, когда девочки были еще несмышлеными, а так как росли они вместе и вскормлены были одним молоком, то любили друг друга как родные сестры, хотя и принадлежали к разным расам и разным слоям общества. Адела подросла и вместе со своей сестрой Кармен начала ходить в школу для девочек неподалеку от дома, Долорес носила им туда книги, в полдень приходила с фруктами и прохладительными напитками, а в три часа приходила за ними и провожала их домой. И даже когда сестры, уже взрослые девушки, окончили школу, Долорес, казавшаяся теперь старше своих молодых хозяек, не расставалась с ними ни днем, ни ночью. Днем она шила, сидя возле сеньорит, а ночью спала либо на полу рядом с кроватью Аделы, либо на жесткой раскладной койке в соседней комнате, на виду у другой служанки, самой старой из всех в доме.
Долорес и Тирсо были единоутробными братом и сестрой. Долорес родилась в Гаване и считалась негритянкой, ибо отец ее был негр; Тирсо был моложе ее, родился в инхенио Ла-Тинаха и считался мулатом, потому что его отец, хотя и не бог весть кто, был белым. Оттого-то они и не смотрели друг на друга как на брата и сестру, и Мария-де-Регла любила сильнее Тирсо за его более благородное, чем у Долорес, происхождение, ибо дочка унаследовала ненавистный цвет кожи, который, по мнению негритянки, был явной и основной причиной ее собственной беспросветной неволи. Но и тут самым сокровенным материнским надеждам Марии-де-Регла не суждено было сбыться: Тирсо, ее любимец, особой нежности к ней не питал; более того, ему было стыдно, что он родился от негритянки, да к тому же от деревенской сиделки. Долорес же, наоборот, обожала мать: каждый раз, когда до нее доходили слухи о плохом обращении с Марией-де-Регла в инхенио Ла-Тинаха, она горько плакала и слезно умоляла Аделу вернуть мать в Гавану, вырвать ее из того ада, где она так долго томилась только потому, что осмелилась кормить грудью собственную дочь вместе с дочкой ее господ. Адела чувствовала всю горечь этих скорбных сетований; несмотря на юность и некоторую рассеянность, она, лежа в постели, внимательно слушала в глубокой ночной тиши Долорес, которая, опустившись на колени у ее изголовья, рассказывала о печальной участи Марии-де-Регла в инхенио, о ее тяжком труде и невыносимых страданиях. Аделу это трогало до слез, и, уже мучительно позевывая, она давала своей служанке обещание поговорить обо всем на следующий день с доньей Росой. Нередко молочные сестры так и засыпали, и почти всегда их щеки бывали мокры от слез.
Но получалось так, что и на другой день Адела не находила удобного повода, чтобы поговорить с матерью, весьма строгой по отношению к детям, если не считать общего баловня – Леонардо, и довольно суровой в обращении с невольниками. Так и проходили дни за днями. Как-то раз под вечер, когда Адела лежала в гостиной на диване с легкой головной болью, к ней подошла мать и, подсев рядом, положила ей руку на лоб, то ли желая приласкать дочку, то ли просто так, по рассеянности. Как бы то ни было, девушка собралась с духом, решив, что называется, схватить фортуну за волосы.
– Мне хотелось бы попросить тебя об одном одолжении, мама, – сказала она, запинаясь, и голос ее дрогнул от волнения, а может быть, и от страха.
Несколько секунд донья Роса не отвечала ни слова, удивленно и задумчиво глядя на дочь. От этого Адела еще больше смутилась, однако тут же поспешила добавить:
– Ты ведь не откажешь мне, не правда ли?
– Ты больна, девочка, – сухо сказала донья Роса. – Успокойся. – И она было поднялась, чтобы уйти.
– Я прошу тебя об одном одолжении. Мама, выслушай меня, – продолжала Адела, удерживая мать за юбку. На глазах у девушки уже выступили слезы.
Донья Роса снова села, видимо потому, что внимании ее привлекли слова Аделы, а еще больше – ее поведение; все свидетельствовало о том, что девушка крайне возбуждена и встревожена.
– Хорошо, я слушаю тебя, говори…
– Но ты не откажешь мне в моей просьбе?
– Я не знаю, чего ты от меня хочешь, поэтому я не могу заранее сказать, откажу тебе или нет. Полагаю, впрочем, что это опять одна из твоих нелепых причуд. Так в чем же дело?
– Не считаешь ли ты, мама, что Мария-де-Регла искупила свою вину?
– Так я и знала! – прервала ее, внезапно раздражаясь, донья Роса. – Из-за такой вот глупости ты задерживаешь меня и просишь, чтобы я тебя выслушала? Да и потом – кто тебе сказал, что эта негритянка искупает какую-то вину?
– Почему же столько времени ее держат в поместье?
– А где этой подлой твари было бы лучше?
– Боже мой! Мне больно, мама, что ты говоришь так о женщине, которая вскормила меня.
– Лучше бы она никогда тебя не кормила! Ты не знаешь, как сожалею я о том дне и часе, когда препоручила тебя ей. Но, бог свидетель, иного выхода у меня тогда не было. Не говори мне о Марии-де-Регла, я ничего не желаю знать о ней!
– Мне казалось, что ты уже простила ее.








