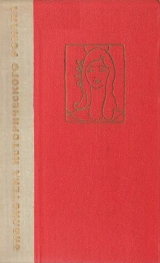
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
Красотой несравненной
Был обманут несчастный,
Он удачи напрасной
Ждал душою смятенной;
Сердце страстью мгновенно
Захватила любовь.
Кто ж с тропы этой горькой
В мир воротится вновь!
Д. Уртадо де Мендоса
Мы уже сказали, что студенты, изучавшие отечественное право, дружно поднялись со скамей, следуя примеру своего профессора. Им очень хотелось поскорее выйти из аудитории, но все они оставались на своих местах, пока Говантес не сошел с кафедры и не направился к выходу, опустив голову и зажав текст кодекса под мышкой. Только тогда, разделившись на две колонны, юноши в почтительном молчании последовали за ним.
Те немногие, что проводили Говантеса до самых дверей его кельи, находившейся в конце галереи, были семинаристами – воспитанниками коллегии. Они выделялись среди других длиннополым коричневым платьем, которое делало их похожими на причетников, хотя, несомненно, ни один из них не выбрал бы духовной карьеры.
Как только профессор удалился, все студенты не-семинаристы бросились, расстроив свои ряды, вниз по широкой каменной лестнице. Гурьбой они спустились на галерею и в беспорядке высыпали на улицу, словно сам портал коллегии Сан-Карлос разом изверг всю эту толпу из-под своих широких сводов.
Очутившись на улице, молодые люди разбрелись по городу. Довольно многочисленная группа обогнула казарму Сан-Тельмо, где кончается улица Сан-Игнасио, затем свернула на улицу Чакон, оттуда – на Кубинскую и, наконец, по Казарменной направилась к цели своей прогулки – Холму Ангела. Любознательный читатель, знакомый уже с предыдущими страницами, мог бы легко узнать среди этих шумных, галдящих студентов трех неразлучных друзей – Гамбоа, Менесеса и Сольфу. Первый из них был, несомненно, вожаком: он шел впереди, подбрасывая правой рукой индийскую трость с золотым набалдашником и серебряным наконечником, словно это была палка тамбур-мажора. По мере того, как они приближались к церкви Святого ангела-хранителя, которая, как знают гаванцы, находится на терраплене Пеньянобре, становилось все теснее, ибо отсюда дорога шла под уклон и была запружена огромной разноплеменной и разношерстной толпой мужчин и женщин, следовавших в том же направлении.
Белые женщины, во всяком случае те, что не направлялись в церковь, ехали в китринах [36]36
Китрин– двухместный двухколесный экипаж.
[Закрыть], начинавших в ту пору входить в моду и заменять кабриолеты или шарабаны, которыми пользовались в минувшем веке. Почти во всех этих экипажах на единственном сиденье восседали три дамы, причем старшие из них располагались по бокам, мягко откинувшись назад, а самая молодая возвышалась между ними, прямая как палка, ибо наши китрины, как и наши шарабаны, приспособлены не для трех, а только для двух человек. Стояла ранняя осень, и солнце не слишком припекало, хотя был уже десятый час утра. У экипажей, как правило, верх был откинут, и сидевшие в них женщины, большей частью молодые, могли показаться во всем своем блеске: хорошенькие, в светлых платьях – одни в белых, другие в цветных – с обнаженными плечами и руками, они ехали без шляпок или капоров: черные косы были заколоты черепаховым гребнем, который называется черепичкой.
Белые женщины, которые шли пешком по скверно замощенным улицам без тротуаров, конечно, спешили в церковь, если судить по их темной одежде и кружевным мантильям. Цветные обоего пола – а их было вдвое больше, чем белых, – также двигались пешком к церкви, а некоторые из них либо прогуливались, либо продавали по случаю праздника разложенные на кедровых лоточках маисовые лепешки. За столиками на крошечных кожаных табуретках сидели, прислонившись к стене, чернокожие уроженки Африки; возле каждой стояла жаровня, а на ней – форма для выпечки лепешек. Креолки презирали это занятие. На темную каменную форму накладывалась деревянной ложкой порция смоченной маисовой муки, из которой получалась лепешка весом в три-четыре унции. Негритянки продавали прохожим такие лепешки, подрумяненные на жаровне, с кусочком положенного сверху сливочного масла, горячие и сочные, и брали за них по полреала за пару. Многие сеньориты не могли удержаться, чтобы не остановить экипаж и не купить тортильи святого Рафаила, как они назывались, прямо с индейской жаровни, ибо такие-то они и были вкуснее всего.
Вся эта суматоха и оживление были по случаю праздника святого Рафаила, который приходится на 24 октября, хотя празднование его, как мы указали, началось на девять дней раньше. Все эти дни в церквах в первые утренние часы служили раннюю мессу; с десяти до двенадцати – торжественную мессу, после которой бывала проповедь, а во время вечерни пели «Сальве». В течение новены, то есть всех девяти дней престольного праздника, выносились святые дары, и потому церковь никогда не пустовала; со всего предместья стекались верующие, чтобы получить отпущение грехов.
Как мы уже раньше сказали, маленькая церковь Святого ангела-хранителя стояла на узком терраплене Пеньянобре, который представляет собой нечто вроде небольшой, возвышающейся над всем городом насыпи. На терраплен вели в ту пору – да они и поныне существуют – две лестницы из темного нетесаного камня с такими же перилами. По одной лестнице поднимаешься со стороны Казарменной улицы, по другой, более длинной и крутой, можно спуститься к улице Компостела.
Поднявшись на самую верхнюю площадку, где также сохранились каменные перила, входишь в храм, единственный неф которого в дни богослужений, а стало быть, и в описываемые нами дни, полностью открывался взору: в глубине возвышался главный алтарь с двумя приделами и деревянным запрестольным украшением; алтарь этот был расположен значительно дальше обоих боковых врат и почти скрыт за целым лесом белых восковых свечей, позолоченных и посеребренных канделябров, ваз с искусственными цветами и множеством блестящих картонных украшений. Слева и справа находились два других, менее богатых алтаря, а в полукружии, между главными и боковыми вратами, – еще два, причем в каждом из них почиталось изображение какого-нибудь святого, обычно вырезанное из дерева и стоящее в нише под стеклом. Под крышей храма с коньком виднелись бревна стропил, крытых снаружи красной черепицей, а над главной аркой, внутри которой были небольшие хоры, возвышалась квадратная трехъярусная каменная колокольня, постепенно суживающаяся кверху. С западной стороны к зданию церкви примыкала ризница, а за ней находились покои священника и еще одна каменная лестница, поуже, чем первые две, что вели к главному фасаду храма; эта лестница выходила на улицу Эхидо – нечто вроде темного, кривого и неровного проулка, вдоль которого высились стены домов и бастионов, опоясывавших город со стороны берега. Перед церковным двором тянулась защитная каменная ограда наподобие стены с площадкой наверху. Так вот, в то утро, о котором мы ведем рассказ, шел второй или третий день новены святого Рафаила – несколько плотников-негров водружали на этой ограде с помощью сосновых досок, окрашенных под цвет камня, нечто похожее на крепостные зубцы; флагшток был уже установлен и основная работа почти закончена.
Студенты захватили все перила и площадки лестниц. Леонардо Гамбоа, с тростью на плече, стоял на самом верху и, казалось, задавал тон остальным. Ни одни человек, поднимавшийся по ступенькам, не говоря уже о женщинах, проезжавших в экипажах или шедших пешком, не ускользал от внимания юношей, которые отпускали на их счет насмешливые замечания, а порой выкидывали разные штуки. Гамбоа, самый голосистый, самый рослый и занимавший самое выгодное положение, беспрерывно расточал остроты и любезности, в особенности хорошеньким девицам. Делал он это довольно пошло и развязно, что свидетельствовало о недостатке настоящего воспитания. Тем не менее девушки, то ли потому, что привыкли слышать такие комплименты с ранних лет, то ли потому, что лесть всегда приятна, не почитали себя обиженными; наоборот, одни посмеивались, другие, приоткрыв веер, грациозно раскланивались со знакомыми и друзьями, а были и такие, которые на скользкую шутку отвечали такой же шуткой отнюдь не лучшего свойства.
Леонардо, выхватив у одного из своих товарищей кусок маисовой лепешки и держа его в левой руке, провозглашал здоровье той сеньориты, которая казалась ему в данную минуту наиболее привлекательной, не собираясь, однако, ни отдавать кому-либо свою лепешку, ни пробовать ее сам. Внезапно ему почудилось, что в проезжавшем мимо китрине с дальнего края сидит его знакомая. Вместо того чтобы и ей послать то же приветствие, что и всем прочим, он быстро опустил руку и попытался спрятаться за перилами лестницы. Девушка, безусловно, увидела его и узнала, но не только не улыбнулась, что вполне естественно, когда среди незнакомых лиц вдруг увидишь своего приятеля, но стала еще серьезнее и бледнее обычного. Все же она не переставала следить за студентом, голова которого с надвинутой на лоб шляпой, как назло, торчала над краем каменной стены. В тот момент, когда Гамбоа, желая спрятаться, нагнулся, он невольно схватил за руку своего друга Менесеса, больно сжав ее. От неожиданности тот охнул и спросил:
– В чем дело, Леонардо? Ради бога, отпусти, ты же мне вывихнешь руку!
– Разве ты не узнал ее? – спросил Леонардо, потихоньку расправляя плечи.
– Кого? О ком ты говоришь?
– Да о девушке в синем китрине, что сидела с противоположной от нас стороны. Вот она поравнялась с перекрестком Пять углов. Она еще смотрит сюда. Она, конечно, меня узнала. А я – то полагал, что она находится за много миль отсюда! Может, она решила, что пасхальные развлечения еще не кончились?
– Я так и не понимаю, о ком ты говоришь.
– Боже, да про Исабель Илинчета. Разве ты с ней не был знаком? Впрочем, тебе нравилась ее сестра Роса.
– Перестань, я действительно не был с ней знаком. Мне она почему-то казалась слишком худенькой и смуглой, хотя из всей компании она была самой хорошенькой.
– Все девицы, когда они вот-вот станут старыми девами, худеют и бледнеют; с Исабелью произошло и то и другое – ведь ей уже столько же лет, как и мне, и она не надеется скоро выйти замуж.
– А между тем в одни прекрасный день, когда ты меньше всего об этом будешь думать, ты женишься на ней.
– Я? Да ни за что на свете! Я не отрицаю, что она мне нравится, но там, среди цветов, где воздух – как бальзам, в тени апельсиновых и пальмовых рощ, в аллеях и садах ее отца, она мне нравилась несравненно больше. Кроме того, она танцует… прекрасно. Не хуже, чем твоя Роса.
– Оставь в покое Росу. Поговорим лучше об Исабели. Она была, что называется, по уши влюблена в тебя. Насколько я понимаю, бедняжка плохо тебя знает, потому что, нечего греха таить, ты и впрямь самый непостоянный и ветреный из всех мужчин на свете.
– К сожалению, признаюсь, что это так, но я ничего не могу с собой поделать: я вздыхаю по девушке, пока она мне говорит «нет». Как только она скажет «да», то будь она прекраснее, чем сама дева Мария, мои сердечный пыл остывает. Исабели я перестал писать с мая. Трудно сказать, что она думает обо мне сейчас. Кроме того, видишь ли, девицы, выросшие в деревне, слишком докучают своей любовью. Они воображают, что мы, гаванские парни, так и таем, завидя их.
– А где же она остановится?
– Наверное, у своих двоюродных сестер Гамес, там, за женским монастырем святой Терезы. Ты никак надеешься увидеть там Росу? Да она, видимо, не приехала в город, коль ее не было в китрине рядом с сестрой. А у меня, клянусь тебе, даже нет желания видеть Исабель, я просто боюсь встретиться с ней. Со мной эта девица себя держит, словно она мужчина в юбке; она не из тех женщин, которых можно безнаказанно обижать.
– Исабель, наверно, имеет достаточно причин быть недовольной тобою, и ты, по совести, должен сделать все, чтобы унять ее досаду…
– Совесть, совесть! – воскликнул Леонардо презрительным тоном. – Да был ли кто когда-нибудь совестливым с женщинами?
– Да прекрати же, черт возьми, это кощунство, ведь и твоя мать – женщина!
Это замечание сделал Панчо Сольфа, который слышал беседу обоих друзей. Леонардо глянул на него сверху вниз, но не из презрения, а потому, что был на голову выше его, и сказал серьезно:
– Ты кончишь тем, что станешь капуцином. – Затем, быстро повернувшись к Менесесу, он добавил: – Эта девица, должно быть, расстроит все мои планы.
– Мне они непонятны, – заметил Менесес.
– Ты вскоре узнаешь о них, – задумчиво продолжал Леонардо и, обратившись к тем, кто шел вместе с ним от самой семинарии, сказал: – Пойдемте отсюда, а то уже становится скучно.
У Леонардо явно испортилось настроение: он был чем-то раздосадован, а юноша не относился к числу тех, кто умеет преодолевать препятствия. Как только он спустился вниз со стороны улицы Компостела и вновь очутился среди городской сутолоки, к нему вернулись его обычное настроение и живость. Подойдя к перекрестку Пять углов, он нагнал какого-то господина средних лет, который шел в том же направлении, что и студенты. Подкравшись к кабальеро сзади и просунув руки ему под мышки, Леонардо прикрыл обеими ладонями глаза незнакомцу и спросил, меняя голос:
– Угадай, кто?
Тот тщетно старался высвободиться из лап студента, подозревая, быть может, что подобное насилие вызвано желанном ограбить его среди бела дня при всем честном народе. Леонардо же, как только к нему подошли товарищи и вокруг скопилась типа любопытных, отпустил свою жертву; сняв шляпу и склонив голову в знак уважения и раскаяния, он сказал:
– Тысяча извинений, кабальеро, я допустил прискорбную ошибку, но вы сами в том повинны, ибо как две капли воды похожи на моего дядю Антонио!
Студенты расхохотались, а раздосадованный незнакомец, поняв, что над ним потешаются, разразился негодующими возгласами по адресу современной, столь дурно воспитанной и окончательно обнаглевшей молодежи. Эта забавная сцена произошла быстрее, чем мы смогли описать ее, а Леонардо, едва успев перейти улицу Чакон, придумал уже новую проделку: увидев у одной из негритянок подрумянивавшуюся на жаровне лепешку, он вонзил в нее острие своей индийской трости. Женщина, полуголая, с лицом еще более круглым, чем лепешка, сидела в углу, прижавшись к стене, в окружении своего скарба. Когда лепешка взлетела в воздух, грузная торговка – негритянка в отчаянии завопила и, выпрямившись на своем крошечном стульчике, опрокинула стоявший перед нею столик, на котором лежали готовые лепешки. Это привело ее в еще большее негодование, и вопли ее стали еще пронзительнее. Всех, кроме Диего Менесеса, эта новая выходка Леонардо только рассмешила. Движимый благородными и великодушными побуждениями своего доброго сердца, Менесес достал из кармана жилета несколько реалов и бросил их на объемистую грудь негритянки. Деньги попали толстухе прямо за пазуху, задержавшись там, несмотря на низкий вырез ее более чем экономно сшитого платья.
Студенты не стали оборачиваться и проверять, унялась ли раздраженная женщина и прекратила ли она свои причитания. Перед ними открылась улица Техадильо, которая пересекает улицу Компостела под прямым углом, а за перекрестком сразу же начинается Мощеная, названная так потому, что на ней впервые в Гаване стали испытывать систему мощения круглой галькой, устраивая посередине улиц сточную канаву. Леонардо свернул направо, распрощавшись с приятелями и сказав Менесесу и Сольфе, что они могут, если хотят, подождать его в сквере у обители святой Екатерины и что он присоединится к ним через четверть часа. Но так как, по кубинским обычаям, это было время второго завтрака, то друзья предпочли разойтись по домам; они расстались с Леонардо, условившись встретиться вечером на ярмарке у церкви Святого ангела-хранителя.
Оставшись один, студент-юрист тотчас же изменил свою походку и выражение лица. Он стал серьезным и задумчивым, что никак не вязалось с его веселым и живым характером. Его необычайно встревожило то, что в Гавану на праздник явилась молодая девица из Алькисара – та, которую он назвал Исабелью Илинчета. Хотя Леонардо и отрицал это, но он был влюблен в нее и опасался, что неожиданный приезд Исабели приведет девушку к неприятным для нее открытиям, а главное, позволит ей узнать о его тайных попытках, которые, сколь ни превратно было его представление о порядочности, отнюдь не делали ему чести и постоянно заставляли его краснеть. Юноша несколько раз замедлял шаг, постукивая тростью по узким плиткам тротуара, украшавшим, в числе немногих других улиц, и знаменитую Мощеную. Он сильно колебался, идти ли ему дальше или вернуться, ибо, да будет читателю известно, направлялся он не к себе домой. Наконец, стукнув тростью посильнее, Леонардо еще раз вскинул ее, как обычно, на плечо и ускорил шаг, пробормотав: «А, черт подери! Взялся за гуж – не говори, что не дюж!» Слова эти должны были, видимо, утвердить его в принятом им решении.

Пройдя еще немного, наш студент оказался на улице Агуакате; держась высоченных стен монастыря святой Екатерины, он, не останавливаясь, дошел до того места, где эта улица пересекается с улицей О’Рейли. Тут он искоса взглянул на высоко расположенное квадратное оконце невзрачного домика на противоположном углу. Подробному описанию его мы посвятили конец второй главы нашей правдивой истории. Створки окна были неплотно прикрыты, и сквозь кедровые балясины виднелись складки белой муслиновой занавески, слегка колыхавшейся то ли от утреннего ветерка, то ли оттого, что кто-то двигался за ней. Так же полуотворена, но только вовнутрь, была ветхая дверь: закрыться плотно ей мешал железный груз, о котором мы упоминали уже в начале нашего рассказа.
Не было никакого сомнения в том, что кто-то, как на посту, стоял между неплотно прикрытой створкой окошечка и белой занавеской, ибо не успел Леонардо пересечь улицу и просунуть правую руку в проем, образованный одной из выпавших балясин, как из окна выглянуло женское лицо – пожалуй, самое прекрасное, какое только можно было встретить в то время в Гаване. Увидя его, Леонардо, совершенно покоренный, хотя глаза мулатки искрились гневом, а не любовью, забыл об Исабели, о танцах в Алькисаре и о прогулках по пальмовым аллеям и апельсиновым рощам. Тот, кто прочел первые главы этой повести, узнал уже Сесилию Вальдес. Ее яркие губы были сжаты, кровь, казалось, вот-вот брызнет из ее округлых щек, пышную грудь, вздымавшуюся от волнения, с трудом сдерживала тугая шнуровка корсажа. Наконец девушка заговорила, и выражение ее лица было красноречивее, нежели интонации голоса:
– Зачем вы пришли?
– Я возвращаюсь с занятий, – тихо и покорно, но вместе с тем твердо ответил Леонардо.
Сесилия, мельком заглянув в комнату, сделала знак левой рукой, чтобы Леонардо говорил потише, и с жаром добавила:
– А вас недавно видели на Холме Ангела.
– Возможно, я там проходил.
– Однако вы там долго задержались; а расстояние не так уж велико. Ах, какое это проклятие, когда женщина любит!
– Но ведь ничего не изменилось, Селия, я пришел к тебе.
– А кто знает, почему вы опаздываете? Быть может, из-за женщины…
– Только не из-за женщины, клянусь тебе.
– Не клянитесь, потому что тогда я вам верю еще того меньше. Дело в том, что Чепилья уже вернулась из больницы, а вы только-только являетесь, и поговорить нам некогда. Бабушка пришла совсем недавно, помолилась и от усталости, должно быть, задремала; а теперь она то и дело поднимает голову и прислушивается, оберегает мою невинность. – Тут Сесилия снова обернулась назад. – Вам, как видно, не нужна моя дружба, а я – то, дура, жду вас. Будь проклята женщина, которая любит так сильно, как я!
– Радость моя, твое отчаяние просто пугает меня. Жаль, что вышло так неудачно; отложим до завтра.
– Но ведь Чепилья-то не каждый день ходит в больницу.
– Я встал сегодня часов в семь утра. Ты же знаешь, что мы вернулись из Реглы около часа ночи.
– Мне это, однако, не помешало проснуться на рассвете. Я еще с вечера думала о встрече, а вы – нет; вот в чем разница между нами.
– Брось иронический тон, он тебе совсем не к лицу. Ты отлично знаешь, что я боготворю тебя.
– Любовь познается на деле, а не на словах: муж чина, который опаздывает на свидание…
– Не казни меня с такой легкостью. Я же тебе объяснил, почему я задержался. Поверь мне, в душе я об этом бесконечно сожалею и сумею доказать тебе…
– Позднее раскаяние. И к чему эти уверения в любви? Тот, кто любит по-настоящему, не обманывает. А вы меня обманываете. Я глубоко оскорблена. Ступайте прочь! У вас голос – что труба: и разговаривать-то тихо не умеете.
Леонардо схватил руку девушки и поднес ее к губам. Сесилия не оказала ни малейшего сопротивления. Он понял, что буря улеглась и что девушка позволит ему прийти к ней при первой возможности. С этими мыслями он удалился.
Выйдя на улицу О’Рейли, Леонардо заметил шарабан, который, покачиваясь, спускался от ворот Монсеррате; в длиннейшие оглобли, надетые на оси двух огромных колес, была впряжена настоящая кляча. Юноша поставил ногу на подножку экипажа и уселся на кожаную подушку. От резкого движения шарабан тряхнуло, и это привлекло внимание кучера, который сразу же обернулся, чтобы посмотреть, какого седока он заполучил столь неожиданно, без всяких усилий со своей стороны. Седок же, плюхнувшись на сиденье, зычным голосом приказал:
– Домой!
– А где живет молодой сеньор? – спросил, разумеется, испуганный кучер.
– Болван! Неужели не знаешь? На углу улицы Сан-Игнасио и улицы Лус. Пошел!
– А!.. – воскликнул кучер и так стегнул под брюхо бедное животное, что оно вздрогнуло всем своим костлявым телом, почти согнувшись вдвое, то ли от боли, то ли под тяжестью экипажа, седока и кучера.
Пока студент, подпрыгивая как мячик, ехал домой в дребезжащем шарабане, позволим себе немного поразмыслить. На что надеялась Сесилия, поддерживая любовные отношения с Леонардо Гамбоа? Отпрыск богатой семьи, состоявшей в родстве с самыми знатными семьями Гаваны, этот белый юноша готовился в адвокаты. Если бы он и собрался жениться, то, уж конечно, не на девушке низкого происхождения, чье прозвище ясно говорило о ее темном прошлом и о смешанной крови, которую можно было распознать также по волнистым волосам и бронзовому цвету лица. Ее редкостная красота поэтому была относительным и, пожалуй, единственным достоинством, с помощью которого она рассчитывала побеждать сердца мужчин. Но этого было недостаточно, чтобы, выйдя из среды, в которой она родилась и воспитывалась, попасть в тот круг общества, где бывали только белые – хозяева этой страны рабов. Может быть, другие девушки, не обладавшие такой красотой, как она, и даже с большей примесью негритянской крови, общались в ту пору с гаванской знатью и носили дворянские титулы. Но они либо скрывали свое безвестное происхождение, либо родились и воспитывались в роскоши. А золото, как известно, очищает даже самую темную кровь и прикрывает самые крупные физические и нравственные недостатки.
Но как бы естественны ни казались подобные размышления, мы убеждены в том, что они никогда не приходили на ум Сесилии. Она любила со всей непосредственностью своей страстной натуры и видела в белом юноше только нежного возлюбленного, превосходившего многими своими качествами всех юношей ее круга, которые могли помышлять о ее любви и благосклонности. Сесилия всегда считала и надеялась, что рядом с белым мужчиной, сколь бы недозволен ни был такой союз, она сможет подняться, сможет выйти из той убогой среды, в которой сама родилась, не говоря уже о ее будущих детях. Выйди она замуж за мулата, она пала бы в собственных глазах и потеряла бы уважение себе подобных. Вот каковы были заблуждения, господствовавшие в таком обществе, как кубинское.
Тем временем кучер пустил лошадь рысцой вниз по улице О’Рейли, выехал на Кубинскую, пересек наискосок площадь Санта-Клара, завернул затем на улицу Сан-Игнасио и остановился у самого подъезда дома, который ему был указан. Из этого явствует, что кучер-негр отнюдь не заслуживал эпитета «болван», которым наделил его Леонардо, садясь в шарабан. Как только экипаж остановился, студент быстро соскочил на панель и с тем же проворством бросил кучеру монету. Тот поймал ее на лету, поднес к глазам и, увидев «двухколонное» песо, перекрестился, держа монету в руке, затем пришпорил коня и тронулся в путь, крикнув:
– Доброго вам здоровья, молодой сеньор!








