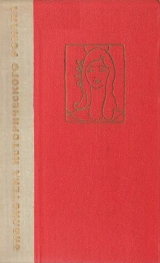
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
– Простила, простила! – почти крикнула в ответ доня Роса. – Никогда! Для меня она умерла.
– Что же она тебе такое сделала, чтобы заслужить такую жестокость?
– Кто это жесток с ней?
– А работа на плантации – разве этого мало? А дурное обращение с нею?
– Я не слышала, чтобы с ней обращались хуже, чем она того заслуживает.
– А вот все говорят, что это так.
– Кто же это все?
– Да хотя бы тот же судовладелец Сьерра, который был здесь на прошлой неделе, когда заходил за одеждой для невольников.
– Странно, что Сьерра разговаривал с тобой.
– Не со мной, мама, а с другим человеком, но так как все знают, что я люблю Марию-де-Регла, то мне рассказали про ее жалобы. Меня очень-очень огорчает все, что ей приходится там терпеть, и мне, право, хотелось бы, чтобы ты сделала кое-что для нее и для меня. Она умоляет, чтобы я вступилась за нее и помогла ей вырваться оттуда…
– Адела, – сказала донья Роса, тронутая чистосердечностью и необычайной добротой своей дочери. – Ты не знаешь, Адела, какой жертвы требуешь от меня. Скоро рождество, все мы поедем в Ла-Тинаху; тогда и посмотрим, что можно сделать для этой мерзкой негритянки. Должна, однако, предупредить тебя, чтобы ты не надеялась, что я сразу смягчусь, не обдумав всего надлежащим образом. Негритянка эта – погибшее существо и очень самонадеянна. Вместо того чтобы принести повинную, исправиться, как я того ожидала, и тем самым искупить свое неповиновение моему особому приказу, она, приехав в Ла-Тинаху, стала еще хуже. Вот уже двенадцать лет, как я держу ее там, и всякий раз те, кто приезжает сюда, передают мне о каких-то ее претензиях, рассказывают о ней совершенно возмутительные истории. Нашего управляющего эта негритянка просто извела. Тебе, моя девочка, я ничего не рассказывала, потому что как-то к слову не приходилось, но думаю, что Мария-де-Регла не сможет уже больше жить с нами. Она подавала бы дурной пример тебе, Кармен и даже самой Долорес. Стоило ей появиться в Ла-Тинахе, как там началась гражданская война, и из-за этого мне приходилось не раз менять дворецких, управляющих, сахароваров, плотников – словом, всех, у кого белое лицо. Должно быть, либо эта проклятая негритянка просто привораживает мужчин, либо все они из-за всякой юбки готовы возомнить о себе бог весть что. Да тот же Тирсо – живое свидетельство безнравственного поведения Марии-де-Регла; отец то его, бискаец, был плотником и работал когда-то в Ла-Тинахе… Даже наказание плетью – и то ее не исправило.
Последние слова доньи Росы заставили Аделу содрогнуться: хотя она часто слышала от Долорес жалобы на горькую долю ее матери, но и представить себе не могла, чтобы ее обожаемую кормилицу подвергали вдобавок ко всему избиению, словно такое наказание, как высылка из Гаваны и разлука с самыми любимыми на свете людьми, не было уже достаточно жестоким. Аделе почудилось, будто она слышит щелканье бича, крики жертвы и страшный звук разрываемой кожи; девушка в ужасе закрыла лицо обеими руками, и две слезы, подобно каплям росы, скользнув по розовым пальцам, скатились на ее девственную, бурно дышащую грудь.
– Бедняжка! – только и смогла она воскликнуть.
Тут только донья Роса поняла, что зашла слишком далеко, и потому поспешила добавить:
– Видишь, и ты начинаешь носиться с этой негритянкой. К несчастью, она кормила тебя, и ты по-своему привязана к ней, понимаю; и все же со временем ты сама признаешь, что это вовсе ни к чему; ты убедишься, что она не заслуживает твоего сочувствия. Подожди рождества, теперь уже недолго… Поживем – увидим, как уладить все это получше.
Как бы то ни было, в словах этих заключалась уже некоторая надежда, и Адела не замедлила поведать своей молочной сестре о том, почему именно донья Роса так долго сидела подле нее. Будучи еще слишком юной, чтобы влюбиться в кого-нибудь из мужчин, Долорес была способна обожать лишь свою молодую госпожу; она изо всех сил старалась всегда походить на нее, подражать ее голосу, привычкам, походке, манере одеваться и даже ее кокетству. Недаром все ее собратья по неволе, желая сделать девушке приятное, называли ее «нинья Адела».
Глава 10– Я уже знаю, о чем ты просишь. Унеси ж мое сердце… бери!
Рамон Майорга
Была середина ноября 1830 года. Северные ветры загнали на кубинский берег первых перелетных птиц из Флориды, напоминая о том, что на противолежащем континенте наступила уже зима. На море поминутно вздувались волны и, разбиваясь с оглушительным ревом о прибрежные рифы, обдавали их на огромном пространстве белой пеной, усеивали ракушками и кристаллами соли.
В четыре часа утра улицы Гаваны окутывала еще предрассветная мгла, и трудно было, особенно издали, распознавать людей в лицо, за исключением, пожалуй, тех немногих, что помахивали зажженным фонариком, спеша либо за покупками на рынок, либо в божий храм; из некоторых церквей уже доносились приглушенные звуки органа, которые вторили песнопениям монахинь и монахов, стоявших заутреню.
Итак, было еще темно, когда дон Кандидо Гамбоа в миткалевом шлафроке и ночном колпаке стоял у окна, скрытый белой муслиновой занавеской, и поглядывал на улицу, то ли в ожидании газеты «Эль диарио де ла Авана», то ли вдыхая после духоты алькова свежий утренний воздух.
Вскоре послышался вначале глухой, а затем все более отчетливый шум чьих-то шагов, доносившийся со стороны Старой площади. Дон Кандидо глянул в том направлении и поверил своим глазам только в ту минуту, когда человек, которого он ожидал, очутился перед ним. Это была женщина. Одежду ее составляли грубая, наброшенная на голову накидка и короткая холщовая юбка, стянутая в талии длинным кожаным ремнем черного цвета. Благодаря медно-матовому цвету кожи, обычному для мулатов, особенно пожилых, она легко могла сойти за индианку.
– Добрый день, сеньор дон Кандидо! – сказала она, слегка гнусавя.
– Да будет он добрым и для вас, сенья Хосефа, – ответил он, стараясь говорить тихо. – Раненько вы встали.
– А как же иначе, сеньор? Но спится тому, у кого есть заботы.
– Ну что нового? Рассказывайте.
– Да столько всего, что, кажись, дотяни я до света, и уж ничего нельзя было бы поправить.
– Вас, сенья Хосефа, должно быть, привел сюда приказ губернатора касательно нищих и душевнобольных. Я поджидал вас.
– Так оно и есть, сеньор, Прямо и не знаю, как еще жива и когда только придет конец всем этим напастям. Сперва то думали, что будут забирать только тех нищих и умом рехнувшихся, что по улицам попрошайничают. Но вчера под вечер мать-смотрительница больницы Де-Паула сказала мне, будто даже из частных домов и из госпиталей сумасшедших будут переводить в Сан-Дионисио или в тот дом, что построен в патио Благотворительного общества. Кабы вы только знали, сеньор, что сталось со мною, когда я услыхала об этом. Всю-то ночь я и глаз не сомкнула. От такого приказу у меня прямо-таки сердце зашлось.
– Может быть, еще не поздно предотвратить беду?
– Дал бы только господь, сеньор мой. Подумать ведь, коли дочка так в больнице мучается, что же с ней станется, когда ее в Сан-Дионисио упрячут или в тот новый дом у Сан Ласаро? Там-то некому будет ни ходить, ни смотреть за ней. Да и бить ее станут. А я – то все надеялась, что увижу ее в здравом уме и вполне окрепшей! Отправится теперь Чарито моя горемычная на тот свет, а я за ней следом, и придет тут конец нашим мукам… Да свершится воля твоя, пресвятая дева Мария!
– Полагаете ли вы, сенья Хосефа, что сейчас еще можно как-то помочь делу?
– Я-то думаю, вернее сказать, сенья Соледад, мать-смотрительница больницы полагает, что ежели кто поважнее поговорит с инспектором, а тот – человек хороший, богобоязненный, то он, как говорится, сквозь пальцы посмотрит, и приказ, глядишь, Чарито и не коснется. Всё в его власти. Может, придется доктора поискать, а тот бумажку выдаст… Инспектор что воск, и услужить рад, да и сенья Соледад тоже. Так что, сеньор, сами рассудите…
– Разумеется, разумеется, – задумчиво повторил дон Кандидо. – Пока что могу вам сказать, что я посоветовался с доктором Монтесом де Ока; он того мнения, что больную следует увезти в деревню и делать ей соленые примочки. Посмотрим, что можно предпринять…
Но тут в сагуане послышались чьи-то шаги. Дон Гамбоа прервал свою речь и знаками дал понять старой мулатке, чтобы она уходила как можно скорее.
Рожок горниста, игравшего побудку, и донесшийся вслед за ним с борта стоявшего у мола Ла-Мачина корабля «Соберано» пушечный выстрел, от которого задрожали все стекла в комнате, внезапно разбудили Леонардо Гамбоа. Привскочив на кровати, юноша высек огонь, откинул крышку часов и взглянул на циферблат: было четыре часа утра. «Пора!» – подумал он, поспешно встал с постели и принялся одеваться, запалив с помощью соломинки спермацетовую свечку: спичек еще в ту пору в Гаване не знали.
Причесываясь перед туалетом, Леонардо внезапно выронил черепаховую гребенку, снова взглянул на часы и прошептал:
– Четверть пятого! Еще рано, мне хватит и пятнадцати минут, чтобы дойти туда медленным шагом. Она сказала мне – около пяти… А не лучше ли подождать на углу? Именно так, – сказал он решительно и, уже одетый, надушенный, с индийской тростью в руке, вышел из комнаты и стал спускаться по каменной лестнице.
Стараясь пройти как можно тише, он опирался левой рукой о кедровые перила; когда юноша спустился в сагуан, где царила полная темнота, а опираться было не на что, он, несмотря на легкую поступь и мягкие остроносые туфли без каблуков, невольно вызвал шум – тот глухой шум, который слышится, когда ходишь по гулким камням под сводом арки. Казалось, внезапно проснувшееся эхо прокатилось вдоль сагуана и по соседней комнате, где, по предположениям Леонардо, вполне мог находиться отец, встававший обычно спозаранку. Пробираясь ощупью, держась за стены, юноша наткнулся на привыкшего к темноте старого кучера, который, разумеется, сразу же узнал Леонардо и пошел к нему навстречу, решив проводить молодого человека, чтобы тот не разбил себе нос о железный обод какого-нибудь колеса.
– Пио! Ты? – спросил Леонардо шепотом. – Открой.
– Хозяин стоит у окна и глядит на улицу, – ответил негр.
– Черт подери! А дверь на замке?
– Нет, сеньор. Когда Дионисио уходил на рынок, он снял его.
– Открой потихоньку.
Дверные петли не заскрипели, но дон Кандидо еще раньше услышал шаги в сагуане и, прислонившись к решетке, громко спросил:
– Пио, кто это идет?
– Молодой господин Лионар, сеньор.
– Выйди. Окликни его. Задержи. Скажи, что я его зову. Да боги же, увалень!
Пока раб не вернулся, дон Кандидо, крайне раздраженный, непрерывно шагал взад и вперед от окна, выходящего на улицу, к решетке сагуана, бормоча себе под нос:
– И куда этот отъявленный бездельник собрался в такую рань? Неспроста все это. Он пошел туда, конечно же, туда. Теперь мне ясно. Неужто она не оставила никого присмотреть за ней? Ох, уж эта святая простота! Должно быть, нет, вернее всего, нет. У иных люден просто ветер в голове, удивительно они беспечны; нет того, чтобы поостеречься, а отсюда и все напасти… Сам черт не додумался бы так нагромоздить одно на другое: тут тебе и удобный случай, и молодость, и соблазн, и враг недремлющий… Да и я – то хорош! Мне бы следовало все это предвидеть, предотвратить, да, наконец, попросту пресечь… Но как? Эх, кабы я мог действовать открыто! Ну да еще посмотрим! Я ему шею сверну, я буду не я, если не сдам его в матросы и не добьюсь, чтобы ему там всыпали горячих; авось тогда выбьют из мальчишки эту креольскую дурь, что сидит у него в крови! Он не мой сын, нет! Ничего бы такого не случилось, отправь я его в Испанию, как собирался, четыре с лишним года назад. Мать во всем виновата. Сейчас мне почти что хочется, чтобы Пио не догнал его, тогда бы я смог, кажется, попросту убить этого мерзавца – так я на него зол!
В это время вернулся усталый и запыхавшийся Пио и заявил:
– Нет, хозяин, нигде нет молодого сеньора.
– Скотина! – заревел дон Кандидо. – Да где ты его искал?
– С той руки, в какой повод держу, сеньор.
– Слева, стало быть? Тварь двуногая! Как же ты думал встретить его, дурья голова, коли он направо пошел? Проваливай! Вон с глаз моих! Не удержи меня господь своей десницей, я бы тебе одним пинком все кишки выпустил!
Услышав неистовые крики дона Кандидо, донья Роса приоткрыла дверь комнаты, выходящей в зал, и испуганно спросила:
– Что случилось, Гамбоа? Почему ты так кричишь?
– Спроси об этом у твоего сына, который только что тайком, как завзятый жулик, улизнул отсюда.
– Жулик? Не понимаю. Разве он совершил что-нибудь дурное? Или намерен совершить?
– Я знаю не больше чем ты, однако подозреваю, опасаюсь, предполагаю, что этот бездельник из бездельников снова выкинет одну из своих штучек. Нужно быть дураком, чтобы этого не заподозрить, коли парень, крадучись, выходит на улицу в такую темень, когда дальше собственного носа ничего не увидишь. Ведь не к мессе же он пошел и не к причастию!
– Быть может, он вышел подышать свежим воздухом, а то просто решил доставить тебе удовольствие и поднялся пораньше. Подозревать что-либо дурное нет никаких оснований. Ты же не уверен, ничего точно не знаешь – почему же тебе всегда хочется дурно думать о своем сыне?
– Да потому, что испанская пословица гласит: «думай худшее и не ошибешься». Повторяю тебе: не на доброе дело он отправился. Я знаю его лучше, чем ты, родившая его. И знаю, как мне следует с ним поступить.
– Бедному мальчику никогда тебе не угодить. Не пасынок же он тебе, Гамбоа! Да будь он им, возможно, ты был бы к нему снисходительнее…
– Жалей его побольше, жалей! Дай боже, чтобы тебе вскоре не пришлось его оплакивать.
Очутившись на улице, Леонардо заметил, что какая-то темная, по-видимому женская, фигура идет вдоль левого тротуара в сторону монастыря Де-Паула. С минуту Леонардо колебался, не последовать ли ему за ней, чтобы узнать, кто это, и не отклониться ли ненадолго от своей цели. Но, услышав голос отца, звавшего Пио, он решил свернуть на улицу Санта-Клара. На это ушли считанные секунды. Потому-то рабу и не удалось догнать его. Выйдя на улицу О’Рейли, Леонардо поднялся по высокому терраплену монастыря святой Екатерины, пересек его с востока на запад и спустился на улицу Агуакате по лесенке, о которой упоминалось в начале нашего рассказа; направился он к домику, стоявшему напротив нее.

Ему показалось, что дверь не заперта ни на ключ, ни на засов, и он толкнул пальцами одну из створок. И верно, та слегка подалась; тогда он приналег на нее; стул, подпиравший дверь, свалился, и она раскрылась настолько, что юноша, не долго думая, протиснулся между обеими створками и очутился внутри. Сначала он ничего не увидел: в тесной комнатушке, пахнувшей на него сыростью и духотой, царил густой мрак. Однако благодаря лампадке, которая еще теплилась слева, в глубине ниши, Леонардо смог наконец разглядеть на расстоянии вытянутой руки пару домашних голубей, спавших на спинке стула, кота, свернувшегося клубочком в кожаном кресле, и курицу под столом, прикрывавшую своими материнскими крыльями нескольких цыплят, которые, выпростав клювики из-под перьев, то и дело жалобно попискивали, как это с ними бывает, когда им боязно или холодно.
Наконец юноша поднял глаза от пола, и взгляд его, скользя все выше, различил дверь, находившуюся в дальнем конце комнаты. На фоне ее он увидел нечто воздушное, почти призрачное, какой может быть только женщина в легком белом одеянии: ее густые кудрявые волосы рассыпались непокорными волнами по груди и по плечам, не скрывая их, однако, от взора, хоть были длинными и пышными. Минута – и Леонардо, узнав Сесилию, бросился ей навстречу; влюбленные упали друг другу в объятия, прерываемые лишь страстными поцелуями.

Больница Де-Паула была всего лишь продолжением церкви того же названия; она примыкала к углу крепостной стены в той ее части, что обращена на юго-восток от бухты. Вход в здание расположен с северной стороны и пробит в высокой стене галереи, соединяющей церковь с больницей. Перед входом имеется пристройка с небольшим навесом, похожая больше всего на монастырскую сторожку. Здесь стоит часовой, который следит за тем, чтобы арестованные или душевнобольные, получающие врачебную помощь, не пытались бежать. Обычно сюда поступают только женщины той и другой категории, причем в таких случаях, когда совершенное ими преступление невелико или когда безумие их не носит буйного характера.
Женщина, которую заметил ранее Леонардо, спешила пройти в южную часть города; она спустилась по улице Сан-Игнасио, нигде не задерживаясь, пока не дошла до упомянутой нами пристройки. На востоке начинал уже светлеть горизонт. Она было решительно направилась ко входу, но часовой, шагавший с саблей наголо от одного конца навеса до другого, преградил ей дорогу.
– Добрый день вам, сеньор военный, – сказала старуха, пытаясь снискать его расположение.
– Добрый он или плохой, еще увидим: раз на раз не приходится, – грубовато ответил солдат.
– Похоже, что сеньор военный меня не знает, – заискивающим тоном добавила она.
– Чего же тут удивляться? Я пока что, черт меня побери, с ведьмами дела не имел.
Женщина перекрестилась и добавила еще, что ей хотелось бы поговорить с сеньей Соледад, смотрительницей больницы.
– И той тетки я не знаю, – возразил часовой, снова принимаясь шагать. – Оттуда никто носу не кажет. Ну, проходи побыстрей и очисти место.
Всякий, кто переступает порог пристройки, оказывается в большом четырехугольном патио; справа он ограничен боковой стеной церкви, а с трех других сторон к нему примыкают просторные коридоры, из которых левый ведет в больничный зал с тремя широкими дверями. Несколько квадратных колонн кирпичной кладки делят этот зал на два продольных нефа, заставленных койками, изголовья которых упираются в капитальные стены здания, так что центр остается свободным. Здесь нет отгороженных друг от друга помещений, и стоящему в дверях видны сразу все койки. Обращенные к бухте, то есть на восток, а также на юг и на север, высокие окна служат для освещении и проветривания обширного зала.
Как только женщина в грубой холщовой одежде вошла в патио, она увидела, как со стороны церкви появилась с фонариком в руке сенья Соледад, а следом за ней – священник в черной саржевой сутане, без шапочки, который нес обеими руками серебряную дароносицу с крышкой, держа ее на уровне груди. Они шествовали медленно и чинно, шепча какие-то молитвы, которые в тишине патио напоминали жужжание множества больших мух. Священник и монахиня направились прямо в больницу и прошли зал из одного конца в другой. Когда они проходили мимо старухи, та поняла, что именно тут происходит, и, упав на колени, воскликнула:
– Святые дары! Прими, господь, душу умирающего в лоно свое!
Она прочла с жаром «Верую», собралась с силами и побрела дальше, сгорбленная, спотыкаясь на каждом шагу; дойдя почти до середины зала, старуха вновь преклонила колени. Тут она заметила, что священник, стоя у одной из коек, соборовал больную, а мать-смотрительница стояла на коленях по другую сторону койки и держала фонарик на весу, освещая, насколько было возможно, эту безотрадную, скорбную сцену.
Проводив затем священника в церковь, монахиня вернулась в зал и застала женщину в грубой одежде все еще коленопреклоненной; опустив голову на грудь, она, казалось, целиком погрузилась в молитву.
Сенья Соледад положила ей руку на плечо и поздоровалась с ней. Тогда женщина изменившимся от горя голосом еле слышно спросила:
– Так-таки она и умерла?
– Мир праху ее, – кратко ответила мать-смотрительница.
– Ах! – воскликнула старуха и упала без чувств.
– Господи Иисусе! Сенья Хосефа! Сенья Хосефа! – повторяла монахиня, силясь поднять ее. – Что с вами? Да вы не поняли меня! Послушайте, это просто недоразумение. Я не поняла вашего вопроса, а вы не поняли моего ответа. Умерла не Чаро. Да нет же – это та бедняжка мулатка, что поступила в больницу несколько дней тому назад! А Чаро поправляется, ей полегчало с грудью. Право же, она поправляется. Так говорит врач, да я и сама это вижу. Послушайте же, я хочу, чтобы вы убедились в этом собственными глазами.
Слыша такие уверения, сенья Хосефа постепенно стала приходить в себя. Наплакавшись вволю, она почувствовала себя наконец в силах проследовать за смотрительницей до койки больной, которая ее так занимала. Больная в эту минуту сидела; простыня прикрывала ей ноги, которые она сжимала обнаженными руками, уткнувшись лбом в колени. Волосы у нее были острижены почти наголо, как обычно у душевнобольных; под дряблой, бледной и сухой кожей торчали кости, словно у скелета, особенно заметные потому, что на больной была надета лишь нижняя рубашка, едва прикрывавшая ей плечи. Поза страдалицы и приступы глухого кашля, по временам сотрясавшие ее, свидетельствовали о том, что она жива.
– Чаро, Чарито, – с нежностью обратилась к ней мать-смотрительница. – Посмотри, кто пришел. Подними, девочка, голову. Приободрись.
– Доченька! – осмелилась шепнуть Хосефа. – Посмотри на меня. Ты слышишь? Узнаешь ли ты меня, моя радость? Я твоя мама. Дай мне взглянуть на тебя. Откликнись! Я принесла тебе добрые вести: скоро мы возьмем тебя отсюда, увезем в деревню; там ты поправишься и станешь вновь счастливой, когда увидишь и обнимешь твою дочку. Ах, если бы ты могла увидать ее! Она просто красавица! Вылитая ты, когда тебе было столько же лет.
– Видите, она все молчит, – сказала сенья Соледад. – Когда находит на нее такое, она не разговаривает, не шевелится, и тогда бог весть каких трудов стоит заставить ее что-нибудь съесть. А иной раз, наоборот, принимается кричать как оглашенная, будто режут ее, а то и хохотать.
Но тщетно применяла сенья Хосефа самые надежные, как ей казалось, средства, чтобы растрогать дочь. Напрасно прибегала она к мольбам, нежностям и слезам: больная была безразлична ко всему, не отвечала ни слова, не поднимала головы и продолжала сидеть скорчившись. Ясно было, что до ее сознания так и не дошла смерть женщины, лежавшей напротив, и она, разумеется, не узнавала ни знакомого голоса сеньи Соледад, ни горестных причитаний своей безутешной матери.
Между тем развиднелось, и сенье Хосефе пора было спешно возвращаться домой, где она оставила внучку в полном одиночестве. Поэтому она на ходу сообщила сенье Соледад, что кабальеро, который им помогает, решил сделать последнюю попытку излечить Чаро, если это еще возможно, и послать ее в деревню, поближе к морю, где бы та могла дышать чистым воздухом и принимать под наблюдением врача морские купанья.
– Что ж, сенья Хосефа, в добрый час, – сказала монахиня. – Ясно, что здесь бедняжка не поправится. Кроме того, взять ее отсюда просто необходимо, иначе ее увезут в новый дом Благотворительного общества. Все эти последние дни ходят и забирают на улицах нищих и умалишенных. Вот и крикунью Долорес-Санта-Крус тоже забрали вчера. А полицейский комиссар Канталапьедра уведомил меня уже о том, что имеется приказ перевести и отсюда тех душевнобольных, которые способны передвигаться самостоятельно.
Можно себе представить, с каким тяжелым сердцем возвращалась сенья Хосефа домой после всего, что ей пришлось увидеть, услышать и испытать в больнице Де-Паула.








