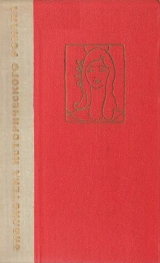
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
В одиннадцатом часу утра путешественники миновали плантации инхенио Вальванера, где подивились на огромные здания сахарного завода, и, проделав еще две мили, достигли местечка Кьебраача. Здесь дорога разделялась надвое: ее западная ветвь носила название дороги Вуэльта-Абахо, вторая называлась Ла-Ангоста и вела к сахарным инхенио, возникшим в последнее время в этой части побережья. На нее-то и свернули наши друзья. Многие жители Кьебраачи узнавали в одном из проезжавших всадников Леонардо Гамбоа и с приветливой почтительностью кланялись ему.
Местность за Кьебраачей, точно так же как и до нее, была все такой же холмистой и неровной и по-прежнему изобиловала крутыми спусками и подъемами, но кроны деревьев зеленели здесь гуще и пышней, поражая своим почти первобытным великолепием, а земля во всех направлениях была изрезана стремительными водами прозрачных ручьев, сбегавших к Мариельской бухте либо впадавших на севере прямо в море. Проехав с полчаса по лесной дороге, куда сквозь плотный полог листвы не проникал ни один солнечный луч, путешественники увидели перед собой на склоне холма обширные сахарные плантации, обнесенные примитивной сельской изгородью – длинным рядом кольев с развилкой в верхней их части, вкопанных на небольшом расстоянии друг от друга; на развилки были положены перекладины из ветвей, для большей надежности привязанные к кольям с помощью лианы Bauchinis heterophyllas – красной лианы, как именуют ее в просторечии жители Вуэльта-Абахо; свежесрезанное, растение это довольно гибко и получило широкую известность в качество лучшего материала для подобного рода сооружений.
Проехав вдоль этой немудреной ограды, путешественники вскоре достигли вершины холма. Отсюда открывался великолепный вид на раскинувшиеся внизу огромные плантации сахарного тростинка, в центре которых, на вершине другого, более обширного и пологого холма, весело пестрела группа разнообразных усадебных строений. То было инхенио Ла-Тинаха, и Леонардо Гамбоа, взявший на себя обязанности проводника, не без гордости объявил об этом своим спутницам. Впрочем, для подобной гордости у него имелось достаточно оснований, и не только потому, что инхенио было очень богатым и обеспечивало его владельцам видное положение в обществе, но также еще и потому, что оно было красиво расположено на высоком отлогом холме и казалось издали весьма живописным; известно ведь, что на расстоянии не различишь ни темных пятен, ни иных изъянов, от которых не свободно ничто, созданное богом и людьми.
Теперь наши путешественники ехали по дороге Де-ла-Плайя [71]71
Плайапо-испански означает пляж, взморье.
[Закрыть], получившей свое название оттого, что она связывала эти места с Мариелем – приморским городком, куда по ней доставлялся из инхенио сахар, который затем грузили на шхуны и переправляли для продажи в Гавану. На вершине холма дорогу преграждало нечто вроде шлагбаума или ворот, столь же примитивных впрочем, как и сама изгородь, окружавшая плантацию: в отверстия, проделанные в двух столбах, врытых на некотором расстоянии друг от друга, вставлены были концами параллельно одна другой две-три нетесаные жерди. В том месте, где изгородь соединялась с этим сооружением, стояла крохотная хижина, точнее – двускатный шалаш, устроенный из нескольких соединенных между собой под углом шестов, поверх которых были настланы большие пальмовые листья, упиравшиеся концами в землю.
Видя, что ворот никто не открывает и что привратника-негра нет на его обычном посту, Леонардо поскакал вперед узнать о причине такой нерадивости. Осадив коня у самого входа в хижину – вход этот выполнял также назначение окна, – Леонардо наклонился с седла и заглянул внутрь. Напрасный труд: вход оказался таким узким и низеньким, что далее двух футов от порога человеческие глаза уже ничего не различали, и не столько из-за яркого солнца, светившего снаружи, сколько из-за того, что это единственное в хижине отверстие служило еще и дымоходом и из него валил густой дым, так как внутри: на очаге горели дрова.
– Ничего не видно, – проговорил Гамбоа, подъезжая к китрину, остановившемуся посреди дороги. – Да я думаю, там и нет никого. Проклятый негр!
– Может быть, он уснул, – предположила Исабель.
– Уснул? Тогда ему лучше уснуть навеки! – воскликнул Леонардо. – А не то, клянусь честью, не миновать ему порки!
– В чем дело? – спросил Менесес. – Надо открыть ворота? Я сейчас открою; право, меня от этого не убудет.
– Не смей! – сердито закричал Леонардо. – Я не разрешаю!
– Ну, хорошо, – мягко произнесла своим серебристым голосом Исабель. – Пусть откроет кучер. Лошади устали, и торопиться нам не к чему. Сойди с, коня, Леокадио!
– Нет, нет, Исабель! – воскликнул Леонардо, распаляясь все больше и больше. – Я не разрешаю, я не могу этого разрешить. Если только привратник жив, он сам откроет ворота, для того он сюда и поставлен! – И, вынув часы, Леонардо добавил: – Уже двенадцать. Как раз теперь этих черных скотов отпускают на обед. Если бы мы подъехали на несколько минут раньше, мы бы услышали, как в инхенио прозвонил колокол. Бьюсь об заклад, что этот мошенник сидит сейчас с кем-нибудь из своих дружков в тростниковых зарослях в укромном местечке и в ус не дует! Ну, я ему покажу! Клянусь богом, он мне за это заплатит!.. Нигде нет, точно сквозь землю провалился! – И Леонардо во все горло заорал: – Кайман! Кайман!
Но единственным ответом на этот призыв было лишь многократно повторенное эхо, гулко и мрачно раскатившееся по окрестным холмам и лесам, да лай собачонки, которая вдруг подала голос, изнутри хижины. «Ага, стало быть, он здесь, – решил Леонардо, – но только притворяется, будто спит, потому что ему лень открывать ворота».
– Ну, погоди, – добавил он вслух. – Я тебе дам такого пинка, сразу вскочишь! – И в подтверждение своих слов Леонардо яростно стукнул кулаком по луке седла. Он соскочил с коня и, не отпуская поводьев, вошел в хижину.

Речи и брань Леонардо неприятно поразили слух непривычной к такой грубости Исабели, но, боясь поставить молодого человека в неловкое положение и навлечь на голову бедняги негра еще большие беды, она не решилась усовестить своего друга и указать ему на нелепость его поступков, более того – на опасность, которая могла подстерегать его в хижине привратника, где, возможно, прятался какой-нибудь беглый негр. Но, к счастью, ничего страшного не случилось. В то самое мгновение, когда Леонардо проник в хижину, спутницы его, сидевшие в экипаже, Менесес, находившийся подле них верхом на своем коне, и кучер Леокадио услышали доносившийся с опушки соседнего леса шум и треск раздвигаемых ветвей, точно какое-то животное или человек с трудом пробирался сквозь лесную чащу, а в следующую минуту среди деревьев показался старый, одетый в рубище негр с головой, покрытой суконною шапкой, и с длинным узловатым посохом в руках, служившим ему при ходьбе опорою, без которой он, пожалуй, вынужден был бы передвигаться по земле на четвереньках, потому что годы, тяжелый труд и давняя привычна к жилью с низкою кровлей согнули его тело в дугу. Видимо, старик тотчас заметил приезжих, так как, едва лишь выйдя из лесу, он вдруг остановился в какой-то нерешительности, словно не зная, что предпринять, и в этот миг из его рук выскользнул и исчез в высокой траве некий предмет, светло блеснувший на солнце, – скорее всего бутылка или фляга, Вслед за тем старик двинулся прямо к тому месту, где остановился экипаж, Он шел со стороны, противоположной хижине.
Это случайное обстоятельство спасло беднягу от первого приступа хозяйского гнева. Выйдя из хижины и увидев старика, Леонардо устремился к нему, пустив коня во весь опор; однако, пока он вскочил в седло и преодолел расстояние, отделявшее его от несчастного негра, этот последний, движимый каким-то безотчетным чувством, подбежал к экипажу, ища защиты у наших путешественниц. Вероятнее всего старик и не подозревал, что в инхенио в этот день ждали гостей и что вместе с гостями приедет также и молодой хозяин; к тому же он не очень-то хорошо знал, как выглядит его юный господин. Но, увидев белого, который скакал во весь опор прямо на него и громко кричал: «Ах ты, собака! Узнаешь ты у меня!», он понял, кто это, и упал на колени перед самыми копытами лошади. Лошадь, боясь затоптать человека, рванулась в сторону, но сшибла старика грудью, и он покатился по земле.
Женщины отчаянно перепугались. Роса закричала от ужаса, донья Хуана в растерянности шептала: «Боже мой! Боже мой!», а Исабель, привстав на сиденье и высунувшись из экипажи, подняла руку и скорее с гневом, нежели со страхом, воскликнула:
– Не убивайте его, Леонардо!
– Ему повезло, что это случилось при вас, – отвечал Гамбоа. – Если бы не вы, я, верно, убил бы его. В себя не приду от возмущения! Вот негодяй!
– Ай, хозяин, ай, добрый мой! – восклицал старик, с трудом подымаясь с земли и становясь на колени, словно кающийся преступник пред своим грозным судией.
– Ты где это шатался, каналья? – накинулся на него молодой человек и, не слушая ответов старика, продолжал: – Ты что делал в лесу? Почему тебя на месте не было? Что, в деревню таскался? К хозяину таверны? Наворованный сахар на водку менять, а? Не так, что ли? Да я голову прозакладываю, что так!
– Нет, господин, нет, миленький, упаси бог, ваша милость! Кайман не ворует сахар! Кайман не пьет водку!
– Молчать, паршивец! Отворяй ворота – ну, живо! Что встал, как столб? Ноги отнялись, что ли? Вот погоди, всыплет тебе управляющий горячих, сразу небось прыти прибавится! А ну, бегом, марш! – И, вырвав ногу из стремени, Леонардо хотел пнуть старика в голову, но, к счастью, промахнулся.
Бедняге привратнику было на вид лет шестьдесят, если не больше. Во всяком случае, волосы его и жиденькие усы давно поседели, что в людях черной расы служит верным признаком старости. Его костлявые руки были несоразмерно длинны в сравнении с туловищем, а пальцы скрючены, как у прокаженных; маленькие глаза смотрели угрюмо и вместе с тем печально. Но еще ни разу, наверное, не выражалось в них такой боли и горечи, как в ту минуту, когда, отворив ворота, он взглянул на белых женщин, сидевших в кабриолете: казалось, он умолял их защитить его от господского гнева.
Между тем первый слепой порыв ярости у Леонардо прошел, и он понял, что подобная горячность и грубость могли уронить его во мнении дам, которые находились под его защитой и покровительством и по отношению к которым ему надлежало проявить себя внимательным и учтивым хозяином. Конь Леонардо, и тот выказал больше благородства и великодушия, нежели его господни: он не затоптал старика, лежавшего на земле под самыми его копытами, хотя и мог это сделать. И Гамбоа устыдился своих поступков. Но он был слишком высокомерен, чтобы признать это открыто и попытаться чистосердечно, как того требовали обстоятельства, загладить свою вину. Поэтому он удовольствовался тем, что поведал вкратце своим гостям историю жизни старого привратника, мимоходом стараясь очернить его в их глазах.
– Вы только, пожалуйста, не подумайте, – говорил Леонардо, – будто эта черная образина Кайман и в самом деле такой уж несчастный и беспомощный. Он только с виду кажется смирным и покорным рабом. Должен вам сказать, что прозвище свое он получил не зря и не случайно: другого такого хитреца, пройдохи и мошенника вы во всем свете не сыщете. К тому же он и мастер на все руки и не так невежествен, как его собратья, почему и пользуется между ними особым уважением; он среди них человек влиятельный. Его считают колдуном, говорят, будто он, если захочет, может сделаться невидимкой и что якобы, когда ему грозит опасность, он прибегает к этому средству. Он изготовляет идолов и знает магические заклинания, которые иной раз и впрямь оказывают действие. Можно подумать, что он и не видит, и не слышит, и не разумеет, но от него ничто не укроется ни днем, ни ночью. А когда ему нужно подстеречь добычу, он умеет прикинуться спящим, точь-в-точь как кайман. В молодости он бежал с плантаций и много лет прожил в лесах, потом бежал еще несколько раз, побывал во время своих странствий чуть ли не во всех тайных прибежищах беглых рабов в горах Куско и свел знакомство со всеми хоть сколько-нибудь известными вожаками непокорных негров Вуэльта-Абахо, Сейчас он уже слишком стар для подобных подвигов, и матушка велела назначить его привратником, потому что он был в числе первых строителей нашего инхенио; он один только и остался в живых из тех, кто вбил здесь в землю первые сваи. Правда, управляющие и надсмотрщики, которым хорошо известны и его злонравие и все его былые похождения, противились желанию матушки, но она настояла на своем. Нюх и чутье у него такие, что никакая собака с ним не сравнится. Живет он, можно сказать, как вольный: разводит кур, откармливает каждый год одного-двух поросят на продажу, и деньги копит и держит их где-то в тайнике. У него даже лошадь есть, и он на ней каждую ночь объезжает все имение. Но, как я уже говорил, он порядочная шельма и очень хитер. Я голову дам на отсечение, что он ходил обделывать какие-нибудь свои темные делишки, почему и оставил на произвол судьбы сторожку и свой пост. С приятелями из инхенио он обыкновенно встречается в зарослях тростника, в лесу же – только с беглыми рабами, а также с хозяевами таверн, у которых выменивает сахар на табак, на водку или еще на что-нибудь в этом роде.
– Леонардо верно говорит, – начала было Роса, – потому что мне тоже показалось, будто у него в руках…
Однако тетушка и сестра, менее наивные, чем она, не дали ей закончить фразу, и остальную часть пути все проехали молча.
Наконец во втором часу пополудни, в самый солнцепек, когда длинные листья сахарного тростинка, слепя глаза, сверкали под огненными лучами солнца, точно лезвия стальных мечей, наши путешественники подъехали к дому, в котором жили владельцы инхенио Ла-Тинаха.
Глава 4Самое черное в рабстве – отнюдь не чернокожие рабы.
Хосе де ла Лус Кабальеро
Инхенио Ла-Тинаха было поместьем во многих отношениях замечательным. Более трехсот невольников работало здесь на огромных, богатейших плантациях сахарного тростинка, здесь в изобилии имелся тягловый скот, главным образом волы, и не ощущалось недостатка в земледельческих орудиях, а тростник перерабатывался посредством паровой машины мощностью почти в двадцать пять лошадиных сил. Выписанная из Северной Америки, машина эта обошлась хозяину в двадцать с лишним тысяч песо, не считая тех денег, которые он уплатил за новый горизонтальный пресс, установленный вместе с машиной и стоивший ему еще половину того, что стоила она сама.
Сахароварня, или собственно инхенио, представляла собой открытую постройку, весьма прочную и обширную. Ее красная черепичная кровля покоилась на парных стропилах, опиравшихся на тяжелые балки, в свою очередь лежавшие на толстых опорных столбах, «подпорках», как их здесь называют. Опорными столбами служили кряжистые древесные стволы, сохранившие свою первоначальную круглую форму и лишь слегка обтесанные плотником-баском, архитектором и строителем этого сооружения, нарочно приглашенным хозяином поместья для подобных работ. Здание, хотя и построенное без затей, с деревенской простотой, имело весьма внушительный вид, вполне отвечавший цели, ради которой оно было возведено. Под его крышей размещались: горизонтальный пресс, паровая машина и так называемая ямайская сахароварная установка, то есть три печи с установленными над ними котлами для варки сахара. Все эти устройства располагались на разных уровнях: котлы находились на несколько футов ниже пресса, и, чтобы попасть из верхнего отделения в нижнее, приходилось пользоваться одной из двух широких каменных лестниц, ведших к горизонтальному прессу и паровой машине. При таком устройстве сок, только что выжатый прессом из тростника, стекал по деревянному желобу в особый чан, называемый здесь «заводью», где он некоторое время отстаивался, а затем, уже несколько очищенный, поступал в большой металлический котел, «таз», и тут подвергался первой варке.
Параллельно зданию сахароварни протянулось еще одно строение точно такой же длины, но приземистое и закрытое, с каменными стенами и единственной дверью, пробитой напротив той части главного здания, где помещались сахароварные котлы. В этом каменном бараке производилась очистка и сушка сахара. Кроме двух названных построек, во дворе инхенио находились плотницкая мастерская, кузница, лазарет и еще один барак, выполнявший назначение родильного приюта. Тут же стояли и домики управляющего, надсмотрщика, мастера-плотника, дворецкого и мастера-сахаровара, приглашаемого в инхенио на период уборки и переработки сахарного тростника. Для машиниста, управлявшего паровой машиной – должность эту покамест исполнял приезжий молодой американец, – соорудили временное жилье в самой прессовальне, для чего отгородили кедровыми досками небольшое пространство рядом с машиной, так что образовалась маленькая комнатка, единственное закрытое помещение во всем неуютном и нескладном здании сахароварни. Несколько поодаль особняком расположились в окружении курятников и свинарников тростниковые хижины, которых насчитывалось здесь более двух сотен; то были жилища трехсот черных рабов, составлявших главное богатство инхенио. Между зданием парового пресса и бараком для очистки сахара находилось еще несколько открытых строений, как-то: помещение, где измельчали глину, употребляемую при очистке сахара, склад для жома и другие, менее важные службы.
Господский дом, украшенный широким портиком-террасой, был каменный, с толстыми стенами и кровлей из фигурной красной черепицы. Стоял он на отлогом склоне холма, и потому фундамент его со стороны фасада был несколько выше, чем со стороны патио. В плане здание представляло собой трапецию; в ее большем основании находился квадратный зал, к которому примыкали с обеих сторон анфилады комнат и внутренний коридор, сообщавшийся с прямоугольным патио, занимавшим всю середину дома. Со стороны, противоположной главному залу, патио был замкнут высокой стеной, утыканной поверху битым стеклом; в этой же стене проделана была дверь для челяди, запиравшаяся на крепкий засов и замок. Множество высаженных в патио цветов и тенистая зелень росших здесь густых виноградных лоз и нескольких апельсиновых и фиговых деревьев наполняли комнаты благоуханной прохладой. Тем не менее в полуденные часы вдоль огибавшего патио внутреннего коридора опускались парусиновые маркизы, преграждавшие доступ внутрь дома даже отраженному солнечному свету. Такие же точно маркизы затеняли и террасу, особенно нуждавшуюся в этой защите, поскольку она была довольно высоко поднята над землей, очень широка и потому открыта ветрам и солнцу, нещадно палившему на всем пространстве огромного хозяйственного двора, где не росло ни единого деревца.
С высокого портика, откуда вели вниз широкие ступени каменной лестницы, можно было охватить взглядом и все длинное здание сахароварни, возвышавшееся в середине двора параллельно господскому дому, и за ним, несколько правее, помещение для очистки сахара, обращенное к этому центральному зданию той своей стороной, где находились сушильные камеры, и почти все остальные службы и жилые строения громадного поместья, и видневшийся поодаль поселок рабов, или, вернее, частокол, окружавший их примитивные жилища, и раскинувшиеся к западу от усадьбы плантации сахарного тростника, и вдали светлые соломенные крыши конного завода, а еще дальше – огромную пальмовую рощу, сверкающую излучину реки и на заднем плане непроходимые чащи диких лесов, которые своим сумрачным фоном лишь ярче оттеняли веселые краски этого сельского пейзажа.
В полдень 24 декабря 1830 года хозяева инхенио Ла-Тинаха отдыхали на террасе портика, надежно защищенною парусиновыми жалюзи от слепящего солнечного света; здесь же находились их гости: священник прихода Кьебраача дон Кандидо Вальдес, капитан-педанео [72]72
Капитан-педанео– чиновник, наделенный административными и судебными полномочиями, в обязанности которого, в частности, входило следить за общественным порядком.
[Закрыть]со своей женой, врач и еще две дамы: жена и свояченица управляющего конным заводом. Уютно расположившись в красных кожаных креслах, мужчины курили, а донья Роса, юные сеньориты Гамбоа и гостьи лакомились сластями, приготовленными из стеблей сахарного тростника, и апельсинами, выросшими здесь же, в инхенио. То и дело появлялись на террасе, прислуживая господам, наши старые гаванские знакомые: Тирсо, Апонте, Долорес и еще одна служанка, заранее доставленные сюда на шхуне через Мариель. Им помогали две-три негритянки-креолки из инхенио, миловидные девушки, взятые в дом именно за эти два немаловажных достоинства: миловидность и местное происхождение.
Младшим дочерям сеньора Гамбоа, Кармен и Аделе, не сиделось на месте: съев кусочек гуайябы или дольку апельсина, они тут же вставали и, взявшись за руки, принимались ходить туда и обратно по террасе, из одного ее конца в другой, всем своим видом обнаруживая, что они ждут не дождутся приезда алькисарских приятельниц, задержавшихся, как это казалось обеим сестрам, где-то в пути. Особенное нетерпение проявляла Адела: каждый раз, дойдя до южной стороны террасы, она откидывала край парусиновой маркизы и устремляла жадные взоры туда, где главная подъездная дорога пересекалась с дорогой Ла-Плайя. Наконец в начале второго часа послышался отдаленный шум едущего экипажа и быстрый цокот многих лошадиных копыт, и Адела, еще ничего не видя, радостно воскликнула:
– Едут! Едут!
На этот раз она не ошиблась. Несколько минут спустя китрин сеньорит Илинчета подкатил к ступеням портика, весь покрытый красноватой пылью: такая же густая красноватая пыль покрывала с головы до ног и самих путешественниц, и сопровождавших их всадников, и усталых лошадей. Не станем описывать во всех подробностях последовавшую затем сцену встречи двух семейств, вновь после долгой разлуки свидевшихся в лесной глуши Вуэльта-Абахо. Заметим лишь, что имелось немало причин, почему событие это, в глазах по крайней мере некоторых из его участников, полно было совершенно особенного, важного смысла. К тому же гости и хозяева были охвачены в эту минуту тем внезапным порывом взаимной приязни, которую нередко испытывают молодые и даже немолодые люди, когда сходятся вместе, чтобы в беззаботном дружеском кругу провести несколько праздничных дней, и не там, где они привыкли встречаться обычно, а совсем в иной обстановке, вдали от дома, на лоне природы; тогда ярче разгорается пламя дружбы в сердцах друзей, родственники вдруг убеждаются, что кровные узы связуют их гораздо сильней, чем они подозревали, а любящие… о! любящим кажется тогда, что счастье их будет вечным, что в эти краткие дни любовь даст им вкусить неземное блаженство!
Женщины горячо обнимали и целовали друг друга. Адела, боготворившая Исабель, которая была в ее глазах образцом всех женских совершенств и добродетелей, кинулась на шею к подруге, проливая слезы искренней радости. Точно так же и донья Роса, всегда отличавшая старшую дочь сеньора Илинчеты, выказала ей ври встрече самое сердечное радушие. Даже дон Кандидо, в последнее время такой хмурый и неприветливый, не удостоивший улыбки собственного сына, когда тот подошел к нему под благословение, – даже дон Кандидо встретил сеньорит Илинчета изъявлениями не свойственной ему ласковости и внимания и, представляя девушек своим гостям, сказал:
– Они для меня все равно что родные дочери, – после чего, обращаясь к Исабели, добавил: – Наш дом – твой дом, и я хотел бы, чтобы здесь тебе так же было хорошо и весело, как у тебя дома, в твоем чудесном Алькисаре.
Встреча на террасе портика продолжалась недолго: гостьи устали с дороги, им надо было привести себя в порядок, помыться, отдохнуть и переодеться к обеду. По распоряжению доньи Росы, или, вернее сказать, по распоряжению жены управляющего Мойи, которая состояла при донье Росе чем-то вроде домоправительницы, избавляя ее от тягостных хлопот по хозяйству, для сеньорит Илинчета и для их тетушки отвели комнаты в правом крыле здания, позади главного зала, рядом с покоями самих Гамбоа.
Уже вечерело, когда хозяева и гости собрались за обеденным столом в большом зале господского дома. Их было шестнадцать человек, кавалеров и дам; прислуживало им восемь черных рабов. Донья Роса потчевала гостей, исполняя обязанности хозяйки дома. Также и дон Кандидо старался быть любезным со своими гостями, во всяком случае настолько, насколько ему позволял это его характер. Впрочем, лишь четыре человека удостоились за столом внимания и беседы дона Кандидо: то был, в первую очередь, управляющий инхенио Вальванера, во вторую – священник из Кьебраачи, в третью – местный врач и, наконец, капитан-педанео.
Все эти господа были приглашены в инхенио на торжественную церемонию, которая должна была состояться здесь завтра, в первый день рождества, и потому все они оставались ночевать в доме дона Кандидо. Из белых, служивших в Ла-Тинахе, никто не получил приглашения на обед в господский дом. Исключение составляли только жена и свояченица управляющего конным заводом Мойи. Сам же управляющий, державшийся, впрочем, довольно независимо с хозяевами Ла-Тинахи, все же не решился последовать примеру жены и свояченицы и, хотя был зван к столу доном Кандидо, отговорился, сославшись на то, что уже отобедал дома.
За столом царили непринужденная веселость и оживление, умеряемые, однако, той сдержанностью, которая присуща хорошо воспитанным людям, хотя, по правде сказать, никто из присутствующих, кроме Менесеса, Леонардо и священника, не получил сколько-нибудь тщательного воспитания и никогда не бывал в высшем кругу кубинского общества. Священник дон Кандидо Вальдес, по происхождению креол, получил образование в гаванской семинарии Сан-Карлос. В вопросах веры его терпимость доходила чуть ли не до беспечности; в политике он придерживался взглядов либеральных, даже крайних [73]73
В 1869 году дон К. Вальдес был сослан губернатором Дульсе на остров Фернандо Поо в числе двухсот пятидесяти других лиц, обвинявшихся вместе с ним в распространении либеральных взглядов. (Прим. автора.)
[Закрыть]. Галисиец доктор Матеу начал свою врачебную практику, лекарем на невольничьих кораблях, переправлявших негров в Америку, а теперь по контрактам с хозяевами инхенио пользовал больных в нескольких соседних поместьях. Его считали красивым, но красивая наружность соединялась в нем с отменной глупостью и самомнением. Он искренне был убежден, что женщины сходят по нем с ума, а за столом то и дело украдкой бросал взгляды на Росу Илинчета, чье хорошенькое личико, живость и бойкий прав могли бы вскружить голову и не такому пустому малому, каким был доктор Матеу. Напротив, падре Кандидо Вальдес сразу же отдал предпочтение Исабели, обнаруживая в каждом жесте, в каждом слове девушки свидетельство ее высокого ума и благородных качеств души. Женатый на красивой креолке астуриец дон Мануэль Пенья, капитан-педанео, начал свою жизненную карьеру за стойкой деревенского кабачка, сумев мало-помалу возвыситься до своей нынешней должности, которая была сопряжена с исполнением обязанностей мирового судьи, что и служило единственной причиной, почему владельцы инхенио Ла-Тинаха приглашали дона Мануэля к своему столу. Совсем иное впечатление производил дон Хосе Кокко. Невысокого роста, голубоглазый и белозубый, с тонкими чертами лица, этот уроженец Кадиса, не получивший почти никакого образования, был, однако, не лишен остроумия и обаятельности. Во все продолжение обеда он усиленно ухаживал за сидевшей с ним рядом второй из сестер Гамбоа, отлично сознавая при этом, что дочь владельца Ла-Тинахи никогда и ни при каких обстоятельствах не отдаст своей руки и сердца управляющему инхенио Вальванера. Что касается Аделы, самой миловидной из трех сестер, то она была еще слишком юна, и мужчины, присутствовавшие на обеде, не уделяли ей особенного внимания.
Зато они уделили должное внимание вину, которого немало было выпито за столом. Наконец обед окончился, слуги унесли посуду и скатерти, после чего на том же, но уже непокрытом полированном красного дерева столе был сервирован десерт и подан в чашечках из просвечивающего китайского фарфора черный ароматный кофе, а к нему пенистое шампанское, французский коньяк и ямайский ром. После кофе дон Кандидо Гамбоа достал свой большой золотой портсигар, великолепный и благоухающий, и не без торжественности предложил капитану-педанео, доктору и священнику по сигаре – сеньор Кокко и Диего Менесес не курили, а Леонардо не смел закурить в присутствии отца.
Когда встали из-за стола, солнце уже зашло; однако, выйдя на широкую террасу портика, где слуги к этому времени уже успели поднять парусиновые маркизы, хозяева и гости с удовольствием убедились, что снаружи было довольно светло: за дальним лесом вставал новорожденный месяц, и в косо падавших его лучах белели стволы высоких пальм и четно вырисовывались длинные листья и султаны соцветий сахарного тростника, а с далеких и синих, прозрачных, как горный хрусталь, небес мириады звезд изливали на землю сверкающий поток золотых и серебряных искр.
Общество разделилось на три группы. Донья Роса и донья Хуана вместе с женой управляющего Мойи и женой капитана-педанео, а также старшая из сеньорит Гамбоа, Антония, вновь расположились в стоявших на террасе красных кожаных креслах. Вторая группа составилась из дона Кандидо, священника, капитана и управляющего конным заводом, которые, заботясь о своем пищеварении, медленно прохаживались по одной стороне террасы, курили с наслаждением свои сигары и вели между собой неторопливую беседу. Дон Кандидо решил воспользоваться этой прогулкой, чтобы получить точные сведения о событиях, происшедших в инхенио в последние две недели до его приезда, а так как сообщения управляющего плантациями, лица заинтересованного, казались Гамбоа именно в силу этой причины недостоверными, он как бы между прочим задал два-три вопроса управляющему конным заводом, и Мойя, польщенный тем, что владелец поместья обращается к нему в присутствии священники и капитана-педанео, принялся давать обстоятельные объяснения, в которых, впрочем, сквозило немало самодовольства.
– Скажите, Мойя, – спросил его дон Кандидо, – удалось что-нибудь узнать об этих неграх, сбежавших на прошлой неделе? Дворецкий сказал мне, что их семеро и что будто среди них есть одна женщина.
– Совершенно верно, сеньор дон Кандидо, – ответил управляющий. – А вот узнать так ничего и не узнали.
– Но что-нибудь для их поимки было же сделано? – продолжал выспрашивать Гамбоа.
– Как же, как же, сеньор дон Кандидо! Обшарили весь лес Санто-Томас и лес Ла-Лангоста. Шли, можно сказать, по свежему следу. Да где там! У дона Либорио Санчеса собаки хоть и клыкасты и хваткой хороши – дай им волю, загрызут любого негра, – да вот нюха у них ни на грош! Но я все же думаю, что далеко эти семеро уйти не могли. Сбежали-то они дурóм, лесов здешних не знают. С хорошими собаками давно бы всех переловили. Эх, послал бы мне господь добрых собачек! Таких, чтоб черномазого за три легвы чуяли!








