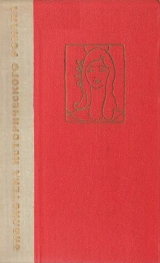
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц)
…На родине своей,
Где небеса безоблачны и ясны,
Я не могу решиться быть рабом.
Признав, что все в Природе
совершенно
И благородно, кроме человека.
Хосе Мариа Эредиа. «К Эмилии»
Когда Леонардо соскакивал с подножки шарабана на тротуар, ему показалось, что какой-то военный в полной форме отошел от второго окна их дома и быстро зашагал к Старой площади; в то же время за окном мелькнуло хорошо знакомое лицо, и юноша узнал одну из своих сестер. Ускорив шаг, он действительно увидел сквозь решетку сагуана, как Антония, его старшая сестра, приподнимает занавес, чтобы пройти в первую комнату через дверь, которая вела в гостиную. Это неожиданное открытие огорчило брата больше, чем можно было ожидать: перебрав в памяти события дня, он убедился со всей очевидностью, что пока он там, в квартале Ангела, любезничал с мулаткой, здесь, в квартале Сан-Франсиско, некий капитан испанской армии ясным октябрьским утром любезничал с его сестрой. Воспоминание о недавно пережитых им приятных минутах, которое, словно светлое видение, все еще витало перед мысленным взором Леонардо, при виде этой неприятной ему сцены стало тускнеть, а потом и совсем растаяло.
Подлинными представителями поколения, социальный и нравственный облик которого мы пытаемся здесь обрисовать, были Леонардо Гамбоа и его товарищи студенты. Поколение это, повторяем еще и еще раз, имело весьма поверхностное представление о том, какое место отводилось родине в мире идей и принципов. Иными словами, патриотизм их носил платонический характер, ибо он не основывался ни на чувстве долга, ни на знании подлинных прав гражданина и свободного человека.
Конституционный режим, который утвердился на Кубе в первый раз с 1808 по 1813 год, а затем, вторично, с 1821 по 1823 год, ничему не научил поколение начала тридцатых годов. Для этих людей пронеслись, словно сон, словно картины жизни иного мира или иной страны, такие события, как провозглашение свободы печати, создание национальной милиции, осуществление принципа всеобщего избирательного права, народные собрания, бурная деятельность «неистовых» и пропаганда ими крайних идей, тайные сборища масонских лож, учреждение кафедры права и политической экономии, лекции падре Варелы о конституции. После каждого из этих двух кратких конституционных периодов над Кубой проносилась волна деспотизма метрополии, которая уничтожала все, вплоть до идеи и принципов, насаждавшихся с таким рвением прославленными учителями и выдающимися патриотами. Ужи успели исчезнуть вольные газеты, брошюры и те немногие книги, которые вышли в свет во время этих двух памятных эпох. Если же и сохранились один-два экземпляра таких издании, то они находились в руках библиофила, которому приходилось прилагать огромные усилия, чтобы спрятать их в укромном месте.
Печать, которая, начиная с 1824 года, подвергалась предварительной цензуре, умолкла на всем острове. Те же немногие газеты, которые продолжали выходить в том или ином кубинском городке или селении, не заслуживали названии органов печати. Осадное положение, в котором с тех пор пребывала страна, не допускало, чтобы обсуждались вопросы, способные усиленно интересовать народ. Говорить о политике, публично или в частных беседах, считалось тяжким преступленном; даже упоминание об отдельных лицах или событиях было строжайше запрещено. Таким образом, минувшие события как на Кубе, так и за пределами ее, революционные попытки внутри страны, отголоски жестокой борьбы за свободу и независимость на континенте – все это для большинства кубинцев было покрыто тайной и предано забвению. К тому же история, которая занимается собиранием и хранением всего, что может пригодиться будущим поколениям, еще не была написана.
Однако не было недостатка в людях, которые и в эти дни поговаривали о решительных действиях и добивались того, чтобы на Кубу поступали известия о событиях, происходивших за ее пределами, которые могли преподать народу его обязанности и напомнить ему о его правах. Именно с этой целью, не желая отставать от других, благочестивый падре Варела издавал с 1824 по 1826 год газету «Эль аванеро», выходившую в Филадельфии, но испанское правительство объявило эту газету листком, ниспровергающим устои государства, и запретило ее распространение на Кубе. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что очень немногие экземпляры этого издания имели хождение на острове. Позднее, а именно с 1828 по 1830 год, там же, в Северной Америке, Сако предпринял издание газеты «Эль менсахеро семаналь», посвященной вопросам науки и литературы, которая по тем же причинам, что и предыдущая, имела лишь ограниченный доступ в Гавану и не оказывала сколь либо значительного влияния на развитие политического самосознания. Из всего, что помещалось в этой газете, одно только нашло себе отклик в сердцах гаванской молодежи: это были, уже упоминавшиеся нами, полемические статьи Сако. Прославленный редактор этой газеты полемизировал на ее страницах с директором Ботанического сада, доном Рамоном де ла Сагра, по поводу его страстной критики на книгу стихов славного кубинского Тиртея – поэта Хосе Мариа Эредиа, – увидавшую свет в Толуке в 1828 году.
Стихи этого выдающегося поэта гораздо более, нежели газетные статьи, увлекали значительную часть кубинской молодежи и оказывали на нее огромное влияние, особенно его ода «Звезда Кубы», созданная в октябре 1823 года, а также его послание «К Эмилии», написанное в 1824 году, и сонет, посвященный дону Томасу Бовесу; его «Гимн изгнанника» (1825 год) вызвал в Гаване неподдельный восторг. Стихотворение это многими заучивалось наизусть, а немало было и таких, которые читали его по любому поводу, когда их личной свободе не угрожала опасность. Но ни газеты, ни пламенные стихи, как ни лились через край их вольнолюбивые и патриотические идеи, не были сами по себе достаточны для того, чтобы внушить народу чувство любви к родине и к свободе, которое заставляет людей идти подчас на самопожертвование и добывать свои права с мечом в руке.
Кроме того, смутное, если не печальное, воспоминание оставили по себе минувшие заговоры. Так, например, от заговора 1812 года в памяти у всех уцелело лишь имя его Главаря – Апонте. Еще и поныне, если нужно обрисовать какого-нибудь злодея или испорченного человека, старухи восклицают: «Хуже самого Апонте!» О Лемусе, возглавившем заговор 1823 года, знали понаслышке, что он мучился на каторге в Испании; о Неоли – что он, переодевшись в женское платье, бежал из казармы Белон; о Феррети, доносчике, – что он пользовался расположением и милостями правительства; об Армоне, который преследовал и захватил главных заговорщиков, – что он продолжал быть начальником особой жандармерии, созданной во времена губернатора дона Франсиско Вивеса.
Только по слухам было известно, что правительство Вашингтона якобы воспротивилось в свое время высадке на Кубе и в Пуэрто-Рико мексиканских и колумбийских войск и что в результате этого в Пуэрто-Принсипе в 1826 году были повешены, как эмиссары-инсургенты, Санчес и Агуэро [37]37
По инициативе виднейшего вождя национально-освободительного движения в латино-американских странах генерала Симона Боливара 26 июня 1826 года в городе Панаме была созвана Генеральная ассамблея испано-американских наций. В качестве одного из основных вопросов на ней обсуждалась военная помощь патриотам Кубы и Пуэрто-Рико, куда предполагалось направить контингенты мексиканских и колумбийских войск. Однако рабовладельцы Соединенных Штатов, опасаясь, как бы освобождение цветного населения Антильских островов не привело к волнениям среди негров в их собственной стране, воздействовали на федеральное правительство, и Белый Дом воспротивился этой экспедиции.
С начала 20-х годов кубинцы-эмигранты не переставали засылать на остров своих людей. Двое из них – Андрес Мануэль Санчеси Франсиско де Агуэро-Веласко – были схвачены близ Камагуэя и повешены как шпионы в Пуэрто-Принсипе 16 марта 1826 года.
[Закрыть]. Но забвение и безразличие дошли до крайней степени: в те самые дни, о которых мы вели рассказ на предыдущих страницах, продолжалось судебное преследование по обвинению в государственной измене участников заговора, получившего название «Черный орел», и многие из них были заключены в кордегардии драгун, в казармах цветных ополченцев, в замке Пунта и в других местах, а в народе не было даже заметно признаков недовольства или хотя бы простого любопытства.
То же можно сказать и в отношении прежних кубинских заговорщиков, попытки коих не удались: люди эти либо находились все еще вдали от родины, либо погибли в изгнании, либо их патриотический пыл постепенно остывал и они вели незаметную и спокойную жизнь, направляя свои усилия к тому, чтобы выправить ущерб, нанесенный временем и общественными раздорами их здоровью и имущественному положению. Поэтому те, кто и вернулся на родину, не занимались, да и не могли заниматься, пропагандой передовых взглядов и проектов политического переустройства, рожденных и взлелеянных в дни всеобщего подъема и беспредельной веры в могущество свободы.
Креолы же и испанцы, ранее эмигрировавшие на континент, теперь, по возвращении на Кубу, словно для того, чтобы оправдать свою трусость, эгоизм или реакционность в пору войны за независимость, старались лишь извратить истинный смысл событий, поносили революционеров, утверждая, что их самопожертвование, патриотические поступки вызваны якобы самыми недопустимыми, порочными и неблаговидными побуждениями; они всячески принижали их подвиги и считали их акты правосудия и репрессивные меры дикой жестокостью. В представлении этих ренегатов республиканец и патриот был инсургентом, то есть бунтовщиком, врагом бога и короля, а корсар – пиратом или «мусульманом», как называл народ алжирцев, которые до конца прошлого века опустошали побережье Средиземного моря.
Читатель-гаванец, хорошо знакомый с нравами молодежи той эпохи, которую мы пытаемся обрисовать, охотно нам поверит, если мы скажем, что Гамбоа не занимался политикой; если даже порой ему и приходила в голову мысль, что Куба стонет под игом, то он не думал о том, что ему самому или какому-нибудь другому кубинцу следует приложить усилия к ее освобождению. Правда, соприкасаясь с людьми старшего поколения и изучая юриспруденцию, Леонардо, как всякий креол, составил себе представление о возможности лучшего устройства общества у себя в стране, о необходимости создания правительства, в котором было бы меньше военных и которое не так сильно угнетало бы его родную страну. При всем том, что он был сыном испанца, богатого коммерсанта, которого посещали преимущественно его земляки, Леонардо ненавидел их, особливо военных, несомненно служивших опорой сложной колониальной системе на Кубе. Итак, оставаться равнодушным к тому, что некий военный вот-вот похитит его дорогую сестру, Леонардо, разумеется, не мог; наряду с чувством острой ревности он испытывал глубокую ненависть к человеку, который был не только солдатом, но и испанцем.
Таким образом, юноша вошел в дом сильно раздосадованный всем виденным. Стол был уже накрыт для завтрака, но Леонардо не пошел за матерью, как он это обычно делал, а поднялся, никого не замечая, прямо к себе в комнату, швырнул учебник на кресло, снял суконный сюртук и надел тиковую куртку в цветную полоску. В течение нескольких минут он подумывал о том, не броситься ли ему в постель, которая сулила отдых под свежестью простынь и голубым пологом от москитов, или выйти на балкон, где была еще тень. Но вот появился негритенок Тирсо и доложил:
– Молодой сеньор, завтрак на столе.
Леонардо поспешил спуститься в столовую, где его уже ждали мать и отец. Молча сел он рядом с матерью, которая еще издали бросила на него влюбленный взгляд, словно она была удивлена и огорчена тем, что он не пришел к ней сразу же, как вернулся. Отец даже не поднял глаз от тарелки с яичницей под томатным соусом, хотя и не видел сына со вчерашнего дня.
Тут же одна за другой вышли из своих комнат сестры Леонардо, одетые для прогулки. Молча, как монахини в трапезной, уселись они за стол. Каждая из девушек заняла отведенное ей место; донья Роса со своим любимым сыном сидела по одну сторону стола, три дочери – по другую, а дон Кандидо и дворецкий – на противоположных его концах. Размещение это не было случайным, оно было продумано и менялось лишь в тех случаях, когда появлялся какой-нибудь гость, которому нужно было оказать особый прием. Все это ясно указывало на взаимоотношения в семье и на пристрастие родителей к тому или иному ребенку.
В предпочтении доны Росы было трудно ошибиться: оно явно склонялось в пользу Леонардо. Что же касается дона Кандидо, то его симпатии в тех редких случаях, когда они проявлялись, были целиком отданы старшей дочери Антонии.
Дон Кандидо был больше дельцом, чем светским человеком. Еще юношей, не имея никакого или почти никакого образовании, он приехал на Кубу из поселка в горах Ронды [38]38
Ронда– горный кряж на юге Испании.
[Закрыть]и составил себе здесь капитал благодаря своей ловкости и бережливости, а главным образом благодаря удаче, которая ему всегда сопутствовала в рискованной торговле рабами, добытыми на побережье Африки.
Поначалу его основная коммерческая деятельность в Гаване, которая послужила ему ступенью на пути к заветным вершинам богатства, заключалась в торговле лесом, поступавшим из Северной Америки в виде сырой древесины и теса, а также в сбыте местных изделий – красной черепицы, кирпича и извести. Теперь же занятия коммерцией не составляли предмета его исключительных или личных забот, ибо куда приятнее ему было слышать, как друзья именовали его плантатором за то, как превосходно он поставил дело в инхенио [39]39
Инхенио– поместье с плантациями сахарного тростника и сахароварным заводом.
[Закрыть]Ла-Тинаха, расположенном в округе Мариель, за кофейные плантации Лас-Мерседес в Гуира-де-Мелена и за потреро [40]40
Потреро– имение с конным заводом.
[Закрыть]в Ойо-Колорадо.
По натуре своей, а скорее даже по привычке, дон Кандидо в кругу своей семьи бывал сдержан и холоден: он скрывал от домашних, какими делами он занимался в молодости, не рассказывал о том, какая жажда наживы овладела им, как только он женился на богатой креолке, которая принадлежала к одному из самых надменных семейств Гаваны.
В первые годы после женитьбы сеньор Гамбоа не отличался образцовый поведением и не мог служить примером для Леонардо, как мы узнали об этом в конце седьмой главы из уст доньи Росы. Так или иначе, быть может именно потому, что он был уж очень необразован, дон Кандидо не занимался воспитанием своих детей и еще менее того – их духовным развитием. Обе эти обязанности выпали на долю его жены, которая, если и не обладала нужными познаниями, все же была наделена интуицией и нежными материнскими чувствами, при наличии коих всегда можно дать благое направление пылким страстям, свойственным молодежи. Нежность, особливо в вопросах воспитания, является источником и зеркалом всех добродетелей.
Будучи человеком невежественным и грубым, дон Кандидо, помимо всего, отличался странной манерой выражать свое недовольство детьми. Он даже не поднял головы, как мы видели, когда Леонардо вошел в столовую. Это было верным признаком того, что он продолжает сердиться на сына. В самом деле, всякий раз, когда кто-нибудь из детей давал ему повод к недовольству, что, впрочем, случалось нередко, он наказывал, вернее – полагал, что наказывает, провинившегося тем, что целыми днями, а то и месяцами, не разговаривал с ним. Поэтому угадать действительную причину раздражения отца детям почти никогда не удавалось; в этих случаях связующим звеном или посредницей, которая поддерживала мир и согласие в кругу семьи, всегда была донья Роса.
Антонии, старшей дочери, удивительно похожей на мать, было двадцать два года. Леонардо едва минуло двадцать, а младшим сестрам, Кармен и Аделе, – семнадцать – восемнадцать. Адела могла сойти за совершенный образец красоты, ибо отвечала всем тем требованиям, которые предъявляли греческие ваятели к женщине, чью статую они собирались высечь: красивая голова, правильные черты лица, изящные формы, благородная осанка, стройная талия, высокий лоб и огненный взгляд. Напоминая скорее Афродиту, нежели одну из парок, Адела больше походила на дона Кандидо, чем на донью Росу. Между дочерью и отцом было не только то, что понимается обычно под семейным сходством: подвижные черты девушки, ее живой ум, бесспорно, выдавали в ней дочь дона Гамбоа.
Леонардо обычно сидел за столом напротив своей сестры Аделы, и всякий раз в присутствии отца они в течение всего завтрака или обеда не переставали обмениваться понимающими взглядами, часто улыбались друг другу, короче – переговаривались глазами и губами, как нежно любящие брат и сестра, не роняя при этом ни слова. Было совершенно очевидно, что их связывали прочные узы глубокой взаимной симпатии. Не будь они братом и сестрой, они любили бы друг друга, как самые прославленные любовники, каких только знал мир. Однако в описываемое нами утро не было обычных улыбок и нежных взглядов. Леонардо был не то раздосадован, не то опечален; казалось, странное и глубокое беспокойство овладело его душой. Во всяком случае, Адела напрасно искала его ответного взгляда; она нахмурила брови и попыталась через стол опалить его лицо лучами своих чудесных глаз. Но взгляды их так и не встретились, на его окаменевшем лице она не уловила ни малейшего признака нежности. Наивная девочка огорчилась. Неужто она дала ему повод рассердиться на нее, сама того не зная? Что случилось с ее любимым братом? Почему те два-три раза, когда она перехватывала его взгляд, застывший в безмолвном созерцании ее лица, он вдруг опускал глаза или притворялся совершенно отсутствующим и безразличным? Быть может, Леонардо не умел объяснить, что он безотчетно изучает ее прекрасные черты, а бедняжка Адела была слишком юна, чтобы это понять? Какие мысли витали тогда в его мозгу? Трудно сказать. Одно можно утверждать определенно: в созерцательности Леонардо было больше восхищения, чем рассеянности, больше услады, чем холодного раздумья, словно он открыл теперь в выражении лица своей сестры нечто такое, чего он ранее не замечал.
Завтрак длился около часа, и все это время за столом царила полная тишина, нарушаемая лишь звоном серебряных приборов или голосами тех, кто требовал то или иное блюдо у негритенка Тирсо, знакомого уже нашим читателям, и у хорошенькой молодой негритянки. Слуги эти, стоя со скрещенными на груди руками, ожидали приказаний и старались усердно выполнять возложенные на них обязанности. Первый при этом прислуживал главным образом мужчинам, вторая – женщинам. Но как тот, так и другая (на это следует обратить внимание) угадывали, казалось, самые мысли дона Кандидо, ставя перед ним то или иное блюдо, на которое он указывал только глазами, с каковой целью ни Тирсо, ни Долорес, прислуживая прочим, не отрывали взгляда от своего хозяина. Но горе им, если они выжидали особых приказаний или ошибались в блюде, которое желал заменить тонкий ценитель яств. Наказание не заставляло себя ждать: в голову им летело первое, что попадало сеньору под руку.
Изобилие еды соответствовало разнообразию блюд. Кроме говядины и поросятины – жареной, вареной и тушеной, – здесь подавался телячий фарш в тесте из маниоки, жаренный в масле цыпленок с чесноком, яичница, почти тонувшая в томатном соусе, пареный рис, спелые бананы, тоже жаренные длинными сахаристыми ломтиками, кресс-салат и латук. По окончании завтрака показался третий слуга, без куртки, в засаленном переднике, похожий на повара, с фаянсовыми кофейниками в обеих руках, и начал наливать кофе с молоком – сначала в чашку дона Кандидо и затем по очереди донье Росе, Леонардо, сеньоритам и, наконец, дворецкому, хотя тому и не подобало занимать место за столом, во главе которого сидел хозяин, а в конце – старшая его дочь. Дворецкий был всего-навсего белым слугой, и никто лучше других слуг не определял его положения в этом доме.
Семья распивала кофе с горячим молоком, когда мимо столовой прошел на улицу знакомый нам кучер Апонте, без куртки, в жилете; на ногах у него были высокие сапоги для верховой езды с массивными серебряными шпорами. Он вел под уздцы двух лошадей, хвосты которых были тщательно заплетены в косицы и концы их привязаны шерстяной нитью к толстому металлическому кольцу позади седла. Войдя в сагуан, Апонте отпустил обеих лошадей и сразу же раскрыл настежь широкие ворота; он удержал на весу оглобли китрина за посеребренные толстые кольца, ввинченные по краям, и, крикнув: «Назад!», выкатил экипаж на середину улицы, повернул его и поставил вплотную к панели возле дома. Затем кучер взял под уздцы коренную лошадь и, ударив ее левой рукой по животу, почти насильно втиснул в оглобли; после чего он подвесил оглобли за большие металлические кольца на парные железные крюки, которые свешивались с седла и были прикрыты небольшими полами из черной выделанной коровьей кожи. Другая, верховая лошадь была тут же пристегнута к экипажу двумя прочными кожаными постромками, плотно притянутыми своими петлями к ваге.
После кофе дон Кандидо вытащил мешок с сигарами и засунул в него руку по самый локоть, настолько он был глубок. Заметив это, Тирсо слетал на кухню за серебряной жаровней с раскаленным древесным углем. Прежде чем хозяин успел откусить кончик сигары – без этого ее не зажечь, – слуга с выражением полнейшего смирения, сквозь которое проглядывал страх, уже подносил огонь, чтобы сеньор мог закурить из его рук. Затянувшись голубоватым и едким дымом сигары, дон Кандидо тотчас же встал и в сопровождении дворецкого направился в кабинет, по-прежнему в полном молчании, как и час тому назад, когда он вышел к столу.
Достаточно было отцу удалиться, чтобы настроение семьи, не исключая и самой сеньоры Росы, внезапно резко изменилось. По-видимому, у детей полегчало на душе, спал груз, который давил их, ибо у всех, словно по уговору, повеселели лица и развязались языки. Пуще всех возликовал Леонардо: левой рукой он привлек мать к себе, звонко поцеловал ее раз-другой в щеку и, кивнув вслед только что вышедшему отцу, спросил:
– Что с ним? Никак он взъелся на кого-то?
– На тебя, – лаконично ответила мать.
– На меня? Ну и задаю же я ему работу!
Но вскоре юноша снова помрачнел, заметив, что его старшая сестра Антония ведет себя гораздо сдержаннее, чем остальные присутствующие, и сразу припомнил утреннюю встречу у окна.
– Мама, – сказал он самым серьезным тоном, – мне кажется, что тебе хотят причинить ущерб, а ты даже этого не чувствуешь.
– О чем ты говоришь, сынок? – спросила донья Роса с такой лаской в голосе, какую только можно себе представить.
– Сказать ей, Антония? – спросил он с лукавой улыбкой.
Ничего не ответив, Антония сделалась еще серьезней и привстала, словно желая выйти из-за стола; видя это, Леонардо поспешил добавить:
– Тем хуже для тебя, Антония, раз ты уходишь и не даешь мне договорить. Я ничего не расскажу маме, но только потому, что кое-что уже твердо решил. Военные в мой дом являться с визитами больше не будут.
– Ты говоришь так, словно ты здесь хозяин, – с презрением возразила Антония.
– Я, конечно, не хозяин, это верно, но в один прекрасный день так переломаю кое-кому ноги, что только держись.
– Как бы тебе их не переломали.
– Посмотрим…
– Ну, а если бы вместо испанского офицера к нам ходил кадет [41]41
Кадеты– молодые люди из состоятельных семей, которые проходили военную службу на льготных условиях и по отбытии определенного стажа производились в офицеры.
[Закрыть], ты тоже возражал бы?
– Кадет, кадет! – с подчеркнутым презрением повторил Леонардо. – Никто не говорит о кадетах, которые все равно что офицеры местного ополчения: толку от них никакого. На кадетов мода уже прошла, последние из них зарыты в равнинах близ Тампико, куда, по счастью, завел их Баррадас [42]42
БаррадасИсидро – испанский генерал; в двух организованных им экспедициях (сентябрь 1825 года и июль 1826 года) потерпел поражении от мексиканских революционных войск и был вынужден вернуться на Кубу.
[Закрыть]. Те же, что остались в живых после этого злосчастного похода, должно быть, потеряли всякий интерес к военной службе. Слава господу богу за то, что он избавил нас от этих бахвалов!
– Ты так враждебно настроен против испанцев, будто твой отец – гаванец.
– Боюсь, Леонардо, как бы твоя ненависть к испанцам не обошлась нам слишком дорого, – заметала донья Роса.
– Не слепая же у меня эта ненависть, мама, она не против испанцев вообще, а против военных. Они считают себя хозяевами страны, относятся к нам – своим соотечественникам – с презрением и воображают, что коли носят эполеты и шпагу, то могут кичиться и все, мол, им дозволено. Они не ждут, чтобы их пригласили, а сами всюду суются; стоит им где-нибудь появиться, как они тут же уводят у нас самых лучших, самых хорошеньких девушек. А это просто нестерпимо. Хотя, по правде говоря, виноваты в этом сами девушки: блестящие эполеты их, видно, ослепляют.
– По мне, – заметила Кармен, – нет правил без исключений.
– А я вот тоже считаю, – поспешила прибавить Адела, – что как бы приличны ни были военные, от них всегда отдает казармой.
– Не говори так, девочка, – сказала мать, – среди них есть очень достойные люди. Да к чему далеко ходить? Взять хотя бы моего дядю Ласаро де Сандоваля, который командовал полком «Сын Гаваны». Он участвовал в осаде Пенсаколы и умер, покрытый доблестными рубцами и овеянный славой.
– Да не о таких военных идет речь, мама! – вскочив с места, выпалил Леонардо. – Я говорю о тех, что явились из Испании, чтобы вторично завоевать Мексику. Там они потерпели поражение и теперь вот отправляются к нам, чтобы вознаградить себя за горечь позорной неудачи. Вот каких военных я сейчас имею в виду. И самое худшее вовсе не в том, что от них отдает казармой, как говорит Адела, а в том, что как мужья они ни к черту не годятся. Пока они дослужатся до бригадира [43]43
Бригадир– чин испанской армии прошлого столетия, средний между чинами полковника и генерал-майора.
[Закрыть], им приходится жить в казармах или крепостях. Зачастую дом им заменяют палатки; прислуживают им грубые и бесстыжие денщики; развлекаются они тем, что избивают своих солдат палками и шпицрутенами, а музыку им заменяют барабаны, бьющие утреннюю зорю. Они почти никогда нигде подолгу не живут: в самую неожиданную минуту они получают приказ отправиться на новые квартиры то в Тринидад, то в Пуэрто-Принсипе, то в Сантьяго или в Байамо… А уж коли они женаты, тогда, разумеется, и жена, и дети, и домочадцы должны кочевать вслед за ними из казармы в казарму, из крепости в крепость, из отряда в отряд. Это в том случае, конечно, если жена из соображений экономии не остается у своих родителей, а муж не уходит один со своими солдатами. Вот такие-то мужчины и ставят себе целью найти богатую женщину и жениться на ней, и их очень мало интересует характер и прошлое той, кого они возьмут себе в супруги. Поэтому рано или поздно жены принимаются царапать мужьям физиономии, а мужья начинают таскать своих жен за волосы.
Не в силах дольше выслушивать подобные речи, Антония поднялась из-за стола и, сдерживая досаду, молча вышла в соседнюю комнату.
– Ты напрасно так придираешься к сестре, – сказала сыну донья Роса. – Ни о каком военном она и не помышляет, пусть даже кто-нибудь от нее и в восторге.
– Помышлять-то не помышляет, а вот от любезничания у окна не отказывается. Это-то меня и возмущает. Скажешь, что это не так? Ах, мама, ты постепенно теряешь способность смотреть правде в глаза. Впрочем, прекратим эти разговоры. Я хочу лишь заявить еще раз, что в один прекрасный день перебью ноги одному из этих вояк.
Тут Леонардо поднялся и как ни в чем не бывало, словно он и не говорил сестрам ничего обидного, подошел к сидевшей напротив него Аделе, крепко обнял ее и несколько раз поцеловал.
– Уйди, ради бога! Не ты ли только что сердился на меня? У тебя колючий подбородок.
– С чего это ты так расфуфырилась? – спросил Леонардо, стараясь не касаться темы, затронутой его сестрой.
– Собираемся поехать к мадам Пито; сейчас ее лавка находится на Гаванской улице, номер 153. Говорят, она недавно вернулась из Парижа и, по слухам, привезла множество дорогих безделушек. Кстати, по пути мы хотели прокатиться по Холму Ангела.
– О такой прогулке думать сейчас, пожалуй, поздно: ведь уже двенадцатый час. Да, кстати, пока не забыл: видел ли кто из вас четвертый номер журнала «Ла мода о рекрео семаналь»? Он вышел в субботу, и в нем очень много интересного.
– А ты его получил? – спросила Кармен. – Странно, что нам пока еще не присылали нашего экземпляра; мы ведь тоже подписаны.
– Где вы подписывались?
– В библиотеке Кова, на улице Муралья: от нас это ближе всего.
– Так оттуда и затребуйте. Я читал экземпляр, который лежал на столе в лавке, потому что своего я пока тоже не получил. Что и говорить – те, кто нам их рассылает, аккуратностью не отличаются.
– А ты узнал, Леонардо, кто такая Матильда, о которой пишут в этом журнале? – спросила Адела. – Кармен полагает, что все мы знаем ее.
– Мне кажется, что это вымышленная личность, – ответил юноша. – Возможно, мадам Пито кое-что известно.
– Нет, мне почему-то думается, – сказала Кармен, – что Матильда, о которой пишут в журнале, не кто иная, как Микаэлита Хунко. Она – самая элегантная женщина в Гаване, а брат ее Хуанито – настоящий щеголь; бабушку их зовут Эстефания де Менокаль; фамилия эта чем-то похожа на де Монкада, то есть на ту, которая упоминается в журнале; вам не кажется?
– Я начинаю думать, что Кармен права, – подтвердила Адела. – Позавчера, прогуливаясь по бульвару, Микаэлита Хунко действительно была одета и причесана именно так, как представлено на картинке журнала «Ла мода» от прошлой субботы. Признаться, прическа «жираф» мне не понравилась: по-моему, коса слишком широка, а локоны уложены очень высоко, поэтому голова сзади выглядит не слишком изящно. Зато короткие рукава с буфами и отделкой из шелковых кружев, на мой взгляд, очень красивы и особенно идут тем, у кого такие точеные руки, как у Микаэлиты. Брат ее Хуанито – помнишь, тот, что раскланялся с нами у фонтана «Нептун», – тоже был одет по последней моде, точь-в-точь как на картинке. Ему очень шли панталоны без складок, белый жилет и сюртук в талию из зеленого сукна без клапанов над карманами. Говорят, это английская мода. А ты обратила внимание на его шляпу? Верхом своим она задевала за ветки деревьев на бульваре Аламеда, хотя сам-то Хуанито – коротышка.
– Мне, например, не понравился его галстук, – сказал Леонардо, он такой высокий, что в нем и шею-то не повернуть. Я такие носить никогда не буду. Эти собачьи ошейники мне не по вкусу. Да и сюртуки – этот последний крик моды – по-моему, напоминают одежду факельщиков: их узкие полы доходят чуть ли не до щиколоток. Мне почему-то кажется, что эти модные фалды – простое подражание ласточкину хвосту. Хотя Федерико и старался нас одевать на английский манер, мы чувствуем себя гораздо лучше в платье, сшитом по французской моде. Урибе, например, шьет более изящно, да и покрой у него, пожалуй, получше.
– Что ты ссылаешься на такого портного, как Урибе? Он – мулат с улицы Муралья и ничего не смыслит в парижских и лондонских модах, – возразила Кармен с подчеркнутым презрением.
– А вот гаванская знать, – с горячностью запротестовал Леонардо, – такие, как Монтальво, Ромеро, Вальдес Эррера де Гуанахай, граф де ла Реуньон, Филомено, маркиз Моралес, Пеньяльвер, Фернандина… все они одеваются только у этого портного. И я тоже отдаю ему предпочтение перед Федерико. Кроме того, ему постоянно приводят на пакетботах из Гавра парижские модные журналы.
Этот столь оживленный разговор между сестрами и братом был прерван кучером, который вошел с хлыстом в правой руке и круглой шляпой – в левой, чтобы сообщить, что экипаж стоит у подъезда. Две младшие сестры тотчас же отправились на поиски старшей, а также чтобы захватить свои нарядные накидки; потом все три окружили мать, чтобы спросить, каковы будут ее поручения. Донья Роса велела им кое-что купить в бельевой лапке, и сестры вышли через сагуан на улицу.








