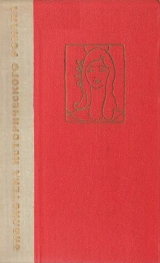
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)
Этому плачевному обстоятельству следует приписать то, что столь благородный и хорошо воспитанный юноша тоже согласился сочинить вирши в честь героини праздника. Худо ли, хорошо ли, но он их действительно произнес, и ему тоже аплодировали и угощали его не меньше, чем предыдущего рифмоплета. Однако надо сказать, что Сесилия Вальдес, не в пример другим, совсем не восторгалась поэтическими потугами юноши. Она хранила молчание и была явно раздражена. Не расточала похвал и Немесия, которая тихо, но оживленно переговаривалась со своим братом Хосе Долорес Пимьентой.
– Значит, кто-нибудь будет на запятках? – настойчиво спрашивал он.
– Возможно, и нет, – возражала Немесия.
– А ты откуда знаешь?
– Знаю, и не только это. Разве мне тоже нужно, чтобы меня кормили с ложечки?
– Что-то непонятно…
– Сейчас нет времени объяснять.
– Времени более чем достаточно, сестрица.
– К тому же здесь и стены имеют уши.
– Какое! Все так шумят!
– Ладно, не спорь. Я тебе говорю, не упрямься.
– Не хочу упускать удобного случая.
– Тебе придется пережить неприятные минуты.
– Не все ли равно, если я делаю то, что считаю нужным?
– Повторяю тебе, Хосе Долорес, не вмешивайся не в свое дело, не упорствуй. Своим упрямством ты отбиваешь у меня охоту помочь тебе. А я, кажется, в этом разбираюсь лучше, чем ты.
Прежде чем улегся шум голосов и прекратились рукоплескания и удары ножами по тарелкам и столу, Леонардо что-то сказал Сесилии на ухо и вышел на улицу, таща за руку Менесеса. Юноша вышел, ни с кем не попрощавшись – на английский манер, как сказал Канталапьедра, когда молодых людей хватились. Несмотря на мелкий дождь, оба молодых человека, взявшись за руки, направились по Гаванской улице к центру города. На первом же перекрестке, у предместья Сан-Исидро, Менесес пошел направо, а Леонардо завернул за угол больницы Де-Паула.
Легкие светло-серые тучки, разрываемые свежим северо-восточным ветром, стройной вереницей одна за другой проплывали мимо ущербной луны, уже стоявшей в зените и лившей порою свой тусклый свет. На узкой и кривой улочке, которую пересекал Леонардо, было совсем темно, и он толком не мог даже рассмотреть дороги, пока не дошел до маленькой площади перед больницей. Только тут левая сторона мостовой время от времени освещалась; остальное пространство находилось в тени, отбрасываемой высокими стенами церкви Де-Паула. Держась этих стен, юноша смог различить свой экипаж: лошади под ветром и дождем, хлеставшим им прямо в морду, стояли понуро, опустив уши. Верх коляски был поднят, но кучера не было видно ни на обычном месте в седле, ни на запятках, ни в проеме широких церковных дверей, где можно было укрыться от дождя. Посмотрев еще раз, Леонардо наконец сообразил, куда скрылся кучер. Он сидел вполоборота на дне коляски, положив голову и руки на мягкие сафьяновые подушки и свесив ноги в широких сапогах наружу. На земле лежал хлыст, выпавший из рук спящего. Леонардо поднял хлыст и, откинув верх экипажа, изо всех сил хлестнул кучера два-три раза по спине.
– Сеньор! – воскликнул возница, сразу очнувшись от испуга и боли.
Это был молодой, довольно коренастый и широкий в плечах мулат, с лицом, пожалуй, более мужественным, если не более надменным, чем у того, кто только что его отстегал. Он носил обычную в ту пору для кучеров на Кубе куртку темного сукна, обшитую галунами, пикейный жилет, рубашку с матросским воротником, холщовые штаны, огромные сапоги колоколом и черную круглую шляпу с золотым галуном. В ту пору у кучеров имелась еще одна неотъемлемая принадлежность наряда – двойные серебряные шпоры, которых сегодня у мулата не было.
– Эй ты! – грубо окликнул его хозяин, ибо им и был молодой Леонардо. – Дрыхнешь себе, а лошади стоят без присмотра – так, что ли? А если б они вдруг испугавшись чего-нибудь, понесли по этим дьявольским улицам?
– Что вы, сеньор, да разве я спал! – осмелился возразить кучер.
– Как не спал? Право, Апонте, можно подумать, что либо ты меня совсем не знаешь, либо считаешь за дурака. Ну, вот что: садись-ка сейчас, а там я сведу с тобой счеты. Отправляйся с коляской к дому, где идет куна, захвати тех двух сеньорит, которых ты отвозил туда, и развези их по домам. Я буду ждать тебя у стены монастыря святой Клары, на углу Гаванской улицы. Только смотри не разрешай никому ехать на запятках, слышишь?
– Слышу, сеньор! – ответил Апонте, трогаясь в направлении переулка Сан-Хосе. У подъезда дома, где танцевали, Апонте, не спешиваясь, обратился к входившему в дом незнакомцу: – Не откажите передать сеньорите Сесилии, что коляска подана.
Несмотря на это добавление к имени, принятое на Кубе только по отношению к белым девушкам, неизвестный в точности выполнил данное ему поручение.
Сесилия тут же встала из-за стола и в сопровождении Немесии и хозяйки пошла за накидкой. Мерседес проводила их до дверей, где столпились еще не успевшие разойтись мужчины. Здесь, все еще обнимая Сесилию за талию, чтобы подчеркнуть свое дружеское расположение к ней, мулатка шепнула девушке:
– Не доверяйся мужчинам, милочка, не то как раз погубишь свою честь.
– Но разве я кому-нибудь из них доверилась сегодня, Мерседита? – удивилась Сесилия.
– У этого экипажа есть хозяин, – ответила Мерседес, – а даром никто ничего не даст, имей это в виду. Надеюсь, ты меня понимаешь?
Разговор оборвался; Канталапьедра, состроив плаксивую физиономию по случаю отъезда Сесилии, вызвал всеобщее веселье; Пимьента усадил подруг в экипаж, и все общество наконец разошлось.
Был, вероятно, уже первый час ночи. Ветер не стихал, и мелкий дождь по-прежнему сеял из быстро мчавшихся туч на спавший во мраке город. Было темно, как говорится, что в волчьей утробе. И все же колеса так громко стучали о камин, что молодому музыканту удалось не потерять след экипажа, который увозил его сестру с подругой. Сперва Пимьента ускорил шаг, затем пустился бежать и на углу улицы Акоста догнал кабриолет. Ухватившись рукой за доску задника и пробежав еще немного, он наконец вскочил на него, усевшись боком. Кучер это сразу почувствовал и остановился.
– Сойди, – сказала брату Немесия, приотворив заднюю дверцу.
– Это ни к чему, – заметила Сесилия.
– Я охраняю вас сзади, – ответил Пимьента.
– Сойдите! – потребовал, спешившись, Апонте.
– Что я тебе говорила? – продолжала Немесия, обращаясь вновь к брату.
– В экипаже моя сестра с подругой, – заметил музыкант кучеру.
– Пусть так, – возразил тот, – но я не позволю, чтобы кто-нибудь цеплялся позади моей коляски. – Увидев, однако, что он имеет дело с таким же, как он сам, мулатом, кучер добавил наставительным тоном: – Вы, братец, этак погубите себя.
– Да сойди же, – настойчиво повторила Немесия.
Хосе Долорес Пимьента неохотно повиновался: в глухой и жестокой внутренней борьбе благоразумие взяло верх. Уступив, он, однако, не отказался от принятого решения следовать за экипажем. Кучер вновь сел на лошадь и поехал прямо до улицы Лус, где повернул налево, к Гаванской. Здесь на углу ждал человек, укрываясь от дождя и ветра под высокими стенами монастырского двора Святой Клары. Апонте снова остановил кабриолет; ожидавший, усевшись на запятках, вполголоса сказал:
– Пошел!
Лошади тотчас же рванули, и экипаж тронулся, но не настолько быстро, чтобы музыкант не успел разглядеть, что на его месте сидел тот самый белый, который возбудил его ревность во время бала.
Глава 7А что же он за человек?
Уж не докучливей ли всех?
Благоразумен? Тороплив?
И нравом мягок иль строптив?
Лопе де Вега
На одной из более или менее прямых улочек предместья Сан-Франсиско, где в некоторых кварталах были тротуары или панели из каменных плит, выделялся среди прочих дом с плоской крышей; верхний этаж его высился над аркой ворот, а балкончик выходил на запад. Как почти во всех кубинских домах, главным входом для господ, слуг, домашних животных и экипажей (два из них обычно стояли наготове) служил сагуан. Это своего рода портал или ворота, через которые можно пройти в столовую, патио и контору.

Конторой считались комнаты, расположенные направо и служившие как бы продолжением сагуана. В первой из этих комнат находилось двойное бюро, с обеих сторон которого стояли высокие деревянные скамьи, а под бюро – железный квадратный ящичек с крышкой вместо дверцы; ее приподнимали и опускали, когда нужно было вынуть или положить мешочек с деньгами. По другую сторону сагуана в нижнем этаже дома тянулась анфилада жилых комнат, куда можно было попасть через зал; окна и двери этих комнат выходили в столовую и патио.
Это был квадратный дворик, в центре которого голубела закраина водоема или резервуара, куда по жестяным желобам и закопанным в землю трубам стекала с крыш дождевая вода. Глинобитная стена высотой в две вары [21]21
Вара– мера длины, равная 85,5 см.
[Закрыть], с аркой в правом конце ее, отделяла внутренний двор от кухни, конюшни, отхожего моста, кучерской и других служб.
Между сагуаном и помещениями, называемыми конторой, находилась внутренняя лестница, которая вела к столовой. Сложенная из нетесаного камня, с кедровыми перилами, без площадок, с крутыми поворотами почти у самой земли, эта лестница соединяла нижний этаж с верхними покоями, состоящими из двух комнат. Первая служила приемной и была равна по площади сагуану; вторая была еще больше, ибо располагалась как раз над конторой; она служила спальней и кабинетом. И действительно, почти всю комнату заполняли легкая красного дерева кровать, покрытая голубым кисейным пологом от москитов, шкаф и вешалка для платья из того же красного дерева, черный свиной кожи диван, несколько стульев с соломенными сиденьями, письменный стол наподобие бюро и кампешевое кресло. Повсюду были разбросаны книги, раскрытые и закрытые, с красным обрезом на испанский манер; кое-где были загнуты страницы, иногда даже несколько подряд. Все эти книги, судя по золотым, тисненным на обложках надписям, были юридического содержания. И только на диване лежало два непереплетенных журнала; на более толстом из них была нарисована безвкусная модная картинка, изображавшая мужчину, женщину и ребенка. Один из журналов назывался «Мода о рекрео семаналь», другой – «Эль реганьон».
Внизу, в столовой, стоял стол красного дерева на двенадцать персон, напротив двери выстроилось в ряд шесть кресел; в углу – набор больших глиняных кувшинов – своеобразная мебель местных жилищ. Большие раздвижные полотняные шторы, наподобие театрального занавеса, затемняли комнату и защищали ее от солнечных лучей, проникавших с внутреннего двора. В стене, отделявшей сагуан от зала, была железная решетка, а свет с улицы попадал в зал через два окна, устроенных в эркерах и прорубленных от пола до самого навеса крыши. С середины потолка спускалась на цепи лампа под стеклянным колпаком. Сбоку на стене висели два написанных маслом портрета, изображавших даму и кабальеро в расцвете молодости и принадлежавших кисти Эскобара; под ними располагались диван и перпендикулярно к нему шесть кресел в два ряда, с сиденьем и спинкой из красного сафьяна; по четырем углам комнаты стояли шкафчики красного дерева, украшенные стеклянными подсвечниками или китайскими вазами для цветов. В простенке между окнами высокий стол с золочеными ножками служил опорой большому прямоугольному зеркалу. Вдоль стен стояли стулья.
Внимание привлекали белые муслиновые занавеси с легкой бахромой, которые свисали с притолок дверей и окон комнат, свободно пропуская воздух и скрывая от взоров тех, кто был в столовой или во дворе, все, что происходило в зале. Словом, в этом типичном для Гаваны доме, как может судить наш читатель, на всем лежал отпечаток опрятности, чистоты и… роскоши, ибо только это слово и подходит здесь, если иметь в виду страну, эпоху, стиль и качество обстановки дома, два стоящих наготове у ворот экипажа и простор жилых покоев. Кто же был обитателем этого дома? Жила ли здесь приличная, благовоспитанная и счастливая семья? Вскоре мы об этом узнаем.
Ранним октябрьским утром, между шестью и семью часами – ибо рассказ наш начинается в это время, – в одном из кресел столовой сидел кабальеро лет пятидесяти.
Он был высок ростом, крепкого сложения, с проседью. Крупный орлиный нос, небольшой рот, живые карие глаза, красноватый цвет лица и круглый затылок свидетельствовали о силе страстей и твердости характера. Коротко остриженный и тщательно выбритый, этот кабальеро, в длинном халате из тонкой материи, надетом поверх белого пикейного жилета, в тиковых панталонах, сидел, положив ноги, обутые в домашние туфли из мягкой кожи, на соломенное сиденье стула, и читал, держа в руках, газету «Эль диарио де ла Авана».


В это время мальчик лет двенадцати, в штанах и полосатой рубашке, пройдя через патио, приблизился к сеньору. В правой руке мальчик держал поднос, на котором стояла чашка кофе с молоком, а в левой – серебряную сахарницу. Кабальеро, не меняя удобной позы, взял чашку, положил в нее сахар и, отпивая кофе маленькими глотками, продолжал спокойно читать. Молодой слуга, скрестив на груди руки, в одной из которых по-прежнему был поднос, а в другом – сахарница, стоял перед своим хозяином. Когда кофе с молоком был выпит, кабальеро, словно не замечая стоявшего в нескольких шагах от него мальчишки, скомандовал зычным голосом:
– Табаку и огня!
Молодой слуга стремглав бросился на кухню и тотчас же вернулся через контору с большим кисетом, на дне которого было несколько сигар. Принес он и небольшую серебряную жаровню с горстью древесного угля, полузасыпанного пеплом. Кабальеро закурил сигару, но, увидев, что мальчишка снова собирается ускользнуть, окликнул его:
– Тирсо!
– Да, сеньор! – рявкнул в ответ слуга, словно он уже находился на кухне или же разговаривал с глухим.
– Ты был наверху? – спросил хозяин.
– Да, сеньор, сразу как вернулся повар с рынка.
– А почему же сеньор Леонардо не спустился еще вниз?
– Надобно сказать, ваша милость, молодой сеньор Леонардо не позволяют их будить, когда они не спали ночь.
«Не спали ночь!» – повторил про себя кабальеро.
– Пойди разбуди его и скажи, чтобы он сошел вниз, – приказал он слуге.
– Сеньор, – запинаясь, вымолвил смущенный негритенок. – Сеньор, ваша милость ведь знают…
– Что такое? – снова загремел хозяин, видя, что мальчишка не трогается с места и не повинуется.
– Сеньор, надобно сказать вашей милости, что молодой сеньор очень сердятся, когда их будят, и…
– Что-о? Что ты сказал, собака? А ну-ка, мигом, если не хочешь получить пинка!
И так как кабальеро слегка привстал, как бы собираясь выполнить свою угрозу, негритенок не стал ждать вторичного приказания; он мигом взлетел наверх и скрылся в спальне молодого сеньора. Когда слуга пробегал вверх по лестнице, из дверей своей комнаты выглянула довольно полная и весьма приятная на вид дама с мелкими чертами лица. Волосы ее все еще были черны, хотя ей было уже за сорок. В белом платье из тонкой ткани, с шелковой шалью канареечного цвета, накинутой на плечи, она отличалась изяществом; движения ее были спокойны и благородны. Дама села рядом с нашим кабальеро в халате и, назвав его Гамбоа, спросила, нет ли чего нового. Тот процедил сквозь зубы, что единственной важной новостью, о которой сообщалось в газете, было известие о вспыхнувшей в Варшаве эпидемии холеры с огромным количеством смертных случаен.
– Где ж это такое? – зевая, протянула сеньора.
– Вот тебе на! – с удивлением воскликнул Гамбоа. – Это очень далеко… Это там, подле Северного полюса, в Польше. А что, если и до нас с тобой докатится сеньора холера? Кто знает, что тогда станется с нами?
– Да сохранит нас господь от такого несчастья, Кандидо! – все с тем же апатичным видом произнесла сеньора.
В этот момент Тирсо сбегал по ступенькам, причем вдвое стремительнее, чем поднимался несколько минут назад, если это только было возможно. Не успей паренек наклониться, и в голову ему угодила бы книжка, которую запустили сверху с такой силой, что она разлетелась на куски у самой двери конторы. Дон Кандидо взглянул наверх, сеньора поднялась и, подойдя к лестнице, спросила:
– В чем дело?
Вместо ответа испуганный парнишка указал глазами на юношу, закутанного в простыню, который, стоя наверху, гневно потрясал кулаками. Но увидев свою мать – а это и была наша сеньора, – Леонардо изменил и позу и выражение лица. Сын, видимо, хотел объяснить ей, что произошло, но она остановила его весьма выразительным жестом, означавшим приблизительно следующее: «Прекрати, тут отец». Леонардо тотчас же повернулся и ушел к себе в спальню.
– Ну так что же, придет сеньор Леонардо? – спросил Гамбоа невольника, будто он не заметил ни того, как стремительно тот убегал, ни книги, угодившей в дверь кабинета, ни жестов жены.
– Да, сеньор, – ответил Тирсо.
– Ты передал ему мое распоряжение? – еще более резко и настойчиво спросил дон Кандидо.
– Надобно сказать, ваша милость, – пытался возразить совсем сбитый с толку раб, дрожа от испуга, – что… молодой сеньор, молодой сеньор… не дал мне говорить.
Сеньора снова села, с тревогой вслушиваясь в слова мужа и следя за сменой выражения на его лице. Она видела, как он покраснел, когда Тирсо в замешательстве пытался произнести несколько фраз. Ей даже казалось, что Гамбоа вот-вот поднимется, чтобы ударить невольника или, возможно, силой заставить Леонардо спуститься вниз. Смутно представляя себе, что произойдет дальше, сеньора, чтобы выиграть время, положила руку на плечо мужа и мелодичным вкрадчивым голосом стала успокаивать его:
– Кандидо, Леонардито одевается, он сейчас сойдет вниз.
– А ты почем знаешь? – оборачиваясь к супруге, спросил крайне раздраженно дон Кандидо.
– Я только что видела – он выходил на лестницу почти одетый, – спокойно ответила она.
– Вот ведь ты какая – когда Леонардо ведет себя как подобает, ты прямо не нахвалишься на него, а на проступки его закрываешь глаза.
– Я за бедным мальчиком не знаю никаких проступков, по крайней мере последнее время.
– Вот-вот! Именно об этом я и говорю. Слепая ты, совсем слепая, Роса! И своим цацканьем вконец погубишь мальчишку. Тирсо! – снова гаркнул дон Кандидо.
Не успел слуга вернуться из кухни, куда он спрятался во время краткого диалога своих господ, как в сагуан зашел кучер-мулат, уже знакомый читателям по сцене в предместье Сан-Исидро и событиям в ночь на 24 октября. Сейчас на нем были только рубашка и штаны, подвернутые немного ниже колен, словно для того, чтобы показать неподрубленный край белых кальсон; ноги его были обуты в кожаные открытые башмаки с серебряными пряжками сбоку. В ушах мулата были золотые серьги, на голове – небольшой платок; в правой руке он держал соломенную шляпу, а в левой – недоуздок, за который вел лошадь; к ее хвосту была привязана другая, точно такой же масти и породы, со скрученным в узел хвостом. С лошадей стекали капли воды и пота – их только что выкупали. На первой из них мулат, как видно, выезжал из конюшни прямо к месту купания возле пристани Лус, ибо на ней все еще был потник вместо седла.
– Вот, кстати, и Апонте, – добавил дон Кандидо, окликнув кучера по имени, когда тот заглянул в комнату.
– Не к чему спрашивать слуг, – заметила донья Роса.
– А я хочу, чтобы ты послушала о последних проделках твоего сына, – настаивал муж. – Скажи мне, в котором часу сегодня ночью ты привез твоего хозяина? – обратился он к Апонте.
– В два часа утра, – ответил тот.
– Где же провел эту ночь молодой сеньор? – продолжал допытываться дон Кандидо.
– Нечего об этом рассказывать, – прервала его донья Роса. – Апонте, отведи лошадей в стойло.
– Где, я спрашиваю, провел твой хозяин эту ночь? – угрожающим тоном повторил дон Кандидо, заметив, что кучер склонен повиноваться приказу госпожи.
– Трудненько, ваша милость, сеньор, сказать вам, где провел ночь молодой сеньор Леонардито, мой хозяин.
– Что-о? То есть как это понять?
– Ваша милость, сеньор мой, мне, право же, трудненько это сказать, – поспешил разъяснить Апонте, видя, что дон Кандидо свирепеет. – Сначала-то я отвез молодого сеньора Леонардито в предместье святой Екатерины; после я повез его к пристани Лус, а еще погодя поджидал его на пристани Лус до двенадцати ночи, после обратно повез его к Святой Екатерине, а тут уж…
– Довольно, – остановила кучера рассерженная сеньора. – Мне все ясно.
Апонте, пройдя через столовую и патио, отправился с лошадьми в конюшню. Дон Кандидо, обернувшись к жене, спросил:
– Ну-с, каково? Так минувшая ночь – это что, не последнее время? Мне ничего не было известно, я только подозревал, ибо знаю своего сына лучше, чем ты. Наконец-то и ты услышала, что он был в Регле до двенадцати ночи. А возможно, даже и не один. Может быть, теперь тебе захочется узнать, с кем и как он провел добрую половину времени в Регле? Не догадываешься, не подозреваешь?
– Предположим, что я бы догадалась или даже точно знала бы, – с некоторым презрением заметила донья Роса, – какая была бы от этого польза? Неужели из-за этого я стала бы меньше любить его?
– Да пойми ты, что речь идет не о том, чтобы любить или разлюбить его, Роса! – нетерпеливо перебил, вскочив с места, дон Кандидо. – Вопрос в том, чтобы исправить его ошибки, которые становятся слишком серьезными и опасными!
– Его ошибки, если только он вообще их совершает, – не больше, чем сумасбродства, свойственные молодости.
– Но если эти сумасбродства повторяются и их вовремя не пресечь, то они обычно плохо кончаются, доставляя людям немало слез и горя.
– Насколько я знаю, твои сумасбродства как будто не имели ни тяжелых, ни печальных последствий для тебя. А уж коли сравнивать Леонардито с тобой, то у него это просто-напросто юношеские проделки, не больше, – утонченно съязвила донья Роса.
– Сеньора, – обратился к жене совершенно разъяренный, хотя и пытавшийся скрыть это, дон Кандидо, – какими бы ни были безумства, которые я мог совершать в юности, они ни в коей мере не дают права Леонардо нести такой образ жизни, какой он ведет… с вашего согласия и одобрения.
– С моего согласия! С моего одобрения! Вот тебе и раз! Кто лучше тебя знает, сколь далека я от того, чтобы одобрять безумства Леонардито, не говоря уж о том, чтобы потакать им! Не я ли постоянно увещеваю и упрекаю его?
– Вот именно! С одной стороны, ты его увещеваешь и выговариваешь ему, а с другой – жалуешь ему коляску, кучера и лошадей. Каждый вечер ты ему выдаешь пол-унции золотом на развлечения, чтобы он вел праздную, расточительную жизнь с друзьями. О нет, Роса! Ты не одобряешь и не поддерживаешь его безумства, ты только обеспечиваешь ему возможность и средства совершать их.
– Конечно, это я способствую тому, чтобы мальчик погиб! А ты – нет, ты святой. О да, вся твоя жизнь была прямо образцовой!
– Не понимаю, к чему эти колкости.
– А к тому, что ты слишком суров с ним и твоя жестокость была бы уместна, если бы ты сам был безупречен и не грешил бы в свое время…
– Значит, его отношением ко мне я обязан вам, сеньора? Разве ему известны мои прегрешения?
– Возможно, да.
– Только если вы сами ему рассказали.
– Не хватало еще, чтобы я его поучала дурным вещам! Это было бы противоестественно, ведь я ему мать.
– Но Леонардо совсем не глуп, а кроме того, скандальное дело с Марией-де-Регла получило слишком широкую огласку. Не много нужно было, чтобы все дошло до его ушей и вызвало желание подражать тебе. Дурной пример…
– Прекратите, сеньора, – сказал дон Кандидо, скорее огорченный, чем рассерженный, – я полагал, что имею некоторое основание рассчитывать на то, что вы предали это дело забвению.
– Напрасно. Есть вещи, которые никак нельзя забыть.
– Да, как видно. Что ж, значит, я обманывался. По-видимому, женщины, вернее некоторые женщины, действительно не забывают и не прощают известные ошибки мужчин. Но, Роса, – продолжал он изменившимся голосом, – мы уклонились от темы, и это нехорошо. Если правда, что я слишком суров с Леонардо, как ты говоришь, то ты слишком мягка, и еще неизвестно, что хуже. Он безрассуден, своенравен и упрям, и узда нужна ему больше, чем хлеб насущный. Я должен, однако, с прискорбием заметить, что, говоря о моей черствости, ты, разумеется, сама того не желая, прямо за руку ведешь его к быстрой гибели. В самом деле, Роса, пора положить предел его безумствам и твоим слабостям; пора уже предпринять шаги, которые спасут его от опасности угодить в тюрьму, и нас – от вечных слез и позора.
– Но на какое же средство решиться, Кандидо? И не поздно ли? Ведь он уже не мальчик.
– Как на какое средство? Средств много. В королевском флоте обуздывают и не таких. Я подумывал о том, что было бы неплохо ему просмолиться. Кстати, мой друг Ача, капитан «Сабины», сейчас обучает его управлению кораблем. Только вчера капитан просил меня, чтобы я решился и отдал Леонардо ему, а уж он сделает его прямее, чем марса – рей. Именно так он и выразился. И я, во всяком случае, решил положить конец беспутным выходкам мальчишки.
Сильно взволнованная последними словами мужа, особенно решимостью, с какой он произнес их, донья Роса, желая скрыть слезы, выступившие у нее на глазах, и переменить тему разговора, больно задевшую ее за живое, встала и направилась к патио. В этот момент Леонардо спускался с лестницы, одетый для прогулки. Узнав шаги сына, она вернулась к креслу мужа и, тоном смиренной мольбы, дрожащим от волнения голосом сказала:
– Во имя любви к своему сыну, Гамбоа, ничего не говори ему сейчас. Твоя суровость разозлит его, а меня просто убьет.
– Роса! – простонал дон Кандидо, бросив на нее укоризненный взгляд. – Ты его погубишь.
– Будь благоразумен, Кандидо! – возразила донья Роса, вздохнув с некоторым облегчением, ибо она поняла, что в этот момент супруг ее уже склонен быть именно таким. – Пойми, что он уже мужчина, а ты относишься к нему как к ребенку.
– Роса! – повторил дон Кандидо, бросая на нее тот же осуждающий взгляд. – Доколе все это будет продолжаться?
– В последний раз я вступаюсь за него, – поспешила сказать донья Роса, – обещаю тебе!
В этот момент молодой Гамбоа уже сошел с лестницы и направился прямо к матери, которая сама пошла ему навстречу, словно желая надежнее защитить юношу от нападок отца. Тот молча, опустив голову, уже удалялся в контору и не заметил или сделал вид, что не замечает, как сын целует мать в лоб и как она знаками показывает ему, чтобы он также поздоровался с отцом.
Леонардо ничего не ответил и даже виду не показал, что собирается выполнить просьбу матери. Молодой человек только улыбнулся, пожал плечами и направился на улицу, придерживая левой рукой книгу, переплетенную на испанский манер, с красным обрезом, а в правой руке сжимая индийскую трость с набалдашником в виде золотой короны.








