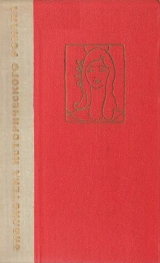
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 41 страниц)

Некоторое время незнакомец и мулатка молчали, занятые каждый собственными мыслями; внезапно за стеной послышался сначала стон, а затем – душераздирающий вопль. Сенья Хосефа вскрикнула и, в отчаянии стиснув голову руками, стремительно бросилась в соседнюю комнату. Кабальеро невольно повторил тот же горестный жест и последовал за мулаткой, держась, правда, несколько поодаль. Во внутренней комнате тускло единственный масляный светильник, стоявший на столе; над столом виднелась ниша, величиною не больше того углубления, в котором обычно сидит хозяин кукольного театра. В нише стояла резная фигура богоматери в длинном одеянии: глаза пресвятой девы были устремлены вверх, в грудь ее был воткнут меч, рукоятка которого казалась серебряной. У противоположной стены стояла складная кровать с шелковым выцветшим пологом и у ее изголовья – кожаное кресло, с которого при появлении Хосефы встала худая, как скелет, негритянка; седая голова ее являла резкий контраст с шеей цвета черного дерева, длинной и костлявой. На ее груди поверх белой рубашки висело несколько ладанок, а в правой руке негритянка держала четки. На ней была холщовая юбка, подпоясанная длинным черным ремешком, как у монахов-августинцев. Старуха казалась погруженной в горячую молитву. Когда сенья Хосефа, подойдя к ней, дотронулась до ее плеча, негритянка быстро повернула голову в сторону двери; увидев стоявшего там незнакомца, она вздрогнула, словно от ужаса или отвращения, и молча исчезла из комнаты через заднюю дверь.
Сенья Хосефа заняла ее место. Осторожно приоткрыв полог, она знаком пригласила кабальеро подойти ближе; тот приблизился, по-видимому, с большой неохотой. Глаза обоих остановились на бледном лице молодой, лет двадцати, женщины, распростертой на постели. Она лежала на спине неподвижно, словно мертвая; глаза ее глубоко запали, а веки были плотно сжаты; ресницы были такие длинные, что на лицо ее падала тень. Из-под простынь виднелась лишь голова, которая тонула в подушке, почти не видной из-за копны черных, курчавых, в беспорядке рассыпавшихся волос. На этом темном фоне выделялось восковое овальное лицо больной с острым подбородком, высоким квадратным лбом, маленьким, красиво очерченным ртом и тонким носом, довольно правильным для женщины смешанной крови. В лицо девушки было что то доброе, женственное, но в истощенных болезнью чертах застыла такая печаль, что больно было смотреть. Должно быть, под влиянием чувства жалости Хосефа шепнула на ухо сеньору:
– Она спит.
В ответ на слова мулатки кабальеро отрицательно покачал головою – возможно, потому, что в этот момент он увидел, как по телу больной пробежала дрожь. Вслед за тем грудь ее стала приподниматься, и это легкое, едва приметное под простыней движение походило на волну, внезапно пробежавшую по ровной глади моря. У девушки вырвался глубокий вздох, а за ним и мучительный стон. Понимая, что должно сейчас произойти, но не в силах этому помешать, кабальеро отвел взгляд от больной и медленно отошел от изголовья. В ту же минуту больная приподнялась и испуганно спросила:
– Это вы, мама?

– Что ты хочешь, доченька? Тебе не лучше?
– Ах, мамочка, – продолжала девушка все так же встревоженно. – Я ее видела, только что видела! Да, да! Я вполне уверена. Вот она! – добавила больная, указывая рукой вверх. – Ее уносят! Отбирают у меня. Верно, она умерла. О-о-о! – И у больной снова вырвался мучительный крик.
– Очнись, дочка, очнись! – в смятении уговаривала ее мать. – Очнись! Тебе это все снится, чудится только.
– Подойдите же, мамочка, взгляните сами! – И девушка потянула мать за руку. – Поглядите на нее! Разве это не пресвятая дева в золотой дымке, что стоит босая на крыльях ангелов? Это она. Глядите сюда, сюда! Нет, туда! Она возносится на небеса!
– Все это тебе чудится, доченька. Не думай об этом, ляг, усни!
– Что ж – по-вашему, я могу спать, когда у меня отнимают мое дитя, родную мою девочку?
– Да кто ж ее у тебя отнимает, радость моя?
– Как кто? Разве вы не видите? Пресвятая дева. Она уносит ее на руках. Значит, доченька моя умерла. О!
– Она не умерла, не надо так говорить, – сказала сенья Хосефа робко, ибо и сама она не очень-то верила в свои слова. – Она жива, и скоро ты ее увидишь. Все это тебе приснилось.
– Приснилось, приснилось, – повторила молодая женщина, словно думая о чем-то своем. – Все только приснилось? Ну, а дочка? Где же она? Почему ее от меня отняли? Вы виноваты в том, что я ее потеряла! – заключила больная, внезапно раздражаясь, и гневно взмахнула рукой.
У сеньи Хосефы не хватило духу перечить – то ли потому, что она не хотела сердить дочь, то ли потому, что обвинение было справедливым. Не успела она взглянуть направо, как взор больной, устремленный в ту же сторону, упал на смутно различимую в полумраке фигуру кабальеро, который попытался было спрятаться за пологом кровати.
– Кто это там? – спросила молодая женщина, указывая на него пальцем. – А, а, а! Это он – тот самый, что украл мою дочь! Мучитель! Зачем ты пришел сюда? Изверг! Хочешь насладиться тем, что натворил? Ты пришел кстати. Радуйся всласть! Моя дочь теперь на небе. Я знаю, я уверена в этом, и я тоже скоро уйду за ней. Но ты – ты наше проклятье и смерть, ты попадешь в ад.
– Господи Иисусе! – воскликнула, крестясь, сенья Хосефа. – Опомнись, ты невесть что говоришь!
Обливаясь слезами, она бросилась к дочери, чтобы не дать ей подняться с постели и удержать ее от страшных проклятий, которыми та осыпала кабальеро; тот стоял, низко опустив голову, и молчал – должно быть, из чувства благоразумия, а может быть, и раскаяния. Ему, во всяком случае, было не по себе; казалось, в нем происходила какая-то внутренняя борьба, словно он не знал, на что решиться. Он все предвидел и пришел, чтобы выслушать эти суровые и, как видно, справедливые упреки больной, которая, продолжая бредить, обвиняла его в том, что из-за него она потеряла дочь и лишилась рассудка. Но он не стал защищаться; наоборот, он почувствовал себя униженным, глубоко оскорбленным, ибо самые искренние его намерения устроить все к лучшему обернулись несчастьем. Перед своей совестью оправдаться ему было легко; но ведь общество будет судить о нем по его делам. И перед этим судом он испытывал панический страх.
Тем временем мать тщетно старалась успокоить свою дочь. Возбужденная, со спутанными, прилипшими ко лбу волосами, с горящими щеками и выражением ужаса в глазах, больная отталкивала Хосефу повторяя:
– Дайте, дайте мне взглянуть в лицо этого богоотступника! Я взыщу с него за мою девочку! Он отнял ее у меня, он зверь, а не человек!
А мать, по-прежнему вся в слезах, сжимала ее в объятиях и приговаривала:
– Ради господа бога, доченька, ради пресвятой и непорочной девы Марии, ради твоего спасении, ради девочки, которая жива и здорова, умоляю тебя, успокойся! Заклинаю тебя всем, что тебе дорого!
Видя, что эта бурная сцена уж слишком затягивается, кабальеро подошел к кровати, взял больную за руку, которую та у него не отняла, и спокойно, с глубокой нежностью в голосе сказал:
– Послушай, Чаро, я тебе обещаю, что завтра ты увидишь свою дочку. Не отчаивайся так, не надо!
Оттого ли, что у нее иссякли силы, или оттого, что тон кабальеро внушил ей доверие, больная с глубоким вздохом вдруг откинулась на подушку и некоторое время оставалась без движения. Матери почудилось было, что дочь умерла. Она приложила руку к ее сердцу и не почувствовала его биения: возможно, это ей показалось со страху, а то и в самом деле у больной исчез пульс. Мулатка в смятении повернулась к мужчине, который, казалось, невозмутимо созерцал эту немую сцену, и с горьким упреком сказала:
– Видите, сеньор, она умерла.
Эти слова, однако, не заставили кабальеро потерять присущее ему хладнокровие. Спокойно, как врач, нащупав у больной пульс, он сказал:
– Она в обмороке. Принесите нюхательной соли. Бедняжка очень слаба, ей нужно подкрепиться.
– Но врач запретил, – заметила сенья Хосефа.
– Врач ничего не понимает. Дайте ей бульону. А пока что ступайте поскорее за солью.
Соль поднесли к носу больной: веки ее дрогнули, и послышался тихий, непрерывный плач, когда, как образно говорят в народе, слезы льются рекой. В это время в темноте из полуоткрытой двери высунулась голова уже известной нам негритянки. Заметив кабальеро, старуха перекрестилась, словно увидела самого дьявола, и сразу же скрылась. Наконец и он, поклонившись слегка Хосефе, удалился из этого печального места и вышел на улицу, шепча с досадой:
– Да, виноват только я сам!
Глава 2Одна я, одна родилась;
Одна я у матери дочь.
И одной суждено мне блуждать,
Как пушинке, подхваченной ветром.
Время шло своим чередом, и вот года через два после второго по счету, краткого периода конституционного правления, в ту пору, когда на острове Куба было введено осадное положение и утвердилась власть губернатора Франсиско Дионисио Вивеса [4]4
Второй конституционный период начался весной 1820 года под влиянием известий об успешном восстании Риего, потребовавшего от Фердинанда VII признания попранных королем гражданских и политических свобод. 16 апреля 1820 года взбунтовавшиеся войска гаванского гарнизона проникли в резиденцию тогдашнего губернатора М. Кахигаля и заставили его присягнуть на верность конституции. На Кубе были созваны кортесы (парламент), учреждена национальная милиция (армия), провозглашена свобода печати. Через три с половиной года после этих событий в Испании восторжествовала реакция, и конституционные гарантии и либеральные реформы на Кубе были отменены губернатором Вивесом, правившим островом с 1823 по 1833 год. Королевским декретом от 28 мая 1825 года губернатору острова предоставлялись чрезвычайные права комендантов осажденных крепостей.
[Закрыть], в Гаване, на улицах, прилегающих к Холму Ангела, стала часто появляться девочка лет одиннадцати – двенадцати, привлекавшая всеобщее внимание то ли своими повадками бродяжки, то ли по другим причинам, которые станут понятными из дальнейшего рассказа.
Всем своим обликом она напоминала мадонн знаменитых художников: высокий лоб, увенчанный густыми черными кудрями, правильные черты лица, прямой от самого лба, немного короткий нос и чуть вздернутая верхняя губка, выставлявшая, словно напоказ, два ряда мелких жемчужно-белых зубов. Блиставшие живым огнем огромные черные глаза казались особенно темными под осенявшими их дугами красиво изогнутых бровей; рот был маленький, с полными губами, что свидетельствовало скорее о чувственности, нежели о силе характера. Пухлые круглые щечки и ямочка на подбородке придавали еще большее очарование этому личику, красоту которого можно было бы назвать совершенной, если бы не присущее ему лукавое и, пожалуй, даже какое-то злое выражение.
Для своего возраста девочка была скорее худа, нежели полна, и казалась скорее невысокой, чем рослой. Ее стройный торс с тонкой шеей, узкой, гибкой талией и широкими плечами был восхитителен даже в нищенской одежде и формой своею – право, иного сравнения нам и не подобрать – напоминал очертания бокала. У нее был тот здоровый цвет лица, который на языке художника называется живым телесным тоном, однако, если вглядеться пристальнее, можно было заметить в нем излишнюю желтизну и, несмотря на яркий румянец, некоторую блеклость щек. К какой расе принадлежала эта девочка, сказать было трудно. Все же от опытного глаза не могло ускользнуть, что ее алые губки окаймлены темной полоской, а цвет кожи у самых волос становился тоже темнее, словно переходя в полутень. Нет, в ней текла не чистая кровь; можно было с уверенностью утверждать, что где-то в третьем или четвертом поколении эта кровь смешалась с негритянской.
Но как бы то ни было, глядя на девочку, оставалось только восхищаться ее редкой красотой, ее веселым и живым нравом, не задумываясь над тем, какому прегрешению или ложному шагу своих родителей была она обязана появлением на свет. Никогда ее не видели печальной или неприветливой, она никогда ни с кем не ссорилась, и никто не знал, где и на какие средства она жила, почему скиталась целыми днями по улицам, точно голодная бездомная собака, и был ли у нее хоть один близкий человек, который мог бы позаботиться о ней и обуздать ее.
А девочка между тем, превращаясь в подростка, расцветала с каждым годом все краше, и ей дела не было до того, о чем судачили и толковали на ее счет досужие кумушки; ей и в голову не приходило, что жизнь на улице, казавшаяся ей такой естественной, могла внушать опасения и страхи, а порой даже и сострадание, некоторым сердобольным старушкам. Юная прелесть ее, беспечность и живость вызывали неоправданные надежды у влюбленных в нее мальчишек, сердца которых бились сильнее при виде того, как она, переходя через площадь Кристо, умудрялась мимоходом с лисьим проворством стянуть булочку или кусок жареного мяса у какой-нибудь негритянки, еще с вечера устроившейся здесь со своей жаровней; или как с независимым видом совала она маленькую ручку в ящик с изюмом где-нибудь в бакалейной лавчонке на углу улицы; с какой ловкостью умела стащить спелый банан или гуайяву с лотка продавщицы фруктов; как, заманив собаку слепца за угловую пушку [5]5
В Гаване кое-где на перекрестках улиц еще сохранились врытые в землю пушки, торчащие у тротуаров наподобие тумб.
[Закрыть], она уводила его в переулок Сан-Хуан-де-Дьос, когда тому нужно было попасть к площади святой Клары. И чем старше и красивее становилась героиня нашей повести, тем больше восхищения вызывали подобные проделки у ее юных поклонников.
Одежда ее, далеко не всегда опрятная, обычно состояла из ситцевой юбчонки, надетой прямо на рубашку; платка на плечах у нее никогда не было, а обувью служили деревянные сандалии, еще издали возвещавшие гулким своим стуком о приближении их хозяйки, когда та шагала по каменному тротуару одной из немногих улиц, которые в то время могли похвастаться подобной роскошью. Ее вьющиеся от природы волосы были всегда распущены, а на шее вместо ожерелья она носила четки филигранной работы с коралловым, оправленным в золото крестиком – единственное свое украшение и единственную память, оставшуюся ей от горячо любимой матери, которой она не знала.
Глядя на это юное существо, которое столь беззаботно предавалось радости своего, по-видимому, еще не осознанного бытии, глядя на эту прелестную девочку, выросшую на улице и так бедно одетую, хотелось верить, что она всегда останется такой же прекрасной и чистой, какой казалась теперь, и что ей уготовано войти в мир через золоченые двери. Покамест же, как мы уже говорили, школой ее были улицы города, площади и рынки. В этих местах, надо думать, ее невинная душа, созданная, быть может, для добродетелей, составляющих самую большую прелесть женщины, жадно впитывала яд порока, с ранних лет привыкая к непристойным сценам, которые ежедневно разыгрываются среди грубой и безнравственной черни. Да и как было уберечь ее от этого? Как было сделать так, чтобы ее живые глаза не видели, чтобы уши, всегда готовые внимать, не слышали, чтобы эта юная, полная жизни душа не пробудилась преждевременно и, напрягая зрение и слух, не выносила суждения обо всем окружающем, тогда как ей в эту пору подобало еще спать сном невинности? Поистине, слишком рано постучались к ней страсти, которые опустошают сердце и заставляют склоняться порою даже более гордые головы!
Однажды вечером девочка бежала по улице, названия которой мы здесь упоминать не станем. Как раз в это время у окна одного из богатых аристократических особняков стояли, гляди сквозь высокую и широкую решетку, две девочки приблизительно того же возраста, что и наша приятельница, а рядом с ними – молоденькая девушка лет четырнадцати – пятнадцати. Эти три юные особы тотчас обратили внимание на маленькую озорницу, которая, по выражению одной из сеньорит, пронеслась словно метеор, и из любопытства стали настойчиво зазывать ее к себе. Приглашенная не заставила себя долго просить и с непринужденным видом появилась в дверях зала, где молодые сеньориты уже ее поджидали. Взяв свою гостью за руки, они подвели ее к полной, нарядно одетой сеньоре, которая сидела в широком кресле, откинувшись и поставив ноги на скамеечку.
– Ах, какая хорошенькая! – воскликнула она, разглядывая девочку. С этими словами сеньора выпрямилась в кресле, что стоило ей некоторых усилий, и добавила: – Как тебя зовут?
– Сесилия, – бойко отвечала девочка.
– А как зовут твою маму?
– У меня нет мамы.
– Бедняжка! А кто твой отец?
– Меня зовут Вальдес, у меня нет отца.
– Еще того лучше, – протянула сеньора, видимо что-то припоминая.
– Папенька, папенька! – позвала старшая из девочек, обращаясь к сеньору, лежавшему справа у стены на диване. – Папенька, посмотрите на нее! Не правда ли, она – прелесть?
– Да, да, – ответил тот, едва повернув голову. – Перестаньте к ней приставать!
Услышав эти слова, Сесилия обернулась к говорившему, с удивлением взглянула на него и, весело засмеявшись, воскликнула:
– А я этого дяденьку знаю!.. Вот этого, что лежит там.
Сеньор, прикрывая глаза руками, бросил на нее исподлобья взгляд, говоривший о его досаде и дурном расположении духа; затем он поднялся и вышел из комнаты, не сказав ни слова. Как ни странно, он единственный не испытывал симпатии к хорошенькой замарашке.
– Значит, у тебя нет ни отца, ни матери? – снова обратилась к девочке сеньора, которую предыдущая сцена, видно, навела на какие-то размышления. – А как же ты живешь? Кто тебя кормит? Или ты питаешься манной небесной?
– Ах ты матерь божья! Какие же вы любопытные! – воскликнула девочка, склонив голову к плечу и пристально глядя на вопрошавших. – Я живу с бабушкой. Она у меня старенькая, но добрая-предобрая, любит меня и позволяет делать все, что я захочу. Мама моя давно умерла… и папа тоже. А больше я ничего не знаю, зря только спрашивать будете.
Сеньоритам очень хотелось расспросить Сесилию о ее родных и о том, как она живет, но отец, уходя, велел не приставать к ней, а мать, уже не в силах скрыть свое раздражение, весьма выразительным жестом показала дочерям, что пора выпроводить эту грубиянку.
Случилось так, что в ту минуту, когда Сесилия, щедро наделенная подарками, пересекала двор, направляясь к выходу на улицу, по лестнице со второго этажа спускался молодой человек в летнем костюме, то есть в куртке и панталонах из легкой ткани. Узнав девочку, он окликнул ее:
– Эй, Сесилия, послушай-ка! Да постой же!
– Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! – задорно отозвалась Сесилия и, не спуская глаз с молодого человека, продолжала свой путь, даже и не подумав остановиться. Кроме того, она показала молодому сеньорито нос, то есть поднесла большой палец правой руки к кончику носа и, раскрыв ладонь, быстро помахала остальными пальцами, как это обычно делают в шутку наши уличные мальчишки, когда хотят сказать: «Обманули дурачка!..» или «Ну что – взял?»
Не станем здесь подробно рассказывать о том, что произошло в доме после ухода девочки. Заметим лишь, что сеньор и сеньора больше о ней не упоминали; сеньориты же, наоборот, подойдя к окнам и приветствуя своих подруг, возвращавшихся с прогулки в роскошных колясках, без умолку говорили о Сесилии. Беседу их поддержал и старший брат: он знал девочку и частенько встречал ее, когда ходил на урок латыни к падре Моралесу, жившему напротив монастыря святой Терезы.
Тем временем девочка, пройдя улицу, вышла на площадь святой Екатерины, в два-три прыжка поднялась на терраплен, который тянется по ней из конца в конец, и снова спустилась по каменной лестнице на улицу Агуакате. Очутившись здесь, Сесилия миновала расположенную на углу таверну и не без некоторой опаски направилась к соседнему с ней домику. Не постучав и не задержавшись на пороге, они легонько толкнула дверную створку, которая изнутри удерживалась половинкой чугунного ядра, лежавшей на полу и вплотную придвинутой к двери. Когда-то дверь была выкрашена киноварью, но краска, выцветшая от дождей, солнца и времени, оставила лишь коричневые пятна вокруг шляпок гвоздей да в глубине резьбы на филенках. В перилах, ограждавших высокое, не забранное решеткой окно, сохранилось всего три-четыре балясины, а оконный наличник давно утратил свою первоначальную окраску, приобретя однородный свинцово-серый тон, обычный для некрашеного дерева. Но еще более убогим было внутреннее убранство домика, хотя и трудно было себе представить что-нибудь более убогое, нежели его внешний вид. Единственная комната была разделена перегородкой надвое, так что слева образовалась небольшая спаленка с дверью, расположенной как раз напротив входа. Вторая, правая половина комнаты сообщалась с узким и тесным внутренним двориком – патио, который был не больше самого жилого помещении. Слева от входа в стене, на высоте одного локтя [6]6
Локоть– мера длины, равная 84 см.
[Закрыть], в глубине ниши виднелась небольшая фигура скорбящей божьей матери во весь рост; огненный меч пронзал деревянную грудь мадонны. Перед этим странным изображением горели две неугасимые лампады, представлявшие собою обыкновенные стеклянные стаканчики, где в масле, разбавленном на три четверти водою, плавали два специальных кружочка с продетыми в них зажженными фитильками. Гирлянды из искусственных цветов и кусков позолоченного и посеребренного картона, потускневших, выцветших и запыленных, украшали этот домашний алтарь. Вокруг по стенам, на перегородке, над окном всюду виднелись надписи вроде; «Радуйся, пречистая дева Мария!», «Да будет милость господня над этим кровом!», «Слава Иисусу!», «Слава деве Марин!», «Да воцарится благодать божья и да сгниет грех!» и другие в том же духе, которые подробно перечислять не стоит. Но еще больше, чем надписей, было тут всевозможных картинок, наклеенных прямо на стены с помощью облаток или клейстера. Все они изображали святых, были напечатаны на простой бумаге типографом Болоньей и куплены где-нибудь у монастырских ворот или на паперти в праздничные дни.
Домик был скудно обставлен старой мебелью, давно пришедшей в ветхость, однако, судя по всему, знававшей в пору своей молодости лучшие дни. Особенно выделялось среди прочей обстановки колченогое кампешевое кресло с широкими расшатанными подлокотниками, Стояли здесь и три-четыре кедровых стула того же образца, что и кресло, массивных, крепких и весьма древних, с сиденьями и спинками, обтянутыми телячьей кожей. Под стать им был и угловой столик того же кедрового дерева с резными украшениями в виде виноградных лоз; ножки столика, также резные, изображали изогнутые мохнатые ноги сатира.
Но, как ни тесно было это убогое жилище, здесь отлично чувствовали себя сонливец кот, несколько кур и голубей. Давно привыкнув к двум своим хозяйкам, вся эта живность свободно разгуливала по комнатам, садилась без страха и робости на спинки стульев и непрестанно оглашала дом мяуканьям, воркованьем и кудахтаньем. В спаленке у стены стояла высокая кровать с ложем из недубленых кожаных ремней, жесткость которых скрадывалась мягким пуховиком; застилалась она всегда одним и тем же пестрым одеялом, сшитым из множества разноцветных лоскутков, и служила также чем-то вроде дивана. Ни полога, ни занавесок над кроватью не было – вместо них на витых колонках, возвышавшихся по углам ее, висели всевозможные ладанки, картонные крестики, стекляшки и целая коллекция пальмовых ветвей, освященных в давно минувшие вербные воскресенья.
В сущности, назвать эту лачугу жильем можно было разве лишь потому, что в ней ютились два человеческих существа: в доме не было никаких удобств, даже простого чуланчика, и единственным подсобным помещением служил патио, приспособленный хозяйками под кухню. Здесь под навесом, защищавшим огонь от дождя, находился очаг, или, вернее, выполнявший его роль небольшой деревянный ящик, поставленный на четыре ножки и доверху наполненный золой. Мы уделили столько внимания жалкому домишке, куда вошла Сесилия, чтобы поразить воображение благосклонного читателя контрастом между ветхостью жилища и красотою девочки, которая среди всего этого убожества как бы олицетворяла собою жизнь и молодость. Казалось, само небо поселило ее сюда, дабы ежеминутно напоминать: «Дитя, думай о том, что ждет тебя впереди, и будь благоразумна!»
Однако мы убеждены, что подобные мысли меньше всего занимали Сесилию, и не случайно, ибо для девочки в эту минуту важнее всего было войти так, чтобы ее не заметила пожилая особа, сидевшая в кресле перед нишей, спиной к двери, и, очевидно, молившаяся, а может быть, и дремавшая. Но, несмотря на всю осторожность, с какого маленькая плутовка старалась неслышно прокрасться в комнату, она не смогла проделать это достаточно тихо и обмануть старуху, слух которой был весьма тонок и которую тем труднее было ввести в заблуждение, что она в это время не молилась и не спала в своем кресле, а читала, низко склонясь над небольшим молитвенником в пергаментном переплете.
– Наконец-то! – воскликнула она, покосившись на девочку поверх своих круглых очков, которые сидели у нее на самом кончике носа, наподобие того, как сидят иногда мальчишки на крупе лошади. – Наконец-то сеньорита изволила явиться! Очень, очень мило! Только поздновато что-то собралась она просить благословения у бабушки! (Девочка приближалась к ней, сложив руки на груди.) Ты это где шаталась, негодница? Уж и к вечерне давно отзвонили, а ее все нет! Ах ты, полуночница! – С этими словами старуха замахнулась было на внучку, отчего молитвенник свалился у нее с колен на пол, напугав кур, голубей и кота, который, сонно жмурясь, дремал на стуле. – Поди-ка сюда, – поманила она внучку, – поди-ка сюда, стрекоза-егоза, овца непутевая, голова бедовая! Говори, ты где до сих пор пропадала? Думаешь, я на тебя управы по найду? Вот погоди, дождешься ты на свою голову анафемы! Где это видано? Только и знаешь, что по улицам бегать! Смотри, скажу про тебя кое-кому, он тебя живо урезонит! Видно, с тобой иначе не сладишь!
Но Сесилия не испугалась этих грозных речей и не убежала от бабки, а со смехом бросилась обнимать и целовать старую ворчунью и тут же, словно желая задобрить ее, выложила перед ней все сокровища, которыми одарили ее три юные сеньориты.








