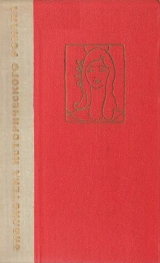
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
Да спасется душа ведомого на казнь.
Эспронседа, «Приговоренный к смерти»
Студент шел к Старой площади по улице Сан-Игнасио. На углу улицы Дель-Соль он неожиданно встретился с двумя другими студентами, приблизительно одного с ним возраста, которые, видимо, поджидали его. С одним из этих студентов читатель уже знаком по вечеринке на улице Сан-Хосе. Мы имеем в виду Диего Менесеса. Второй молодой человек – небольшого роста, с очень короткой шеей и высоко поднятыми плечами, между которыми словно пряталась маленькая круглая голова, – был не столь молодцеват и строен. Лоб его, скорее низкий, чем высокий, внушал мысль о смешанной крови. Маленькие проницательные глаза, чуть вздернутый нос, острый подбородок, свежий влажный рот – несомненно, наиболее выразительная из всех некрупных черт его физиономии – и вьющиеся волосы дополняли его внешность. Как в выражении лица, так и во всем облике молодого человека сквозили величайшие лукавство и хитрость, которые были отличительными чертами его натуры. Леонардо назвал его Панчо Сольфой и вместо приветствия хлопнул изо всех сил по плечу, на что тот полушутя-полусердито ответил:
– У каждой скотины свои повадки, а ты, Леонардо, особенно отличаешься.
– Кого люблю, того и бью, Панчо. А что, ты ждешь, чтобы я тебя еще как-нибудь погладил?
– Хватит и этого, дружище! – Панчо отскочил от него и замахал руками.
– Который час? – спросил Леонардо. – Я, кажется, вечером не завел часы, и они остановились.
– На колокольне церкви Святого духа только что пробило семь, – ответил Диего. – Мы думали, что ты все еще дрыхнешь, и отправились без тебя.
– Да я бы провалялся хоть весь день, потому что поздно лег. Но отец заставил чуть свет разбудить меня. Ему-то что, он ложится с петухами и встает всегда спозаранку. Не пройтись ли нам немного, друзья, пока есть время, по Холму Ангела?
– Мне кажется, не стоит, – сказал Панчо, – разве что ты будешь способен, как Иисус Навин, остановить солнце.
– Ты, видно, Панчо, дрожишь, как бы тебе не опоздать на свидание! Ты что, не знаешь разве, что с тех пор, как Иисус Навин приказал солнцу остановиться, оно больше не движется? Если бы ты изучал астрономию, тебе это было бы известно.
– Вернее сказать – если бы он изучал священную историю, – вставил Менесес.
– Уж коли на то пошло, – заметил Панчо, – я хоть досконально не изучал ни астрономии, ни священной истории, все же знаю, что в данном случае вопрос связан как с той, так и с другой наукой, и не вам уж поправлять меня.
– Кстати, господа, какая сегодня лекция? – спросил Леонардо. – В пятницу я пропустил занятия и все это время даже книги не раскрывал.
– Говантес задал на сегодня третий раздел, где говорится о личном праве, – ответил Диего. – Раскрой учебник и увидишь.
– А я даже не приступал к этой теме, – продолжал Леонардо, – я знаю только, что, согласно законам нашей страны, есть личности, а есть и вещи, и хоть из представителей этой второй категории многие говорят и мыслят, они не пользуются теми же правами, что первые. Возьмем, например, тебя, Панчо: я ведь знаю, тебе нравятся темненькие вроде тебя самого, стало быть, с точки зрения права, ты тоже не личность, а вещь.
– Но вижу оснований для такой параллели; я ведь не раб, которого римское право рассматривает как вещь.
– Ты-то не раб, но кое-кто из твоих предков, несомненно, был рабом, и от этого не уйдешь. Волосы у тебя по крайней мере весьма подозрительные.
– Что ж! Тебе посчастливилось; волосы у тебя прямые, как у индейцев. А коли мы начнем рассматривать генеалогическое древо со всех сторон, Леонардо, то докопаемся, что вряд ли найдется у нас такой праведник, за которым бы грешков не водилось.
– Видно, задело тебя это, дружище. Вовсе не грешно, что называется, держать мула за дверью. Мой отец – испанец, ему скрывать нечего, а моя мать – креолка, и я не поручусь за то, что у нее чистая кровь.
– Хоть ты и говоришь, что твой отец – испанец, однако это не значит, что чистота его крови вне подозрений. Я, например, полагаю, что он андалузец, а первые рабы – негры прибыли в Америку из Севильи. Да и арабы, которые господствовали в Андалузии дольше, чем в других местах Испании, были не кавказской расы, а настоящими африканцами. Кроме того, в ту пору, как утверждают Сервантес и современные ему писатели, браки между белыми и неграми были делом весьма обычным.
– Твой маленький экскурс в историю, дон Панчо, просто прелестен. Оно и неудивительно: ведь над вопросом о расах тебе пришлось поломать голову. А я на это не обращаю внимания и не считаю, что смешанная кровь столь обременительна. Могу только добавить: потому ли, что у меня самого есть в крови кое-что от мулатов, но мулаточки мне нравятся, и я не стыжусь признаться в этом.
– Козла всегда в огород тянет.
– Пословица эта здесь неуместна, но, коли ты хочешь сказать, что тебе не по вкусу темная корица, тем хуже для тебя, Панчо, – значит, тебе по вкусу черный уголек, ну, а он сортом пониже.
Именно об этом говорили они, когда подошли к торговым рядам Старой площади, называемым Дель-Росарио. Эти ряды образованы четырьмя-пятью домами, принадлежащими знатным или богатым семьям Гаваны. Окна домов защищены днем полотняными шторами, напоминающими большие паруса. Верхние этажи занимают сами владельцы или состоятельные жильцы, а в нижних этажах – обычно темных и плохо проветренных помещениях – устроили свои мелочные лавки торговцы из тех, что торгуют старым хламом или скобяными товарами; все они испанцы, обычно – горцы. Внутри помещений они хранят свои запасы всякого старья, а снаружи, под каменными аркадами, на лотках или ящиках, поставленных на козлы, раскладывают то, что понимается под словами «скобяной товар». Рано утром все это выносится, а на ночь снова убирается.
Обычно после семи часов утра начинается первая из упомянутых операций. Торговцы вдвоем вытаскивают лотки – один спереди, другой сзади, несут их словно гробы, будто это такая тяжесть, что ее не под силу поднять одному человеку.
В описываемый нами день некоторые товары уже были выставлены, и продавцы – без курток, несмотря на утренний холодок, – прогуливались меж лотков, рассматривая разложенное. В это время под своды галереи вошли трое наших студентов.
Впереди, весело шутя и посмеиваясь, шли Леонардо и Диего, не обращавшие внимания на молодых испанцев, сновавших взад и вперед и спешивших разложить свои товары к началу торговли. Позади размеренным шагом, опустив голову, молча шел за товарищами Панчо. По этой ли причине или потому, что он привлек к себе внимание своей необычной внешностью, но, во всяком случае, первый же лоточник, с которым он столкнулся, тронул молодого человека за плечо и крикнул: «Эй ты, не хочешь ли купить отличные навахи?» Панчо с презрением отшатнулся от него; тогда второй торговец схватил его за руку: «Сюда, братец, я продаю отменные очки». Затем путь преградил ему третий, предлагавший резиновые помочи, а четвертый начал размахивать у него под самым носом бискайскими перочинными ножами, превосходящими по качеству английские. Вертясь между продавцами, студент, то улыбаясь, то выражая жестами свою досаду, ибо все это успело порядком ему надоесть, сумел наконец протиснуться на несколько шагов вперед. Но тут, окруженный несколькими лоточниками, которые, по-видимому, скорее хотели подурачиться, нежели навязать ему свой хлам, Панчо остановился, не зная, что делать дальше. К счастью, в этот момент его хватились товарищи: они оглянулись и заметили, что их друг окружен. Не зная причины, Леонардо, отличавшийся смелостью, поспешил вернуться, силой протиснулся в круг и вызволил приятеля из беды. Но когда Панчо рассказал Леонардо о случившемся, последний от души расхохотался и сказал:
– Тебя приняли за горца, Панчо. Вид-то у тебя подходящий…
– Мой вид тут ни при чем, – хмурясь, оборвал его Панчо. – Просто эти испанцы смахивают скорее на евреев, чем на благородных кабальеро.

Продолжая свою прогулку по улице Сан-Игнасио, студенты вскоре вышли на Соборную площадь. Когда они приблизились к галерее здания, известного под названием дома Филомено, их внимание было привлечено густой толпой народа, который валил на площадь с противоположной стороны, то есть с улиц Меркадерес и Эль-Бокете. Передовой отряд, состоявший в основном из цветных – мужчин, женщин и грязных, оборванных, босых мальчишек, – то двигался, то вдруг останавливался; иногда люди поворачивали головы назад все разом, как заводные куклы. Между двумя шеренгами солдат, маршировавших налегке – в синих суконных куртках, белых штанах и круглых шляпах, с подсумком на поясе и карабином на плече (такую форму носила жандармерия), – шли десять – двенадцать мулатов и негров в длинных одеждах из черной саржи и в белых муслиновых колпаках, концы которых развевались позади наподобие вымпелов. В правой руке каждый держал черный крест с короткой поперечиной и удлиненным древком. Четверо из этих мрачного вида людей несли на носилках нечто напоминавшее человеческое существо, голова и тело которого были скрыты под черным суконным покрывалом, ниспадавшим складками.
По одну сторону от этого таинственного существа шел священник в черной шелковой сутане, четырехугольной шапочке, с распятием в руках, по другую – довольно молодой, сильный и ловкий негр в черной суконной куртке, белых панталонах и круглой шляпе. На спине у него желтым шелком была вышита лестница, что указывало на должность палача. Он шел размеренным шагом, не поднимая глаз. За ним следовал белый человек в коротких штанах черного цвета, в черных шелковых чулках, черном суконном камзоле и черной треуголке. Это был судебный писец. Рядом с ним шествовал какой-то военный высокого ранга, судя по тройному золотому шитью на его мундире и расшитой золотым галуном треуголке с белым страусовым пером. Кортеж замыкали снова негры и мулаты в упомянутых долгополых черных одеждах и белых колпаках, а за ними шел народ. Вся эта торжественная процессия двигалась в полном безмолвии; только размеренная поступь солдат и гнусавый голос священника, читавшего отходную, нарушали тишину.
Читатель – гаванец по этому беглому описанию догадается, что это вели на эшафот приговоренного к смерти – вели в сопровождении членов религиозного ордена «Братья милосердия и веры», состоявшего исключительно из цветных. Они занимались тем, что ухаживали за больными и умирающими и предавали погребению мертвецов, в основном – тела казненных. Известно, что испанское правосудие простирает свой грозный меч до самых загробных врат. Вот почему понадобилось учредить этот религиозный орден, в обязанности которого входило подбирать и предавать земле трупы преступников. Заниматься этим родственникам и друзьям запрещалось законом или обычаем.
Отряд, который сопровождал в подобных случаях преступника, по крайней мере в Гаване, входил в состав пресловутой Армоновой когорты [22]22
Армонова когорта– особый полицейский корпус, названный так по имени некоего Армона, который возглавил этот корпус.
[Закрыть], своего рода жандармерии, учрежденной Вивесом, которая выполняла роль, обычно принадлежавшую полиции. Военным высокого ранга был подполковник Молина, в ту пору комендант города, назначенный впоследствии комендантом замка Морро; на этом посту Молина и умер, глубоко ненавистный тем, кого он всю свою жизнь притеснял и угнетал. На сей раз на казнь вели не мужчину: жертвой была женщина, и притом белая, быть может – первая белая женщина, которую казнили в Гаване.
Таково правосудие, которое приказывает свершить король…
Герцог де Ривас
Стоит хотя бы кратко рассказать историю этой женщины, преступление которой каралось смертной казнью. Выйдя замуж за бедного крестьянина, она долгое время жила на окраине маленького селения Мариель. Нам неизвестно, сколько лет прошло с той поры, да это и не имеет значения в данном случае. Не обладая ни молодостью, ни красотой, она вступила в незаконную связь с одним холостяком из того же местечка. То ли потому, что муж узнал об этом и угрожал местью, то ли потому, что любовники вздумали наконец избавиться от вечной помехи, – они условились убить его. Выполнив задуманное – а убить человека не так уж трудно, – они попытались скрыть следы преступления и, разрезав труп на куски и зашив окровавленные обрубки в мешок, выбросили его в ближайшую реку. Таковы были основные факты, установленные следствием.
Какую же роль играла жена в этой кровавой драме? Этого так и не выяснили. В защиту ее выступил с полнейшим беспристрастием и редкостным красноречием молодой блестящий адвокат Анаклето Бермудес, который только что приехал из Испании, где начал свою юридическую карьеру, и который проявил себя в этом первом судебном деле как способный криминалист. Однако само преступление было чудовищно, и виновность женщины была доказана, ибо если она и не наносила раны собственной рукой, то сыграла немаловажную роль в убийстве и сокрытии трупа. Вот почему ее нельзя было не присудить к смертной казни, даже к такой позорной, как повешение. Гарроту [23]23
Гаррота– смертная казнь путем удушения железным ошейником, применявшаяся издавна в Испании и Португалии.
[Закрыть]в те времена применяли только к лицам благородного происхождения; впрочем, знатным людям такой приговор выносился на Кубе даже реже, чем белым женщинам.
В испанских владениях смертная казнь через повешение была еще ужаснее, чем гаррота: палач, надев двойную петлю на шею преступника, сбрасывал его с лестницы, садился верхом на плечи жертвы и пятками колотил ее по животу, чтобы ускорить конец. Затем он соскакивал с тела казненного, а труп в длинном одеянии висел, покачиваясь, в течение восьми часов на высоте двух вар от земли. Делать публичной подобную казнь белой женщины, пусть даже совсем простой и совершившей чудовищное преступление, не подобало.
И вот, когда апелляция о помилования в связи с предполагаемой беременностью преступницы была отклонена, адвокат Бермудес возбудил ходатайство о применении казни через гарроту и получил на это разрешение в виде особой милости. Напомним читателю, что лет семь-восемь спустя смертная казнь через повешение на Кубе была отменена. Так как тюрьма находилась в западной части здания, известного под названием губернаторского дворца, где располагался муниципалитет со всеми подведомственными ему учреждениями, пребывал сам губернатор со своими подчиненными и помещались нотариальные конторы, преступнику приходилось совершать длинный и мучительный путь, прежде чем его лишат жизни на Кампо-де-ла-Пунта, у самого моря. В самом деле, жертву вели по улице Меркадерес к Соборной площади, затем сворачивали к Сан-Игнасио, оттуда на улицу Чакон и наконец выходили на Кубинскую улицу. Далее путь пролегал вдоль городской стены под сводчатыми и темными воротами Пунты, где находилось караульное помещение и куда доставляли из города трупы для погребения на общем кладбища.
Выходя из этих крепостных ворот, преступник мог видеть издали, прямо на прибрежном рифе, о который морские волны разбивались на мелкие и блестящие пенные брызги, страшное орудие – виселицу, гарроту или эшафот, где ему предстояло расстаться с жизнью. Поэтому для малодушных смерть со всеми ее ужасами наступала задолго до того, как они были вынуждены ее принять. К счастью, женщина, о которой мы здесь повествуем, еще с той минуты, как ее перевели в часовню [24]24
Приговоренные к смерти последнюю ночь перед казнью проводили в часовне.
[Закрыть], лишилась чувств и вместе с этим утратила способность осознавать ужас своего положения. Потому-то и пришлось, как мы видели, нести ее к месту казни на носилках, усадить на скамью гарроты и свернуть ей, уже полумертвой, шейный позвонок, чтобы заглушить в груди последнее биение жизни.
Через пять или шесть лет после описываемых событий Кампо-де-ла-Пунта совершенно изменился. Там, где лежал заброшенный и пыльный пустырь, к которому с запада примыкали первые деревянные дома предместья Сан-Ласаро, с юга – горы досок и строительных балок, ввезенных из Соединенных Штатов Америки, с севера – море и замок Пунта, чьи низкие зубцы выступали позади железных котлов сахарного завода Каррона, – там выросло массивное четырехугольное здание, состоявшее из трех корпусов. Оно было воздвигнуто губернатором доном Мигелем Таконом и предназначено для городской тюрьмы, крепостных складов и пехотных казарм.
Пустырь с северной стороны этого здания был еще больше загроможден после постройки деревянных навесов над той частью тюрьмы, в которой дробили молотом мелкий камень, предназначенный для мощения городских улиц по способу Мак-Адама [25]25
Мак-Адам Лоудон(1756–1836) – американский инженер; изобрел мощение дорог мелким щебнем.
[Закрыть]. Но так или иначе, тюрьма отделилась от губернаторского дворца и заключенные входили в специальное здание, хотя и несовершенное во многих отношениях, но созданное для размещения их в удобном и безопасном месте. Мужчины и женщины здесь содержались раздельно, при этом учитывался также характер совершенного ими преступления. Самым же важным было то, что сокращалась последняя часть крестного пути несчастных: новая тюрьма отстояла от берегового рифа, где совершались казни, на каких-нибудь двести шагов. В более поздние годы оттуда и с Кампо-де-ла-Пунта вышли, чтобы умереть смертью героя и патриота, Монтес де Ока [26]26
По-видимому, имеется в виду Грасилиано Монтес де Ока, один из участников экспедиции генерала Лопеса (см. ниже), казненный 29 апреля 1851 года.
[Закрыть]и юноша Факсиоло [27]27
Факсиоло Эдуардо– молодой кубинец, печатавший подпольную газету «Ла вос дель пуэбло кубано», которую издавал Хуан Бельидо де Лука. Тайную типографию обнаружили, и Факсиоло был казнен 28 октября 1852 года.
[Закрыть], генерал Лопес [28]28
Лопес Нарсисо– генерал, который в 1843 году был послан на Кубу и здесь сблизился со сторонниками освобождения острова от колониальной зависимости. После раскрытия заговора так называемой Кубинской розы бежал в Соединенные Штаты, откуда дважды, в 1850 и 1851 годах, во главе инсургентов добровольцев совершил экспедиции на Кубу 29 августа 1851 года был взят испанцами в плен и 1 сентября того же года казнен.
[Закрыть]и испанец Пинто [29]29
Пинто Рамон, —ректор гаванского лицея, выходец из Каталонии. Широко эрудированный человек, пользовавшийся большим авторитетом среди патриотически настроенной части кубинской интеллигенции; он возглавлял подпольную «Революционную хунту», которая ставила своей целью ниспровержение испанского владычества. Казнен 22 марта 1855 года.
[Закрыть], а также отважный Эстрампес [30]30
Эстрампес Франсиско– член тайного общества, подготовлявшего вооруженное восстание в Баракоа, на юго-востоке Кубы. Арестован и казнен 31 марта 1855 года.
[Закрыть]. В наши дни та же участь постигла Медину, Леона [31]31
Медина Агустини Леон Франсиско– участники революции 1868 года.
[Закрыть]и невинных студентов Гаванского университета [32]32
Студенты медицинского факультета Гаванского университета Алонсо Альварес де Кампа, Анаклето Бермудес, Хосе де Маркос-и-Медина, Анхель Лаборта, Паскуаль Родригес-и-Прес, Карлос де ла Торре, Эладио Гонсалес и Карлос Вердуго были ложно обвинены в осквернении могилы Гонсало Кастаньона, основателя газеты «Ла вос де Куба», и по приговору военного суда расстреляны 27 ноября 1871 года.
[Закрыть].
Три друга присоединились к скорбной процессии и сопровождали ее от бокового фасада собора до ворот семинарии, здание которой тянется позади него и выходит к порту. Двери были еще закрыты, и толпа, состоявшая не менее чем из двухсот студентов с факультетов права, философии и латинской филологии – словом, весь цвет кубинской молодежи, – растянулась с одной стороны от каменных ступеней жилища привратника до казарм Сан-Тольмо, а с другой – еще дальше, вплоть до перекрестка улиц Техадильо и Сан-Игнасио, – настолько узко было расстояние между домами. Невольно расступившись, студенческая толпа разделилась на две части и освободила проход посреди улицы для странной процессии, появлению которой предшествовал глухой шум, подобный жужжанию пчелиного роя, который ищет места, куда бы сесть.
– Никто бы не сказал, что это несут женщину, – заметил студент факультета латинской филологии.
– В самом деле, она больше похожа на статую плакальщицы, чем на живое существо, – добавил другой.
– Ее гложет раскаяние, – сказал третий, – потому она и уронила голову на грудь.
– Ну нет, – воскликнул высокий, похожий на мулата студент, – случаи не простой. Я полагаю, что она в ужасе от собственного преступления.
– А разве, согласно букве закона, как божий день ясно, что Панчита убила своего мужа? – спросил знакомый нам Панчо.
– То, что она его убила, настолько достоверно, что ей угрожает гаррота, – презрительно улыбаясь, вновь заметил смуглый студент. – Мало того, убив мужа, она его распотрошила, зашила в мешок, сплетенный из волокон питы [33]33
Пита– американская агава.
[Закрыть], и бросила в реку на корм рыбам.
Все это не являлось еще доказательством преступности Панчиты Тания, согласно букве закона, и ее тезка собирался было возразить, когда в разговор вмешался другой студент, привлекавший внимание зычным голосом и кастильским выговором:
– Из-за сущей ерунды бабенка со своим дружком совершает то, что законом приравнивается к отцеубийству. Недоставало только того, чтобы мешок был кожаный, снаружи на нем было нарисовано пламя, а внутрь посажены петух, гадюка и обезьяна – существа, не знающие ни отца, ни матери.
– В законе Двенадцати таблиц, – поспешил вставить распетушившийся Панчо, довольный тем, что может исправить ошибку студента с наружностью кастильца, – кодексе, скопированном pedem litterae [34]34
Дословно (лат.).
[Закрыть]со сборника законов, который приказал составить король дон Альфонсо Мудрый, – речь идет но о петухе, а о собаке, гадюке и обезьяне, и не потому, что эти животные знают или не знают отца с матерью, а просто потому, что преступник отдается им на растерзание. Кодекс дона Альфонсо считает отцеубийцей даже ту женщину, которая убивает своего мужа. По сие время полагается волочить преступника до самого эшафота в корзине, привязанной к хвосту лошади. Так что, если Панчиту Тания, обвиняемую в этом чудовищном преступлении, и не волокут таким способом, то лишь потому, что этого не допускают наши обычаи. Вот и все.
Тут Панчо быстро отошел от группы для того, чтобы студент, похожий на испанца, не смог возразить ему. Но последний успел бросить ему вслед:
– Сразу видно, парень вызубрил лекцию.
Как раз в эту минуту раскрылись тяжелые, из кедрового дерева, ворота семинарии, более известной в ту пору под названием коллегии Сан-Карлос. Четыре широкие галереи с каменными колоннами образовывали большой квадратный патио. В центре его бил фонтан, а вокруг высились пышные, густолиственные апельсиновые деревья с сочными плодами. На противоположной от главного входа стороне слева каменная лестница вела в кельи профессоров; справа виднелась решетка, которая отгораживала галерею от темного, сырого и узкого прохода, ведущего в боковой зал, большой и грязный, отделенный от моря и порта садом с высоким забором. Туда выходили четыре высоко расположенных окошка, через который скупо проникал свет, оставляя большую часть зала в полумраке. В центре его у противоположной стены находилась незатейливая кафедра, а по обеим ее сторонам поперек зала стояло множество массивных, грубо сколоченных деревянных скамей с высокими спинками.
Тут и читались лекции по философии; здесь впервые начал преподавать кубинской молодежи эту науку знаменитый падре Феликс Варела; он составил для этого новый текст, в корне отличавшийся от аристотелевского, бывшего до той поры на Кубе единственным философским текстом, который изучался с самого основания Гаванского университета при монастыре Санто-Доминго в 1714 году. Когда в 1821 году падре Варела был избран представителем в испанские кортесы, то на смену ему кафедру возглавил один из самых одаренных его учеников – Хосе Антонио Сако; в пору нашего рассказа ее занимал адвокат Франсиско Хавьер де ла Крус, так как руководитель кафедры уехал в Северную Америку, а досточтимый основатель ее оказался в изгнании.
В левом углу патио находился другой зал, в котором падре Плумас преподавал латынь. В этот зал входили с галереи. Вплотную к нему, занимая почти всю противоположную сторону патио, примыкала столовая для семинаристов и некоторых преподавателей, проживавших постоянно в том же здании. Налево от главного входа широкая каменная лестница вела на галереи верхнего этажа. По ней поднимались студенты юридического факультета, не числившиеся семинаристами; студенты же философского и латинского факультетов входили в соответственные, уже упомянутые помещения через двери, находившиеся на уровне патио.
Утром того дня, о котором мы повествуем, внимание студентов-юристов, как только те поднялись на первую ступеньку лестницы, невольно привлекла к себе группа из трех человек, стоявших у входа на галерею и занятых оживленной беседой. Тому, кто в этот момент говорил, на вид было лет двадцать восемь – тридцать. Он был среднего роста; на его белом, довольно румяном лице выделялись большие голубые глаза с красивым разрезом и полные губы. Волосы у него были каштановые и гладкие, но густые. Во всей его внешности чувствовалась некоторая сдержанность, одет он был элегантно, на английский манер. Второй собеседник в этой группе представлял собой полную противоположность только что описанному: мало того, что у него была приземистая фигура, большие глаза навыкате и отвислая нижняя губа, выставлявшая напоказ неровные, широкие и скверно поставленные зубы, – кожа его имела цвет табачного листа, что заставляло сильно сомневаться в чистоте его крови. Третий собеседник отличался от двух упомянутых во многих отношениях: он был стройнее их, старше возрастом, бледнолиц, весьма приятен и деликатен на вид. Это был профессор философии Франсиско Хавьер де ла Крус; второй был Хосе Агустин Говантес – выдающийся юрист, который исполнял обязанности руководителя кафедры отечественного права, а первый – Хосе Антонио Сако, только что вернувшийся из Северной Америки.
Он уже успел прославиться своими статьями в журнале «Менсахеро семиналь», издававшемся в Нью-Йорке, как говорили, при сотрудничестве высокочтимого падре Варелы; наибольшую известность получили его статьи о революции в Мексике и Колумбии и о ее вождях. С особенным интересом читалась и вызывала живейший отклик в Гаване его политическая полемика с директором Ботанического сада доном Рамоном де ла Сагра, в которой Сако защищал матансасского поэта Хосе Мариа Эредиа.
В результате этого кубинская молодежь, пристрастившаяся уже к политике, начала пропускать занятия по ботанике, которыми руководил Сагра, и посмеивалась над ним. Вместе с тем она обожала Сако, которого считала убежденным инсургентом, хотя его точка зрения, как ни удивительно, совпадала со взглядами правящих лиц колонии.
Один из студентов юридического факультета сразу узнал Сако, так как изучал у него философию в 1823 году, шепнул его имя друзьям, и они остановились, конечно скорее из простого любопытства, нежели из других побуждении. Это не ускользнуло от внимания Говантеса: профессор знаками показал своим ученикам, чтобы те поднялись в аудиторию; вскоре и он сам последовал за ними.
Студенты устремились в аудиторию гурьбой; входили они с шумом, споря о Сако, об Эредиа, о его знаменитом гимне «Изгнанник» и о не менее известной оде «К Ниагаре», включенной в сборник стихов, напечатанных в мексиканском городе Толука. Говорили о лекциях по ботанике, о героях колумбийской революции, тогда еще недостаточно известных среди гаванской молодежи. Когда несколько позже вошел медлительной походкой, с книгой под мышкой, улыбающийся, оживленный Говантес, студенты тут же смолкли; воцарилась тишина. Он поднялся по ступенькам на кафедру, положил книгу на широкий пюпитр и уселся в ожидавшее его соломенное кресло.
Этот зал для лекций по юриспруденции был не только самым просторным во всей семинарии, но и наиболее удачно расположенным. Двери находились только в одном его конце; четыре широких окна выходили на галерею и столько же смотрели на Гаванский порт, давая доступ свету и воздуху и открывая вид на крепость Ла-Кабанья и отчасти на бастионы форта Дель-Морро. Кафедра стояла у средней стены, между вторым и третьим окном; перед ней находилось два параллельных ряда скамей, а по обеим ее сторонам – еще множество других, расставленных в продольном направлении; таким образом, лектор со своего возвышения мог охватить взглядом всю огромную аудиторию. Там собралось, вероятно, до полутораста студентов разных курсов.
Студенты, которые заранее подготовились к лекции и были уверены, что смогут изложить ее суть с достаточной ясностью, смотрели независимо и не сводили глаз с профессора. Те же, кто и не думал раскрывать учебник, наоборот, старались съежиться и не знали, куда глядеть. Именно в таком положении пребывал знакомый нам Леонардо Гамбоа, судя по признанию, которое он сделал своим друзьям Менесесу и Панчо Сольфе. Так как при его росте и характере ему нелегко было остаться незаметным, он никогда не садился перед кафедрой, а всегда где-нибудь сбоку, да и то на последних скамьях. В описываемый нами день он занял крайнее место на скамье в самом углу, потеснив для этого своего друга Панчо Сольфу. Окинув взглядом всю аудиторию, Говантес обратился к студенту, сидевшему справа от него, назвав его Матиарту. Это был тот самый похожий на испанца студент, с которым мы уже познакомились. Профессор предложил ему изложить содержание прошлой лекции, что Матиарту выполнил без труда и гладко. Затем Говантес спросил студента, похожего на мулата, по фамилия Мена; наконец, он обратился к третьему, которого звали Арредондо и который сидел перед самой кафедрой. Как только последний закончил свое довольно подробное изложение материала, взгляд Говантеса обратился влево, мельком скользнул по Леонардо (который тут же наклонился, чтобы поднять нарочито оброненный носовой платок) и остановился на молодом человеке, сидевшем на другом конце той же скамьи. Тот не знал темы и молчал, поэтому любезный профессор, немного выждав, сказал: «Следующий!» Результат был тот же. Тогда он на выбор обратился к четвертому, затем к шестому, который тоже не смог ответить на вопрос, пока, пропустив еще трех-четырех человек, Говантес не обратился к Гамбоа: «Попрошу вас». Леонардо попытался притвориться, будто не слышал, потом – будто не понял. Но тут его приятель Панчо подтолкнул его, и Леонардо встал; испытывая одновременно досаду и смущение, он выпалил:
– Будь я проклят, если что-нибудь повторил по этой лекции.
Эти слова вызвали общий смех. Но Гамбоа, овладев собою, продолжал:
– Из того, однако, что говорили сеньоры, выступавшие до меня, я делаю вывод, что тема, которая сейчас обсуждается, является одной из наиболее важных, и полагаю, что ее основные положения я не забуду в случае, если мне понадобится применить их в нашей судебной практике.
С этими словами Леонардо сразу же сел, успев ткнуть указательным пальцем в бок терпеливого Панчо, который то ли от боли, то ли от щекотки не выдержал и подскочил на мосте. Неожиданное выступление Леонардо, так же как и его поведение, вызвало новый взрыв смеха, к которому, несмотря на свою серьезность, присоединился и профессор, после чего он без замедления приступил к чтению лекции о личном праве. Сначала он дал определенно того, что понимается под личностью в римском праве; затем объяснил, что такое состояние, отметив при этом, что оно подразделяется на естественное и гражданское, а это последнее может быть трояким, а именно: по вольному выбору, натуральное и по семейному положению. И тут он вплотную подошел к изложению того, что можно назвать историей рабства. Он обрисовал его, исходя, разумеется, не из фактов античного или современного общества, а проводя параллели с положением римского права, готского права и кубинских законов. Хотя в ту пору на Кубе и царила сравнительная свобода преподавания, однако аболиционистские идеи еще не начали там распространяться.
Говантес, как всегда, был в ударе: он блистал красноречием и неоднократно проявлял широкую эрудицию; последняя в немалой степени объяснялась, несомненно, его недавней встречей с Сако, переводчиком и толкователем книги Гейнекия [35]35
ГейнекийИоганн Готлиб (1681–1741) – немецкий юрист и богослов.
[Закрыть]«О римском гражданском праве», появившейся в коллегии Сан-Карлос в минувшем 1829 году. Когда часы пробили девять, Говантес встал, за ним поднялись и студенты, проводившие его громом аплодисментов.








