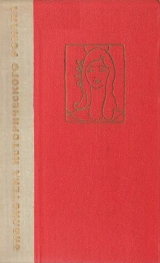
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
После ужина, любезно побеседовав с молодыми людьми, дон Томас удалился к себе, посоветовав дочерям не слишком долго задерживать Леонардо и Менесеса, которые, вероятно, устали с дороги и нуждаются в отдыхе.
Господский дом в кафетале Ла-Лус построен был на французский манер, то есть по тому образцу, по какому строились все усадьбы подобного рода на Гваделупе и Мартинике, – и действительно, архитектором и строителем здания был уроженец одного из этих островов. В плане дом представлял собою двойной крест, в средней части которого находился большой и высокий зал, а в крыльях, несколько более приземистых, размещались восемь спален: в каждом крыле по две спальни, разделенные коридорчиком; эти коридорчики выходили в маленькие зальцы, расположенные по обе стороны главного зала, в торцовых концах здания. Между стенами главного зала и спальнями помещались четыре угловые комнаты, сообщавшиеся изнутри с маленькими зальцами, а снаружи выходившие в сад, или, лучше сказать, на галереи, которые тянулись по обеим сторонам большого зала, во всю его длину, и отделялись от сада деревянною балюстрадой и парусиновыми полотнищами, выполнявшими роль жалюзи или маркиз. Кровля основного корпуса сложена была из листьев пальмы кана, отличающихся значительной толщиной, прочностью и неизменно зеленым цветом; более низкие боковые части здания и галереи крыты были плоскою черепицей. Многочисленные окна и двери дома, в дневные часы обыкновенно открытые, давали свободный доступ в помещение потокам света и воздуха, наполнявшим комнаты благоуханием цветов и ароматом спелых фруктов, которыми так богат был этот поистине райский уголок земли.
Нетрудно догадаться, что хозяйки далеко не сразу последовали примеру сеньора Илинчеты, а молодые люди отнюдь не спешили с ними расстаться; напротив, они надеялись, что теперь смогут перемолвиться хотя бы словечком, сумеют хотя бы взглядом намекнуть друг другу на то, чем так переполнены были их сердца Движимые каким-то безотчетным побуждением, они после ужина вышли вновь на галерею перед фасадом дома и стали прогуливаться по ней, разбившись на две группы: Исабель шла впереди с тетушкой Хуаной и Менесесом, а Роса и Леонардо следовали сзади. Дойдя до конца террасы и поворачивая обратно, Леонардо тихонько проговорил, показывая Росе на ее старшую сестру:
– Сестрица-то нынче сердита!
Слова эти случайно оказались первой строкой очень известной в ту пору песенки, и Роса, по характеру живая и шаловливая, не задумываясь ответила вторым стихом песни:
– Зубки у ней разболелись, беда!
– Чем же лечить нам бедняжку? – спросил третьим стихом Леонардо.
– Сладкого ей не давать никогда, – закончила Роса и, не удержавшись, расхохоталась.
– Над чем это вы там смеетесь? – обернулась к ним Исабель, которая все время прислушивалась к тому, что происходит у нее за спиной.
– Не говорите ей, Гамбоа, – шепнула Роса. – Пусть любопытство помучает ее. Она ведь тоже назло нам делает.
Похоже было на то, что Исабель намеревается завладеть одна на целый вечер вниманием и обществом Диего Менесеса; и Роса, подозревая это, хотела, как свидетельствовали о том ее последние слова, досадить чем-нибудь своей старшей сестре. Со своей стороны, Исабель могла питать в отношении младшей сестры такие же точно подозрения, потому что Роса с самого начала завладела вниманием и обществом Леонардо. Так или иначе, все четверо были недовольны друг другом и самими собой – и надо ли удивляться, что прогулка утомила их много раньше, чем этого можно было ожидать. Однако же, вместо того чтобы присесть и отдохнуть, они все вместе и как бы случайно подошли к балюстраде галереи и встали возле нее, причем Леонардо опять-таки как бы случайно, но в полном согласии со своими тайными намерениями очутился подле Исабели, а Диего – подле Росы, донья же Хуана осталась стоять в стороне одна.
Пестуя своих племянниц едва ли не с колыбели, донья Хуана любила их поистине материнской любовью и ничего так не желала, как хорошо выдать их замуж; кроме того, она была свахой по самой склонности своей натуры; и потому, когда племянницы оставили ее в одиночестве, не стала обижаться на них, а, напротив, охотно дала им возможность поболтать наедине со своими поклонниками.
Все вокруг дома уже давно погрузилось в глубокий покой. Ветерок, набежавший было при заходе солнца, улегся и не шелестел листвою деревьев; чернота небес казалась непроницаемой, а звезды горели так слабо, что не серебрились даже широкие листья бананов, чьи волокнистые стволы возвышались над плотной, низкой порослью кофейных кустов. Молчание ночи нарушал лишь отдаленный, глухой шум, доносившийся из поселка, где жили рабы, которые в этот час перед отходом ко сну готовили на своих очагах скудный ужин и толковали об услышанной вечером новости – отъезде молодой госпожи. Но вблизи господского дома царила тишина такая полная, что на фоне ее казались почти незаметными звенящий стрекот прятавшихся в траве цикад и едва слышное, быстрое трепетание крыльев ночных бабочек, когда они залетали из сада в большой зал, привлеченные огнем свечи, горевшей на столе в большом стеклянном бокале.
Уединенное место, поздний час, затихшая земли, объятые сном небеса, густой мрак, окутавший просторную галерею и казавшийся еще более густым оттого, что парусиновые маркизы были спущены, а плотная стена деревьев, высившихся напротив дома, ограничивала кругозор, слабый свет в окнах зала, тщетно силившийся разогнать окружающую темноту, – вся дивная красота этой ночи возбуждала в юных сердцах страстное чувство и опьяняла их молодым восторгом. В такие минуты женщины даже самые непривлекательные кажутся нам восхитительными сильфидами, а самые робкие мужчины смелеют и обретают красноречивые слова для выражения своих пылких чувств.
– Исабель, – проговорил Леонардо, – твое поведение по меньшей мере странно.
– А вы попытайтесь найти ему объяснение, – с усмешкой возразила Исабель.
– Почему я должен искать какие-то объяснения? Ведь не я тебя, а ты меня оскорбляешь.
– Вот как? Этого еще не хватало!
– Мои слова возмущают тебя? Но как прикажешь понимать твое молчание и твою холодность после нашей последней встречи в Гаване? Ведь мы с тобой расстались друзьями – во всяком случае, я так думал…
– Такая перемена кажется вам необъяснимой?
– Решительно необъяснимой. И я до сих пор но могу понять, чем она вызвана.
– Освежите минувшие события в вашей памяти.
– Нет, Исабель, ума не приложу, за что ты на меня сердишься.
– Будто бы?
– Слово чести.
– Стало быть, либо я совсем глупа, либо у меня бред был, и я грезила наяву.
– Будем надеяться, что до этого все-таки не дошло, Исабель. Но неужели тебе не приходило в голову, что, возможно, ты неверно истолковала какой-нибудь мой совершенно невинный поступок или то, как со мною держали себя другие?
– Сеньор дон Леонардо, речь идет совсем не о том, как толковать ваша поступки, а о том, что я видела своими глазами.
– Любопытно, что же такое видела своими собственными глазами высокочтимая сеньора донья Исабель?
– Она видела то же самое, что видели и вы, или, лучше сказать, то, что произошло, когда вы стояли на подножке нашего экипажа.
– И этого пустяка оказалось достаточно, чтобы ты меня разлюбила и ни разу обо мне не вспомнила?
– Да, вполне достаточно, тем более что подобный пустяк способен унизить и оскорбить всякую девушку – даже такую, которая совершенно ослеплена своею любовью.
– Теперь я вижу Исабель, что ты просто-напросто ошиблась и, следовательно, обидела меня ненамеренно.
– Объяснитесь же, – произнесла с нескрываемым нетерпением Исабель.
– Право, все это происшествие можно рассказать в двух словах, – начал Леонардо, краснея до корней волос, так как собирался говорить заведомую неправду. – Случилось так, что в последнюю минуту нашего прощания, когда я уже хотел соскочить с подножки и машинально поставил одну ногу на тротуар, мимо проходили две мулатки. Одна из них споткнулась о носок моего сапога и, вообразив, будто я нарочно подставил ей ножку, со злости грубо меня толкнула. Ты ведь знаешь, какими дерзкими становятся эти девицы, когда им кажется, что их хотят обидеть.
– Да, – задумчиво произнесла Исабель и, помолчав, добавила: – Но я – чем я ее обидела? Почему она крикнула мне это бесстыдное слово? Оно до сих пор звенит у меня в ушах!
– Ты обидела ее своим восклицанием, а может быть, еще и тем, что назвала Аделой, тогда как ее, верно, зовут Николаса или Росарио. Вот она и разозлилась.
– Я назвала ее Аделой, вернее – это имя вырвалось у меня, потому что мне почудилось, будто она – ваша сестра. Да и неудивительно, она – живой портрет Аделы. К тому же я не могла, не смела думать, что какая-нибудь девушка, кроме Аделы, может себе позволить с вами подобные шутки.
– Нечего сказать, шутки! С ее стороны это вовсе не было шуткой.
– Но тогда она – наша знакомая, и ударила она вас, очевидно… из ревности.
– Не стану скрывать, я знаю эту девушку в лицо, она привлекла мое внимание удивительным сходством с Аделой, но мы не в таких отношениях, чтобы она смела ревновать меня к кому бы то ни было.
– Быть может, она тайно в нас влюблена?
– Что ж, весьма возможно, но я никогда в жизни не сказал ей даже самого пустячного комплимента.
– Мне не хотелось бы обидеть вас, Леонардо, однако обстоятельства все же говорят против вас.
– Неправда, неправда, Исабель. Я ни в чем не виноват. Если бы я стал теперь тебя обманывать, если бы не сказал тебе всей правды, если бы я говорил о любви, которой на самом дело не испытываю, если бы я действительно оскорблял тебя подобным образом, я был бы самым низким человеком…
– Ну хорошо, перевернем страницу, – прервала его Исабель, наконец убежденная этими пылкими речами.
– Итак, все забыто? – спросил ее Леонардо тоном влюбленного.
– Все забыто, – с нежной улыбкой отвечала ему девушка. – Я была бы несчастнейшим на свете созданием, если бы мне пришлось усомниться в благородстве человека, которого я почитаю другом и, сверх того, истинным кабальеро.
– Вот и отлично, – поддержал ее Леонардо, сразу оживляясь. – Но не кажется ли тебе, что нам следовало бы чем-то скрепить наше примирение?
При этих словах рука молодого человека неприметно заскользила по перилам балюстрады, с явным намерением прикоснуться к опиравшейся на них руке Исабели. Но береженого бог бережет: Исабель, приняв строгий вид, отошла от балюстрады, приблизилась к тетушке и, обращаясь к ней, громко сказала, что час поздний и пора пожелать друг другу покойной ночи. В самом деле, часы Леонардо показывали одиннадцать. Никто и не заметил, как пролетело время.
Однако Диего Менесес не потерял его напрасно; зная, что счастливого случая упускать не следует, он воспользовался первой же возможностью и по всей форме объяснился Росе в любви, избрав предлогом для начала разговора гвоздику, подаренную девушкой Леонардо при встрече в саду. Чистая голубка садов Алькисара! Она, кому внове были страстные признании, кому еще никогда не говорили всерьез: «Я люблю тебя. Роса», – она, которую этот юноша влек к себе с той неодолимой силой, с какой магнит притягивает легкую иголочку или взгляд змея – несчастную птичку, она не нашла в себе твердости противостоять влечению, сбросить с себя сладостные чары, не сумела ни словом, ни жестом, ни хитрой уловкой разубедить своего искусителя в победе, одержанной им еще во время первого посещения кафеталя Ла-Лус, не смогла скрыть от него, что с той поры и сама его полюбила.
Глава 2Приобщась накануне к сонму юных невест Купидона, Роса Илинчета наутро долее обыкновенного замешкалась в своей туалетной комнате, стараясь из чувства стыдливой робости оттянуть сколь возможно минуту, когда ей придется при свете дня встретиться со своим сообщником. Что же касается Исабели, которую ждали неотложные дела, то было еще совсем рано, когда она, накинув поверх платья шелковую, расшитую гладью шаль, с зонтиком в правой руке и с корзинкой, висевшей на левой, появилась в дверях южной галереи дома.
Как раз в это время над от восточным крылом показалось солнце и осветило часть сада; но длинные тени деревьев и господского дома еще закрывали почти всю обширную площадку хозяйственного двора усадьбы. На рассвете выпала обильная роса, она щедро напитала траву, прибила на дорожках потемневшую от влаги розовую пыль, усыпала мелким бисером листву деревьев и лепестки цветов, и когда скользящий луч всемогущего солнца задевал эти бисеринки, они, точно граненые алмазы, вспыхивали всеми цветами радуги.
Исабель окинула внимательным взглядом простиравшийся перед нею сад, как будто что-то искала в нем, и, заметив впереди по правую руку от себя только что распустившуюся под теплыми солнечными лучами дамасскую розу, быстро сошла вниз. Ловкими пальцами, не уколовшись и не замочив себя росой, она срезала цветок и стала прикалывать его к своим великолепным косам; при этом она машинально повернула голову к дому, и ей почудилось, будто кто-то из гостей наблюдает за нею из угловой комнаты в конце галереи, где и в самом дело поместили молодых гаванцев. Исабель не ошиблась: то был Диего Менесес, который после беспокойно проведенной ночи поднялся с постели при первых проблесках дня и, стоя у распахнутого окна, с наслаждением вдыхал свежий утренний воздух; отсюда он и увидел появившуюся среди своих пышных цветников Исабель.
Хотя ничего предосудительного и не было в том, чтобы приколоть розу к прическе и при этом случайно оглянуться назад, Исабель сильно смутилась, заметив, что за ней наблюдают; ведь ее поведение могли истолковать иначе, а ей ничто так не претило, как легкомысленное кокетство и глупое заигрывание, и потому в растерянности она чуть было не повернула обратно к дому. Однако мысль об ожидавших ее делах придала ей решимости, и она твердым шагом двинулась дальше.
С южной стороны квадратный усадебный двор со всеми его хозяйственными постройками и службами был отделен от плантаций каменной стеной. Посреди двора, между четырех попарно расположенных сушилен, где одновременно можно было поместить для просушки половину всего урожая кофе, возвышалось здание лущильни, где кофе проходил дальнейшую обработку. Немного поодаль, замыкая слева огромное пространство двора, темнел массивный колодец, откуда воду подымали с помощью блочного приспособления, подвешенного на двух столбах с перекладиной. По другую сторону от колодца разместились голубятня, птичник и свинарник. Правее в глубине двора стояла «колокольня», или, вернее, деревянный столб с короткой поперечиной, на которой под прикрытием двускатной кровли висел колокол. Далее шли амбары, склады, конюшня, стойла для коров и другие службы. Часть двора занимали расположенные в правильном порядке хижины черных рабов.
Не было здесь также недостатка и в растительности, потому что множество деревьев, пожалуй самых могучих, самых зеленых во всей усадьбе, украшало этот громадный, превосходно устроенный двор, давая ему тень и прохладу. Здесь росло несколько агвиатов, красных маммей, манговых деревьев и каймитов. Особенно высоки и хороши были агвиаты, напоминающие расположением ветвей хвойные деревья континента; они казались гигантскими лестницами, упирающимися в небосвод. Именно на этих огромных, густолиственных деревьях любят располагаться для ночлега цесарки (по терминологии Кювье – Numidas meleagris) – экзотические птицы, известные своей крайней пугливостью. В кафетале Ла-Лус этих пернатых было с добрую сотню. Они просыпались до восхода солнца и производили немалый шум своим характерным клохтаньем или кукареканьем, начинающимся обычно с того, что одна из птиц принимается выкрикивать нечто похожее на слово «паскуаль»; таким же «паскуаль» отвечает ей сперва одна, потом другая, третья, пока наконец вся стая не проснется и не спустится вниз со своего высокого, устроенного самой природой насеста. Голуби и простые куры в этот ранний час еще не подают признаков жизни, первые – потому, что не любят просыпаться рано, вторые – потому, что еще дремлют взаперти в своих темных курятниках.
Впрочем, на усадебном дворе царило уже довольно большое оживление: повсюду можно было увидеть рабов обоего пола, занятых каждый своим делом. Кто, вооружившись граблями и мотыгами, сгребал валявшиеся на земле сухие листья и мусор либо расчищал дорожки от выросшей на них травы; кто поднимал охапками собранный в кучи мусор и наполнял им большие корзины, которые другие рабы ставили себе на голову и уносили прочь; кто черпал из глубокого колодца воду и сливал ее в стоявшее рядом вместительное каменное корыто, откуда затем в самодельных ведрах из выдолбленных обрубков пальмового ствола ее разносили по всем службам усадьбы и там выливали в большие бочки. Неподалеку от колодца конюх Леокадио поил и купал лошадей, выводя их по двое и по трое из конюшни. Из здания лущильни доносился звонкий детский голос – это мальчик-негр, сидя на выступающем конце оси лущильного колеса, погонял ходившую по кругу лошадь; колесо, вращаясь в вертикальной плоскости, обдирало кожуру с насыпанного под ним внизу кофе. Четверо негров раскидывали собранный кофе на сушильных токах, другие рабы отвозили вылущенные, «обрушенные» кофейные бобы к веялке, лопасти которой оглашали окрестности раскатистым грохотом, отдававшимся гулким эхом повсюду, где звуковая волна наталкивалась на какую-нибудь упругую преграду. Очищенные от шелухи и пыли кофейные зерна свозили в амбары, и тут рабы-сортировщики перебирали их и раскладывали по сортам.
Негры, попадавшиеся навстречу Исабели или проходившие поблизости, желали ей доброго утра и, преклонив одно колено в знак уважения и покорности, просили благословить их. Надсмотрщик Педро, сегодня уже без бича, зловещего символа своей власти, появлялся то здесь, то там среди работающих и, желая поощрять их не только словом, но и делом, становился, если это было нужно, с ними рядом и помогал им в работе. Приход Исабели на сушильные тока послужил для негритенка из лущильни сигналом к тому, чтобы затянуть своим серебристо-чистым, звонким голоском безыскусственную, наивную песню, сложенную, быть может, прошедшей ночью и начинавшуюся словами: «Нинья уезжает». За этим подобием стиха следовал второй и последний стих: «Нас, сирот, оставляет», который все негры затем подхватывали хором, как припев. И хотя юный запевала родился в самом кафетале, то есть был креолом, он вставлял между зачином и припевом несколько фраз на чистейшем конголезском языке, и хор отвечал на них своим неизменным рефреном: «Нас, сирот, оставляет».
Бесполезно было бы требовать гармонии или хотя бы мелодии от песни, которая, собственно, не была песней ни в нашем понимании, ни в понимании менее цивилизованных народов, и все же, несмотря на то, что утонченному слуху она показалась бы слишком бедной и однообразной, весь ее тон и слова дышали глубоким меланхолическим чувством, не оставившим Исабель равнодушной, хотя она и виду не подала, что слушает и понимает, о чем поют ее негры. Она направлялась к высоким агвиатам, туда, где возились и бегали спустившиеся на землю цесарки. При ее приближении несколько самых пугливых птиц поднялись было в воздух с тем резким и громким гнусавым криком, который служит для всей стаи сигналом опасности, но Исабель, зная прожорливость этих тварей, быстро нашла способ вернуть их назад и успокоить: достав из своей корзинки пригоршню кукурузных зерен, она кинула их птицам недалеко от себя, в условленное место. И тотчас же вся стая, отбросив осторожность и позабыв об опасности, налетела на скудную поживу и принялась жадно склевывать ее вместе с валявшимися на земле камешками. Воспользовавшись этим, одна из негритянок по знаку своей молодой госпожи подкралась почти ползком к стае и схватила двух птиц, причем так проворно, что остальные ничего не заметили. Мясо цесарок очень нежно, по вкусу оно напоминает мясо куропаток, и Исабели хотелось приготовить для своих гостей к завтраку изысканное жаркое.

Когда птицы были пойманы, Исабель стала разбрасывать корм пригоршнями, и к ней со всех сторон начали слетаться голуби. Ручные и доверчивые, не в пример диким цесаркам, которых они боятся, голуби сперва кружили около девушки, то взлетая, то опускаясь на землю, потом, осмелев, стали садиться к ней на плечи, на голову, на край корзинки и под конец уже клевали кукурузу у нее из рук, а некоторые даже пытались клюнуть ее в губы. И хотя такие сцены повторялись изо дня в день, изъявления нежности со стороны этих невинных созданий всякий раз приводили Исабель в умиление, и она никогда, если не считать нескольких редчайших случаев, не позволяла убивать голубей. Картины, подобные описанной, когда столь явственно обнаруживалась сила воздействия Исабели на все, с чем она соприкасалась, внушали ее рабам непоколебимое убеждение, что господь бог наделил их нинью своего рода чарами или какой-то таинственной властью над предметами и живыми существами и что власти этой нельзя было не поддаться и было бесполезно прекословить.
Диего Менесес, не отрывая взгляда, следил за тем, что делала Исабель, и хотя, как человек цивилизованный, он был далек от того, чтобы приписывать ей сверхъестественные качества, он, точно так же как и прочие, почитал ее существом необыкновенным. Обо всем, что Диего видел и слышал со своего наблюдательного поста у окна, он подробно докладывал Леонардо, нежившемуся в постели на тонких простынях, богато обшитых кружевами и надушенных благоуханными лепестками дамасских роз – чувствовалась и здесь домовитость и деятельная рука Исабели.
– Да, дружище, – заметил Менесес, обращаясь к Леонардо, – бывают же такие женщины!
– А что я тебе говорил? – отвечал тот самодовольно.
– Клад, а не девушка, настоящий клад. Такую не часто встретишь.
– Могу с тобой поменяться. Ты мне – Росу, я тебе – Исабель, так на так; идет?

– Не надо шутить, милый, – возразил Диего, становясь серьезным. – Если я нахожу в Исабели редкие, достойные восхищения качества, это еще не значит, что я предпочитаю ее другим женщинам или что я в нее влюблен. Но, откровенно говоря, я с каждым разом убеждаюсь, что ты ее не стоишь.
– Вот еще! Неужели ты думаешь, что она чем-нибудь лучше меня? – живо отозвался Леонардо, задетый замечанием друга. – Ты, душа моя, заблуждаешься самым плачевным образом. Не забудь, что Исабель всего только дочь чиновника, к тому же еще и отставного, Дочь разорившегося владельца кофейных плантаций, попросту сказать бедняка, тогда как мои родители – богатые землевладельцы, и у них есть и кофейные плантации, и конный завод, и богатое инхенио, и положение их в Гаване несравненно более высокое. Разве не так?
– Так-то оно так, но я совсем не это имел в виду, когда сказал, что ты ее не стоишь. Ведь если говорить начистоту, Леонардо, ты же не любишь ее.
– С чего это ты взял, что я ее не люблю?
– Полно! Разве я не вижу? С тех пор как мы приехали сюда, я наблюдаю за тобой, за твоими поступками и словами и пока не заметил в них ничего, что говорило бы о твоей любви к Исабели.
– Ах, Диего! Если сказать тебе откровенно всю правду, – промолвил после небольшой паузы Гамбоа, – я действительно не испытываю к Исабели той жгучей, слепой страсти, которую ты, например, питаешь… к Росе.
– Скажи лучше, – прервал его Менесес, – которую ты питаешь к Се…
– Тихо! – воскликнул с испугом Леонардо, приподымаясь на постели. – В доме повешенного не говорят о веревке. Тебя могут услышать: у стен есть уши. Это имя не должно здесь произноситься.
– Не в имени дело. Имя довольно распространенное, и я думаю, что Исабель не раз в своей жизни его слышала.
– Возможно, что и слышала, но, как говорится, по нитке дойдешь и до клубка, тем более что Исабель не так-то проста.
– Кстати, раз уж зашла об этом речь… Как ты ей объяснил то, что произошло тогда у дома Гамесов, когда она уезжала из Гаваны?
– Мне кажется, она что-то подозревает, к тому же, вероятно, и кузины наплели ей что-нибудь на этот счет. Она явно не верит тому, что я ей говорю, и вид у нее такой, словно она затаила на меня глубокую обиду.
– Да, кузины, конечно, приложили руку к тому, чтобы пробудить в ней ревность. Однако все это происшествие и само по себе было настолько недвусмысленным, что я удивился бы, если б Исабель не обратила на него внимания и не заподозрила того, что известно нам с тобой… Но сколько дерзости в этой девчонке!
– Что с нее возьмешь! В нее вселился бес ревности – вот она и скомпрометировала меня в глазах Исабели и ее кузин. Я тогда чуть со стыда не сгорел.
– Еще бы! Я на твоем месте, кажется, сквозь землю провалился бы. Но с чего Исабель вдруг решила, будто это твоя сестра Адела?
– Тут ничего нет странного. Припомни их обеих, и ты увидишь, что, несмотря на все различие, они на первый взгляд очень похожи.
– Я и сам давно это заметил. Твоему отцу, верно, не слишком приятно подобное сходство!
– Кто его знает! Одно тебе скажу – он такой же любитель корички, как я. И я нисколько не удивился бы, когда бы узнал, что в дни своей молодости он допустил себя до греха: он ведь был отчаянным волокитой… Что же касается до С., то у него по ней слюнки текут, это мне доподлинно известно.
– Стало быть, она не дочь ему.
– Какое! Конечно же, нет! Тут и думать не о чем. Что за вздор!
– Ходят такие слухи в Гаване.
– Мало ли что люди могут выдумать. Ну, посуди сам, Диего, неужели стал бы он волочиться за С., если бы его связывало с нею подобное родство?
– Но, возможно, он и сам ничего не подозревает – как ты говоришь, грешок молодости. А может быть и то, что он хочет защитить ее от тебя, зная о вашем близком родстве. Во всяком случае, нет дыма без огня…
– Ну, тут не то что огня – искорки в помине не было. Все это сплетни, и основаны они только на том, что С. и Адела по какой-то странной случайности очень похожи друг на друга; вот и рады болтать досужие языки… Но уж что правда, то правда: пришлось мне-таки страху натерпеться по милости отца, и не однажды. Иной раз забудешь про него совсем, а он тут как тут, столкнешься с ним нос к носу. Он кажется мне почти таким же опасным, как этот Пимьента: даже нет, гораздо опаснее. Единственное, что хоть несколько меня утешает, – так это то, что старикашки для нее не существуют, а мулатами она брезгует.
– Не слишком на это полагайся. Известно ведь – как волка ни корми, он все в лес смотрит, и нет таких котят, что мышей не едят. Но вернемся к делу. Результат твоих гаванских подвигов тот, что наши отношения с Исабелью оставляют желать много лучшего.
– Это верно. Я же говорю тебе – она что-то подозревает, а может быть, ее против меня настроили. К тому же она слишком горда, чтобы откровенно все высказать, но и у меня гордости более чем достаточно, вот мы и будем с ней канителиться, пока это не надоест господу богу или пока она не переменит гнев на милость и не пойдет на мировую.
– Твой безразличный тон, – заметил Менесес, – лишний раз убеждает меня, что ты не любишь Исабель.
– Я, верно, не сумел объяснить тебе все как следует, либо ты не хочешь меня понять, Диего. Видишь ли, они во всех отношениях настолько непохожи одна на другую, настолько между собой различны, несравнимы, что ту я люблю совсем не так, как эту. Та сводит меня с ума, я совершил для нее тысячу безумств и готов совершить их еще больше. И все же я никогда не полюблю ее той любовью, какой люблю Исабель. Та – вся страсть, вся пламень, вся искушение и соблазн – этакий дьяволенок в образе женщины, сама Афродита из плоти и крови… Кто устоит перед ее красотой? Кто, приблизившись к ней, не воспламенится страстью? Кто при одном взгляде на нее не почувствует, как вся кровь закипает у него в жилах? И кто, услышав из ее уст нежное, «люблю», не потеряет разум, словно от крепкого вина? Вблизи Исабели трудно испытать что-нибудь подобное. Она красива, изящна, мила, образованна, но при всем том слишком сурова, слишком похожа на ежа, который, только прикоснись к нему, тотчас ощетинится всеми своими колючками. Словом, нет в ней тепла, нет жизни, она холодна, как мраморная статуя. К ней испытываешь уважение, ею восхищаешься, даже смотришь на нее с нежностью, но никогда не внушит она никому ни безумной любви, ни всепожирающей страсти.
– И с такими мыслями, Леонардо, ты собираешься на ней жениться?
– А почему бы и нет? Жениться следует именно на таких, как она. Тот, кто возьмет в жены Исабель, может… спать спокойно, будь он даже ревнив, как турок. Иное дело такие женщины, как С. С ними не знаешь ни минуты покоя, живешь, как на вулкане. Мне бы никогда и в голову не пришло жениться на С. или на какой-нибудь девушке, похожей на нее, а вот поди ж, меня в жар и холод бросает при одной мысли, что, быть может, в эту самую минуту она кокетничает с каким-нибудь селадоном или музыкантишкой-мулатом.
– Отличное доказательство, друг мой, что нельзя служить сразу двум господам.
– В сердечных делах служить можно не то что двум, но даже и двадцати господам. Та, что живет в Гаване, будет моей Венерой, моей пенорожденной Кипридой; та, что живет в Алькисаре, станет для меня ангелом-хранителем, моей добродетельной урсулинкой, моей сестрой милосердия.
– Но ведь речь идет не о любви и даже не о любовных шашнях, а о том, что ты любишь одну, а жениться собрался на другой – на той, которую любишь гораздо меньше.
– Да что с тобой толковать: я тебе про одно, а ты мне про другое. Мужчина, если он хочет жить в свое удовольствие, должен жениться не на той, кого он любит безумно, а на той, которую любит спокойной любовью. Понимаешь ты это?
– Я понимаю только то, что из тебя выйдет плохой муж.
Между тем Исабель, нимало не подозревая о том, какие разговоры ведут ее гости, и продолжая свою утреннюю прогулку, подошла к колодцу, Здесь, как и повсюду, встретили ее с величайшей почтительностью. Водолей, опасаясь, как бы ему не забрызгать платье молодой госпожи, перестал черпать воду и сливать ее в каменное корыто, стоявшее рядом с колодцем. Гораздо более непринужденно держался в присутствии Исабели конюх-креол, ее ровесник, которого она хорошо знала с детских лет: сняв при ее появлении шляпу, он продолжал спокойно мыть и чистить коней, а пожелав госпоже доброго утра, он, в отличие от своего товарища, работавшего у колодца, не преклонил перед нею колен – обстоятельство, оставшееся – мы уверены в этом – не замеченным Исабелью, то ли потому, что для нее была привычна такая вольность со стороны слуги, то ли потому, что свойственная ей гуманность не могла примириться с подобострастной покорностью в поведении рабов.








