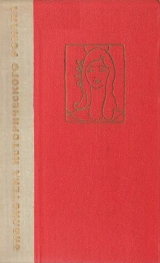
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)
Когда привезли меня сюда из Гаваны, был тут управляющим не дон Либорио Санчес, а дон Анаклето Пуньялес. Въехали мы во двор, а он стоит, прислонясь к столбу под навесом у своего дома, – сам из себя высоченный, худющий, черный, с бакенбардами, а голос до того зычный, что как гаркнет, так все кругом и затрясется, ровно в большой колокол ударили. На поясе у него мачете висит, за поясом – кинжал, да еще и плеть кожаная, на голове шляпа широкополая; стоит, сигару покуривает. Тут же и собаки его лежат, а у дверей жена сидит на кожаном стуле. Показалась она мне женщиной красивой, даром что гуахира. Ну вот, только это он меня издали увидел, управляющий-то, – сразу выпрямился, глаза так и сверкнули, ни дать ни взять как у того кота, когда он мышку почует. И собаки его тоже на ноги вскочили. Сердце у меня захолонуло – ну, думаю, пропала я. Не помню как и с лошади спрыгнула, сама вся дрожу. А он мне говорит: «А ну-ка, подь поближе, мамаша!» И вдруг палкой платок с головы у меня сорвал да как заорет, словно и себя не помнит: «Расфуфырилась, щеголиха! Ах ты, тварь! А ну!» Да цоп меня за косы и кинжалом своим раз, раз; одним махом и отхватил мне волосы чуть не с кожей. Но и это все бы еще ничего, кабы не увидел он на мне башмаков с чулками. Тут уж он вовсю разошелся. Заорал пуще прежнего, но только сперва у него ровно и язык отнялся. «Та-та-та, – кричит, – это ты – ты в башмаках? Да где это видано, чтобы черномазые в башмаках да в чулках расхаживали! Ты что, думала, сюда на бал едешь? А? Покажу я тебе балы! Заруби себе на носу, госпожа тебя сюда не для того послала, чтоб баклуши бить, а чтоб тебя здесь уму-разуму научить да послушанию. А ну живо, разувай копыта! Тут тебе бальные туфли не потребуются. Ну-ну, поворачивайся!»
Ах, милые мои доченьки! Лучше и не вспоминать. А как вспомню, так по спине холодом и прохватит. До тех пор ведь ни разу никто из хозяев меня и пальцем не тронул. А тут дал он мне такую затрещину, что я на землю повалилась ничком, и он приказал двум неграм держать меня за руки и за ноги и стал меня плетью своей кожаной стегать, и, видно, до тех пор стегал, пока рука у него не притомилась, а долго ли – этого не знаю, потому на третьем либо на четвертом ударе чувств лишилась, и что было – ничего не помню. Только к ночи я опамятовалась – в бараке, на досках. Две недели там отлежала, пошевелиться не могла от боли. И что бы вы думали, милые мои? Немного прошло времени, и этот же самый управляющий, что так меня встретил, взял меня к себе в дом горничной и начал куры мне строить… Жена стала его ревновать. Вот тогда-то и определил меня дон Анаклето сиделкой в барак – тут как раз старушка умерла, что до меня за больными смотрела. И стал он ко мне приставать со своим ухаживаньем. Только нелюб он мое был. Да и с чего бы мне его любить? Ведь он чуть насмерть меня не запорол! Как, бывало, увижу его, так будто это сатана передо мной, – глаза бы мои на него не смотрели! Само собой, я старалась виду не подавать и прямо его не отваживала, а отделывалась от него осторожно, под разными предлогами, боялась, как бы не осердить его, чтобы снова он мне порки не устроил. Жена его помогла мне, хоть и сама того не ведала. Ревновала она его ко мне, ревновала, точила-точила, пока не махнул он на все рукой, взял расчет, да и нанялся управляющим в другое инхенио.
А соблазн-то какой, милые вы мои! Против себя самой идти приходилось. Хотела бы я посмотреть на иную честную-благородную, как бы она тут на моем месте себя оказала. Нет, не устояла бы она, будь хоть трижды святая! Ведь не было тут мужчины такого, что не подъезжал бы ко мне со своей любовью. И каждый беспременно с того начинал, что, дескать, слишком я хороша и не мне губить свою молодость в этой глуши. И каждый сулился: «Полюби меня, и я тебя освобожу». Так мне и Сьерра говорил, хозяин шхуны, на которой доставили меня сюда из Гаваны; и возчик-оборванец, что вез меня сюда на лошади из Мариеля; и кровельщик, и сахаровар, и дворецкий – все. Право слово, будто и бабы они на своем веку в глаза не видывали, и не женаты были, и детей не имели!
Да вот хотя бы сеньор дон Хосе, доктор наш. Как он вам покажется, милые мои доченьки? Тоже ведь в меня влюбился и морочит мне голову всякими баснями. Не смейтесь, милые, правду вам говорю. Уж он ли не белолиц, а походочка-то какая деликатная, все на цыпочках, на носочках, писаным красавцем себя считает, думает – весь женский пол по нему так и сохнет… а у самого, милые мои, по мне слюнки текут. Только ни к чему это мне. Скаред несчастный!.. Живет, руки защемя. У него в дождь кружки воды не выпросишь. Да я и знать-то его не хочу!
– Стало быть, – сердито произнесла Адела, – ты свою любовь продаешь за деньги?
– Что вы, доченька, зачем же меня такими словами обижать? Да могла ли я любить кого-нибудь? Мне любовь и на ум-то не шла. Любовь в жизни только одна бывает. А у меня сердце будто высохло. И деньги эти мне не для нарядов нужны были, а чтобы на волю вырваться. Соблюдала я себя, соблюдала… А годы-то мои были молодые. Невтерпеж стала мне жизнь моя горькая, мука эта мученическая, бежала бы я, кажется, из пекла этого адского куда глаза глядят. А сатане только того и нужно: где огонь да трут – и он тут, дунул, и пошло полыхать. Эх, да что там говорить! Всякое было. Теперь вот со стыда пропасть готова. Как привезли меня сюда, работал тут один по плотницкому делу, бискаец родом, и показалось мне, что между ухажеров моих он самый надежный и беспременно меня из ада этого вызволит. Нечистый меня попутал. И вот изменила я с тем бискайцем моему Дионисио. Тогда-то и родился на свет Тирсо – горе мое и наказание!
Шокированные цинической откровенностью рассказа, слушательницы громким ропотом выразили сиделке свое неодобрение. И рассказчица, желая сгладить неловкость, поспешно добавила:
– Сеньориты должны простить меня, если я что-нибудь не так сказала. Но вот вы представьте на минутку себя на моем месте – вообразите, будто приключилось с которой-нибудь из вас такое несчастье, что наружность ваша ни с того ни с сего переменилась и стали вы вдруг чернокожей негритянкой. И теперь вообразите, что нет у вас больше сил терпеть злую неволю, а тут приходит человек, неважно какой, белый он там, или черный, или мулат, пригожий или уродливый, и он говорит: «Не тужи, голубка, не кручинься, я тебя вызволю, потому что жалею», Вот и подумайте стали бы вы меня тогда судить так строго, как теперь судите? Нет, не стали бы! Слаще меда показались бы вам его слова! И не было бы для вас на свете никого добрей да милей его, а сам он был бы для вас распрекрасней всякого ангела! «Я тебя вызволю, освобожу». Ах, доченьки мои, да я, бывало, как слово это услышу, так вся и встрепенусь, и на душе разом будто посветлеет, таково радостно сделается, что и сказать нельзя, и в жар и в холод кинет, как от лихорадки. Свобода! Да какой раб подневольный о ней не мечтает? При одном только слове этом я сама не своя делаюсь, и не выходит она у меня из мыслей – свобода – ни днем, ни ночью, и сны мне про нее снятся, и каких только замков воздушных не понастрою, и уж кажется мне: вот я в Гаване, с мужем, с детьми со своими и будто пляшу я на всех балах, нарядная, красивая, на руках браслеты золотые, в ушах серьги коралловые, туфельки на мне атласные, чулки шелковые, и все будто как прежде бывало, когда жила я во дворце у графа и графини Харуко!
Однако расскажу вам, как дальше пошло. Хуже всего было для меня то, что, положим, улыбнусь я невзначай сахаровару – глядишь, рассердился надсмотрщик, либо кровельщик, либо дворецкий, либо доктор, либо управляющий, новый то есть управляющий, дон Либорио Санчес, которого госпожа нынче выгнала за зверство его над неграми. Он сюда поступил после дона Анаклето Пуньялеса. Самый страшный был он для меня из всех моих ухажеров. Силой к любви принуждал. Перечить ему – упаси бог, сейчас за плеть хватается. От ревности да со злости дважды порол он меня при всех, всю кожу со спины мне спустил. Вы и не знаете, какая это для меня радость, что госпожа его выгнала. Да вот пощупайте, барышня, пощупайте здесь, на плечах да на лопатках, троньте ручкой своей.
Не без робости просунула Адела розовые свои пальчики за ворот кормилицыного платья и тотчас же отдернула их, наткнувшись на страшные рубцы, оставленные на спине негритянки плетью ревнивого управляющего; рубцы пересекались под рукою Аделы во всех направлениях, делая спину похожий на свежевспаханное поле. И тогда девушка отчасти поняла, какие муки выпали на долю ее кормилицы. А Исабель и донья Хуана, пораженные ужасом, проливали слезы сострадания к горестной участи бедной рабыни.
– Вот как дон Либорио со мной поступал, милые вы мои, – продолжала Мария-де-Регла свою волнующую повесть, – а сам тем временем, чтобы следы замести, заставил дворецкого письмо написать хозяину. И чего-чего только не было в этом письме про меня наговорено – и такая, мол, я и сякая, и что будто я моими шашнями любовными все инхенио перебаламутила, что из-за меня ему каждый день надо нанимать новых работников, а старых выгонять. И правда, коли покажется ему, бывало, что кто-то мне понравился, тут же его и выгонит. Было там еще написано, что как только наймется в инхенио новый работник, я будто бы тут же начну с ним заигрывать и так его к себе приворожу, что уж он ни о чем, как только обо мне, думать не может, и работа у него из рук валится. И что вроде бы я здесь весь мужской пол с пути сбиваю. Это я – то их сбиваю! Да чем же я виновата, что белые в меня сами влюбляются? А мне от этого одно горе: приветила кого – плохо; отшила – еще хуже. Вот и посудите, милые мои, каково мне тут весело приходилось!
А на письмо, что управляющий послал, один был ответ: «Всыпать ей как следует, дряни этакой!» Ну и конечно, куражился он надо мной, как только душеньке его было угодно, все за обиды, что от меня терпел. Хлебнула я лиха! А пожаловаться некому. Приехал однажды на рождество хозяин с сеньорито Леонардо, но не то чтобы выслушать – допустить к себе не захотели. В другой раз рассказала я капитану Сьерре, как тут надо мной измываются; поехал он в Гавану, потом воротился и объясняет, что не смог о деле моем ни с госпожой поговорить, ни с вашей милостью, а только передал кое-что Долорес.
Адела подтвердила сообщение капитана и вкратце рассказала сцену, происшедшую тогда между нею и ее матерью, – сцену, описанную нами в конце девятой главы второй части нашего повествования.
Глава 9Отдала б она полжизни,
Чтобы в час тот роковой,
Столько бед ей причинивший
Стать глухою и слепой.
Герцог де Ривас
Кормилица продолжала свой рассказ:
– А сейчас, доченьки, вы узнаете истинную причину, почему подвергли меня такой жестокой каре. Однажды… теперь я уж и не помню точно, когда это было, знаю только, что после страшной бури, которая случилась в день святой Терезы, стало быть, в тот самый год, как повесили Апонте. Так вот, вызывает меня однажды хозяин в столовую – кроме него, никого там не было – и говорит мне: «Мария-де-Регла, ребенок твой умер, а молока у тебя много, я и подумал – негоже, чтобы оно без пользы пропадало, и решил послать тебя к доктору Монтесу де Ока. Один его друг ищет кормилицу для новорожденной девочки двух-трех дней от роду. Так что поди соберись, отправишься туда сразу после завтрака». Кончился завтрак, хозяин выходит и садится в коляску. Вышла и я следом за ним. Ну, он, конечно, поедет, а я пешком пойду. Но он вдруг велит мне садиться в коляску рядом с собой. Дивно мне это показалось! Где же это видано, чтобы негритянка – и сидела в коляске рядом со своим господином на мягких подушках! Ведь нам только на козлах или на подножке сидеть дозволяется. Потом приказал хозяин кучеру нашему Пио трогать. «Что бы все это значило?» – думаю я про себя и понять не могу. Выехали мы за Земляные ворота и покатили по шоссе Сан-Луис-Гонзага, все прямо и прямо; доехали так до домишек на углу Кампанарио Вьехо. У одного из этих домиков хозяин велел остановиться. Вижу – в домике два окна на улицу смотрят, железными решетками забраны, и парадное, а перед парадным еще одна коляска стоит, пустая. Я и подумала, что, верно, доктор здесь живет либо отец этой девочки, которую я кормить буду. Хозяин выпрыгнул из коляски и говорит мне: «Выходи!» Вошел он, я за ним. Смотрю, справа в стене вертушка устроена, как бы шкаф круглый с ящиками, и ящики эти на детские люльки похожи; внутреннего двора не видно, потому что на том конце сагуина – тамбур высокий, и в нем посредине – дверь.
В сагуане хозяин остановился и говорит мне тихонько и так серьезно: «Мария-де-Регла, говорит, постучи в эту дверь и спроси сеньора доктора Монтеса де Ока, и что он тебе ни прикажет, ты все должна исполнять беспрекословно. А теперь слушай внимательно, что я тебе скажу. Во-первых, ты никогда ни одной живой душе не проговоришься о том, что ты здесь увидишь, услышишь или узнаешь. Во-вторых, пока будет продолжаться вскармливание – да, он так и сказал: вскармливание, – ты не должна встречаться ни с Дионисио, ни с кем бы то ни было из нашего дома. Но самое главное – никому не смей рассказывать, кто твои хозяева и кто тебя сюда привез. И с этой минуты, кто бы ни завел при тебе речь обо мне, о госпоже, о девочке, которую ты будешь кормить, о людях, которые будут ее окружать, в этом ли доме или в другом месте, куда ее могут увезти, – ты ничего не слышала, не видела и не знаешь, поняла? Ну, смотри же. Это все. А теперь стучи».
Ушел хозяин, а я стою, и оторопь меня взяла – что делать, не знаю. Хозяин-то ушел быстро, однако же в коляску садиться не стал, ждет, пока я постучу. Верно, думал – сбегу отсюда! Ну, взялась я за молоток. Открыла мне дверь старушка, тоже, как и я, негритянка. И только переступила я порог, сразу и смекнула, что это за место такое. Со всех сторон детский крик и плач раздается. Приют это был для новорожденных. И кого-кого только там не было: и белые младенцы и мулаты, а кормилицы все почти такие, как я – черные. Мне и не пришлось спрашивать про сеньора Монтеса де Ока: он стоял тут же, в зале, осматривал больного ребенка, которого кормилица держала перед ним на руках. Не успела я и рта раскрыть, а уж он мне говорит: «Ты – Мария-де-Регла Санта-Крус, не так ли?» И опять не успела я ему ничего ответить; схватил он меня за запястье, пульс щупает, язык велел показать, потом пальцами веки мне оттянул, посмотрел, не бледные ли да какого цвета белки. И все это молча либо знаками мне показывает, что делать. Потом повел меня в другую комнату. Вхожу я и вижу: стоит посреди нее под белым большим покрывалом – а покрывало-то все кружевное – кроватка маленькая красного дерева. Доктор подошел, одной рукой кружево приподнял, а другой показывает мне на младенчика, что под ним укрыт был. Младенец белый, спеленат и лежит в конвертике из голландского батиста, а конвертик весь вышит и еще широким гипюром отделан. Я так и стала, смотрю во все глаза – роскошь-то, роскошь какая! Не простых, думаю, родителей дочь, богачей, да еще и каких. А доктор гнусавым своим голосочком меня наставляет: «Это вот и есть, говорит, девочка, которую ты кормить будешь. Заботься о ней как о собственной дочери. Не пожалеешь об этом. Ты молодая, сердце у тебя доброе, здоровье хорошее, молока много. Обрати внимание, у девочки на плечике сзади метка голубая. Дитя еще некрещеное».
Обещала я ему, что сделаю все, как он велит, и про себя положила, что девочка эта будет для меня родной дочерью. Но не хозяйской угрозы я испугалась, нет – меня больше обещание доктора прельстило, да и дитя уж больно по сердцу мне пришлось. Смотрю, лежит передо мной не младенец – чистый ангелочек. Никому не в обиду будь сказано, но, право же, милые мои доченьки, не видывала я на своем веку младенца краше той девочки… Разве что с вами, ваша милость, когда вы только родились, сравнить можно. Очень она тогда на вас походила, и если еще жива она и не подурнела, так должна быть вылитая вы. Иной раз и между близнецами такого сходства не встретишь, как было между вами.
А уж что беленькая! – продолжала кормилица, живописуя портрет малютки из приюта для новорожденных. – Белее молока, милые мои. Личико кругленькое, подбородочек остренький, носик точеный, ротик махонький, губки алеют, что твой бутон розовый. А уж глазки! И не говорите – так хороши, что и слов нет. Ресницы – вот этакие длиннющие. Не могла я на нее досыта наглядеться. Первым делом открыла я ей плечики, чтобы метку посмотреть. Был у нее наколот синими чернилами полукруг, вроде полумесяца, вот здесь примерно; иглой, видать, накалывали… – И Мария-де-Регла показала место у себя на левой лопатке.
Поначалу девочка не хотела грудь мою брать – по запаху, верно, чуяла, что я не мать ее либо не та женщина, что до меня ее кормила. А жила я в этом приюте как принцесса… Ах, и до чего же они меня там ублажали! Только на улицу ходить было не велено. Раза три-четыре доктор наведывался – смотреть девочку: он же привел и священника церкви Ла-Салуд, падре Манхона, чтобы он окрестил младенца. Нарекли ей имя Сесилия Мария-дель-Росарио, записали как дитя неизвестных родителей и поэтому дали фамилию Вальдес.
– Сесилия Вальдес! – изумленно воскликнула Кармен. – Это имя я уже где-то слышала.
Адела также заметила, что уже не в первый раз слышит это имя, но ни одна из сестер не могла припомнить, когда, при каких обстоятельствах и где довелось им услышать его впервые. Как бы там ни было, но любопытство слушательниц было задето живейшим образом.
– По всему по этому, – продолжала сиделка, – мне и пришло в голову, что, видно, доктор-то и приходится девочке отцом. Но потом поняла я свою ошибку, потому что доктор этот, милые мои, был урод уродом и не могло у него родиться такое дитя красивое, хоть бы и прижил он его с самой богиней Венерой. Ну, окрестили, стало быть, девочку, а дня через два-три приезжает за нею от доктора богатая карета. Въехали мы в Гавану через Крепостные ворота, кружили-кружили по городу и наконец остановились перед маленьким домиком в переулке Сан-Хуан-де-Дьос. Вышла я из кареты и спрашиваю кучера: «Чей ты?» А он мне говорит, что доктора Монтеса де Ока. Тогда я опять спрашиваю – кто, мол, в этом домо живет; а он только лошадей стеганул. «Не знаю», отвечает, и поехал.
Из дверей вышла мне навстречу мулатка, толстая, но красивая, одета хорошо, и приглашает: «Входи, Мария-де-Регла», – имя-то мое уже знала; и тут хватает она у меня младенца из рук и ну его целовать: целует, целует, оторваться не может. Вот она, мать, думаю. Однако же и тут я ошиблась, потому что, вижу, идет она в другую комнату, а там в кровати еще одна мулатка лежит – молоденькая, и еще красивее толстухи, что меня встретила. «Чарито! – говорит толстуха этой молоденькой, что в кровати. – Проснись, Чарито! Глянь, кто приехал! Сесилита приехала, вот радость-то; да посмотри, какая она у нас красавица!»
А эта, Чарито, лежит в кровати, исхудалая, в чем только душа держится, в лицо ни кровинки, волосы спутаны – и все же показалось мне, что большое у нее сходство с Сесилией. Да, очень они друг на дружку похожи были. И поняла я, что она-то и есть мать девочки.
Долго не могла добудиться ее толстая эта мулатка, но уж лучше бы Чарито и не просыпалась, потому что, как проснулась она, поднялся там такой содом, что хоть вон беги. Открыла она, значит, глаза, повела ими вокруг себя, словно бы в страхе каком-то, и села на кровати – ну ни дать ни взять помешанная. Да так оно и было, милые мои доченьки: через минуту все это наружу вышло. Только толстая эта мулатка – Чепильей ее звали – поднесла к ней младенчика, она вдруг как оттолкнет их, а сама прыг с кровати и, точно бешеная, на Сесилию кинулась, схватила ее обеими руками за горло – и душить; да и задушила бы ее, верно бы задушила, когда б Чепилья не вырвалась – и скорей в залу и, слава богу, успела дверь за собой запереть. Тут вбежала из кухни старуха негритянка – высокая, тощая, одно слово: скелет ходячий. Кое-как удалось нам вдвоем с ней схватить сумасшедшую и повалить ее на кровать, но она и в кровати, хотя мы и крепко ее держали, продолжала буйствовать, царапалась, ногами от нас отбивалась – и все молча, без единого слова. Негритянка-то эта, которая скелет ходячий, унимает ее, а сама слезами заливается, и потом показывает мне, что надо, мол, ее к койке простыней привязать. Так я и сделала… И что ж бы вы думали – помогло, тут же она и затихла. Верно говаривал граф, прежний мой господин, что сумасшедшего только силой и вразумишь.
Успокоили мы ее, и кинулась я скорей в другую комнату – девчонка-то, слышу, криком заходится. Смотрю, дверь с той стороны на крючок заперта. Постучала я раз, другой – Чепилья мне не открывает. Сумасшедшей, видать, боится, решила я про себя. Дай-ка, думаю, в щелочку посмотрю, что она там делает. Вижу – высунулась она в окошко, ко мне спиною, и дитя какому-то мужчине показывает, который на улице стоит под окном. Правда, его самого не видно, только шляпу я и разглядела: черная высокая шляпа колоколом, поля узкие – мода такая в ту пору была, и назывались эти шляпы «ситуайен». И вот показалось мне, будто видела я где-то раньше такую шляпу.
Не иначе как через того мужчину вызвала тетушка Чепилья доктора Росаина, потому – с чего бы это он вдруг ни с того ни с сего сам бы туда явился и прямо в комнату к больной направился? Долго он ее осматривал, а после вышел и без всяких обиняков тетушке Чепилье диагноз свой напрямик объявил. «Чарито, говорит, сошла с ума и уж больше не выздоровеет. А страшнее всего то, что нельзя, говорит, дитя под одной крышей с матерью оставлять, потому как впутала она ребеночка в бред свой безумный, и когда буйство на нее найдет, может она дитя задушить». Думаю, незачем мне вам объяснять, милые мои, как тут тетушка Чепилья расстроилась. И говорит она доктору, что, мол, понимает, как опасно оставлять младенца в одном доме с матерью, но что решения никакого покамест принять не может, а должна прежде посоветоваться с одним человеком, с которым и всегда обо всех своих делах советуется. «Это тот господин, которого вы за мной посылали?» – спрашивает ее доктор. А толстуха отвечает: «Он самый». Тогда доктор Росаин ей говорит: «Он ожидает меня на углу; я должен сообщить ему о состоянии больной, а также диагноз болезни, но как положение очень серьезное и время не терпит, я попрошу его прийти сюда, чтобы вы могли с ним посоветоваться…» А тетушка Чепилья словно бы испугалась и стала отказываться: «Нет, нет, сеньор, так мы только больше времени потеряем. Он сейчас сюда не придет. Лучше будет, если вы с ним сами поговорите и передадите мне, что он решит. Не откажите в любезности».
Доктор ушел, а немного погодя вернулся и говорит: «Дон Кан…» – «Молчите, ради бога, молчите, сеньор, – перебивает его тетушка Чепилья, и никогда еще я не видела, чтобы так она испугалась. – Ни слова больше! – просит его. – Я ведь знаю, как его зовут». – «Хорошо, – отвечает ей доктор спокойно. – Этот господин, что стоит на углу, хочет поместить Чарито в больницу Де-Паула: он обещал распорядиться, и за нею сейчас пришлют носилки. Ах, да, он полагает также, что будет лучше, если ребенок останется здесь вместе с кормилицей».
– А кто же был этот господин, что стоял на углу? – в один голос спросили Кармен и Адела.
– Точно я вам этого сказать не берусь, милые мои, – замявшись, отвечала им бывшая кормилица. – Я не могу поручиться, что доктор сказал именно дон Кан… Может, это мне только так послышалось, а на самом-то деле он сказал дон Хуан, дон Сан или еще что-нибудь такое на «ан». Я ведь стояла далеко и все боялась, как бы меня там не заметили, да и ребеночек-то плакал не переставая. Но что верно, то верно: очень странно мне показалось, почему тетушка Чепилья при каждом слово пугается. И вот навели меня на подозрение эти ее ужимки испуганные и еще шляпа модная за окошком.
– Браво! – воскликнула Кармен. – Выходит, коли ты и не знаешь наверное, какое имя собирался назвать доктор Росаин, то все же догадываешься, кто был тот человек в шляпе. Как же, ты думаешь, его звали?
– Я ничего не думаю, нинья Кармита, – смешавшись, отвечала Мария-де-Регла. – И утверждать тоже ничего не стану.
– Ты боишься чего-нибудь? – мягко спросила ее Адела.
– Ах, нинья Аделита! Как же мне не бояться! Я всего боюсь. Негру, прежде чем рот раскрыть, наперед хорошенько подумать надо.
– Уверяю тебя – ты тревожишься попусту. Ну чего тебе бояться? Мало ли, что было когда-то. Было, да быльем поросло. Теперь обо всем этом, верно, никто уж и не помнит. А если человек подозревает кого-нибудь в чем-либо, так тут еще ничего худого нет: иногда подозрение вполне естественно…
– Но ведь вы, ваша милость, про то не забудьте, что для раба заподозрить своего господина – значит погубить себя.
– Что, что ты сказала? – с негодованием перебила негритянку Кармен. – Уж не вообразила ли ты, что это был наш отец?
– Ах, что вы, доченька, да как же это можно о своем господине такое подумать! – поспешила ее разуверить бывшая кормилица. – Избави бог! Оговорилась я, верьте слову, нинья Кармита! Язык не так повернулся, вот я и сказала «своего господина», а думала-то про всех белых господ. Потому что негр никогда не должен подозревать белых господ в худых делах. Только это я и хотела сказать, нинья Кармита.
– Неправда, – подчеркнуто строго отвечала Кармен. – Ты не это хотела сказать, но теперь ты пытаешься оправдаться и скрыть от нас, как все было на самом деле. Чуть что, так ты сразу – я не я, и шапка не моя, – а про себя думаешь, будто знаешь больше нашего. Но ты ошибаешься, а главное – не замечаешь, как ты сама себе противоречишь. И я тебе это сейчас докажу. Вот ты говорила, что у доктора Матеу по тебе слюнки текут, и то же самое примерно ты рассказывала о графе де Харуко и его сыне; ты сказала также, что графиня, прежняя твоя госпожа, поспешила выдать тебя замуж за Дионисио из ревности, – так почему же ты не видела ничего дурного в том, чтобы сообщить нам все это, а между тем можно ли рассказать о своих белых господах что-нибудь худшее?
Рассказчица не нашлась, что ответить, и на минуту в комнате воцарилось тягостное молчание, мучительное не только для бывшей кормилицы, но в еще большей степени для Исабели. Границы настоящего вдруг раздвинулись перед живым воображением девушки, разнородные впечатления и события связались воедино, и, словно сквозь какой-то магический кристалл, преодолевая время и расстояние, она внезапно увидела все потаенное неблагородство, всю нечистоту жизни этого семейства, с которым она собиралась связать себя узами, расторгаемыми одной только смертью. Исабель ни о чем не спрашивала, ни вздоха, ни восклицания не вырвалось из ее груди, ей было достаточно рассказанного, чтобы об остальном догадаться самой. Иначе обстояло с Аделой и Кармен. Будучи моложе и неопытнее своей приятельницы и не обладая ее умом, они, естественно, не почувствовали в рассказе негритянки никакой для себя опасности, он не смутил их и не утолил их любопытства, напротив того, лишь подстрекнул их на новые расспросы и возбудил желание дознаться до мельчайших подробностей этой истории, исполненной всяческого соблазна, а подчас и просто безнравственной.
– Ну, не бойся же! – возобновила атаку Адела, стараясь придать своему нежному голосу убедительные интонации. – Скажи нам прямо, кто, по-твоему, был этот господин, что стоял за окном?
– Хорошо, раз вы настаиваете, я вам скажу, хоть у меня и не поворачивается язык говорить такое, и да накажет меня господь, коли это неправда, а коли я ошибаюсь, пусть не зачтет он мне во грех моей ошибки. Но только показалось мне, милые вы мои, что господин этот, который под окном стоял и поцеловал девочку, был… мой хозяин. Очень уж он на него походил.
– Папа?! – в один голос возмущенно воскликнули Кармен и Адела. – Не может этого быть. Ты обозналась. Папа никогда не стал бы якшаться с мулатами и с подлой чернью.
– Ложь! – отчеканила Кармен, которую не привязывало к Марии никакой нежное чувство. – Это был не папа – нет, нет и нет! Папа, такой благородный, такой серьезный человек, истый аристократ по рождению и по характеру, – папа вдруг где-то тайком станет целовать какого-то приютского подкидыша, к тому же, вероятно, еще и темнокожего! И возиться с ним! Нет, этого не может быть. Я даже и предположение такое отвергаю – я просто возмущена! И никогда я этому не поверю, хотя бы ты мне клялась всеми святыми!
– Ошиблась я, ошиблась, ваша милость, – промолвила негритянка с видом человека, раскаивающегося в своих словах. – Не верьте тому, что я говорила. Обозналась я, не разглядела толком – вот мне и показалось, что это хозяин. Напутала я все. Но вы, сеньориты, примите во внимание, что я перед тем сумасшедшую унимала и еще в себя не пришла, да и смотрела-то я в щелочку дверную. Нет, не моя вина, что запало мне в душу такое подозрение. Чем же я виновата, что хозяин отдал меня внаймы кормить эту девочку? Чем виновата, что он сам отвез меня в своей коляске в этот приют? Чем виновата, если он строго-настрого запретил мне рассказывать про то, что я услышу в приюте и везде, куда ни повезут меня с младенцем? Тут бы и всякого сомнение взяло. Посудите сами, милые мои доченьки: этот человек был не доктор Монтес де Ока, и не доктор Росаин, и не хозяин – потому что хозяин ведь был женат на госпоже. Так кто ж бы это мог быть? Не иначе как тот мужчина, что потом приходил чуть не каждый день любоваться на ребеночка и всякий раз от меня прятался. Но почему же он прятался только от меня, а от хозяйки не прятался? Невдомек мне это было, да и очень уж он на хозяина наружностью своей походил. Потому оно и получалось, что я одного за другого принимала. Но спасибо вам, доченьки, вы мне теперь все как есть растолковали.
Этот дипломатический ход несколько умерил бурную пылкость дочерних чувств Кармен Гамбоа, и она проговорила:
– Конечно же, конечно, ты обозналась. Папочка не мог иметь ко всему этому ровно никакого отношения, он просто хотел помочь доктору Монтесу де Ока подыскать кормилицу для незаконной дочери какого-то его друга. Это же ясно, как божий день. Но странно, в высшей степени странно другое, – добавила она, обращаясь к своим приятельницам, – как это Мария-де-Регла, такая умная, разбитная негритянка, не попыталась узнать, кто были эти женщины из домика в переулке Сан-Хуан-де-Дьос, к которым она попала, и как звали того мужчину, что приходил под окно смотреть на ребенка? Вот уж этого я никак в толк не возьму.
– Ах! – воскликнула хитрая сиделка. – И зачем же вы так говорите, ваша милость? Да ведь я чего только не делала, чтобы хоть какую-нибудь малость у них выведать! И кое-что я, правда, узнала, а кое-чего так и до сей поры не знаю. А уж я ли, кажется, не старалась! Землю носом рыла, чтобы докопаться, не хуже той курицы, что с цыплятами своими в навозе роется. И все без толку. Из них и слова было не вытянуть. Больно умные они были да осторожные, либо их другие, умнее нас, этому научили. Одно только я и узнала достоверно – то, что старуха эта, негритянка, ну, которая скелет ходячий, звалась Магдалена Моралес и доводилась матерью тетушке Чепилье, а тетушка Чепилья Аларкон доводилась матерью сенье Чарито, и сенья Чарито доводилась матерью Сесилии Вальдес. Иначе сказать, негритянка Магдалена, такая же черная, как я, прижила тетушку Чепилью с белым, и тетушка Чепилья была мулатка; тетушка Чепилья опять прижила с белым сенью Чарито Аларкон, и она была уже светлая мулатка; а сенья Чарито еще с одним белым прижила Сесилию Вальдес – белого ребенка. Так. А кто же их всех содержал? Кто платил за дом, за еду, за врача, за все их роскошество? Кто был отец девочки? Этого я так и не смогла узнать в точности. А на какие только хитрости я не пускалась, чтобы до правды дознаться! Где там! У тетушки Чепильи всегда были ушки на макушке… Бывало, стоит мне только об чем-нибудь спросить ее, ну самый что ни на есть пустяк, уж она беспременно меня отошьет: «Много будешь знать, скоро состаришься».








