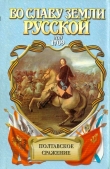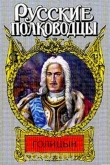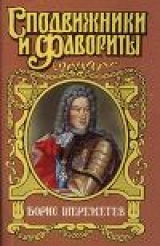
Текст книги "Фельдмаршал Борис Шереметев"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
– Передайте полковнику, господин адъютант, что я буду счастлив представить его к давно заслуженным званиям. И сегодня же отправлю представления.
И едва адъютант отъехал, Борис Петрович тут же сел за написание представления, и писал его с воодушевлением и столь возвышенно витиевато, что порою с трудом сам добирался до сути и окончания предложения: «…господин полковник вышеупомянутой счастливой баталии и с одержанной над неприятелем виктории так мужественно и храбро поступал, как искусному в воинстве славному кавалеру прилежит».
Через несколько дней тот же Бартенев привез Шереметеву приказ царя: «Незамедлительно выступать к Риге».
«Господи, и передохнуть не дает», – подумал Шереметев, но вслух сказал Бартеневу:
– Передай, Федор, государю: приступаю к исполнению.
И тут же вечером вызвал к себе генералов Репнина, Генскина, Бема и бригадира Фастмана.
– Господа, получен приказ государя выступать к Риге.
– Уже?! – воскликнул в удивлении Бем.
Впрочем, и на лицах других читалось недоумение. Весь год жили в таком напряжении, в тяжелейших переходах, стычках, в голоде-холоде, в жаре, наконец победили сильного и коварного врага, разнесли в пух и прах его армию. Казалось бы, теперь и отдохнуть. Ан нет. Снова в поход. И куда? В Прибалтику.
Фельдмаршал вполне разделял чувства своих подчиненных, а потому постарался успокоить:
– Ничего, господа. Мы выступим, но поспешать не станем. Разрешаю устраивать дневки для отдыха солдатам и, что не менее важно, обеспечить им доброе питание, не жалея на сие никаких денег. А также обязательно откармливать и холить конский состав. Поскольку дорога через Гомель – Могилев после прохождения нашего и шведского войска сильно разорена и оголожена, поведем корпус на Луцк, там нам будет сытнее. Армию поведете вы, Аникита Иванович, а я выеду вперед, дабы озаботиться провиантом и фуражом. Помните, солдат не томить и без нужды караулами и экзерцициями {240} не донимать.
Часть четвертая
РАСПУТЬЕ
Глава первая
КАПИТУЛЯЦИЯ РИГИ
Из отпуска под Ригу возвратился Борис Петрович в начале апреля в великом расстройстве. Генерал Репнин, замещавший его во время отсутствия, доложил обстановку и не преминул заметить:
– В великой нужде войско, Борис Петрович, подъедаем последнее. И где брать? Ума не приложу.
– Знаю я, Аникита Иванович. Откуда что возьмется? Здесь еще в позапрошлом году Левенгаупт все под метлу вымел, пятнадцать тысяч подвод нагрузил своему дражайшему Карлусу. Ехал я через деревни, все в великом запустении, кору люди едят, траву, детей своих… – Голос у фельдмаршала дрогнул. Вынув платок, он громко высморкался. Прокашлявшись, молвил: – Отписал государю с дороги. Чую, будет мне выволочка от него.
– За что? Вы-то тут при чем, Борис Петрович?
– Да я когда в отпуск просился, сказал, мол, провианта в армии довольно, на полгода достанет. Выходит, обманул государя-то.
– Да, – вздохнул сочувственно Репнин. – Он этого не любит.
– А скажи я – мало, он вовек не отпустил бы. А у меня сколь деревень уж, все, считай, без догляду. Ту же Черную Грязь, что за Полтаву презентовали, взглянуть надо? А?
– Надо, конечно, – согласился Аникита Иванович.
– Ну вот. Поехал смотреть, а там все в запустении, крестьяне разбаловались, сплошь в недоимках. Уж и не рад был, что этой самой Черной Грязью обогатился. Вместо прибытков убытки от нее.
– Надо доброго приказчика туда.
– Да поставил Увара Киприянова, он деловой у меня, лениться не даст мужикам. Умеет с ними обращаться, где таской, где лаской, а своего добьется.
Чтобы как-то отвлечь фельдмаршала от грустных мыслей, князь Репнин спросил:
– Как прошли торжества по вступлению в столицу полтавских победителей?
– О-о! – сразу посветлел лицом Борис Петрович. – Это надо было видеть, князь. Правда, армию нашу представляли в основном гвардейцы – семеновцы и преображенцы. Но зато шведские пленные были все высоких чинов – первый министр, фельдмаршал, генералы. Насмотрелись на них москвичи, нарадовались, насмеялись вдоволь.
– Насмеялись? С чего бы?
– Да государь что удумал! Раз короля не пленили, он поручил изображать его какому-то сумасшедшему французу, Вимени кажется. Тот ехал на оленях, одетый в оленьи же шкуры, и орал: «Я воеваль Москву!» Чем и веселил москвичей изрядно. Ну а на следующий день мы все, в том числе и государь, докладывали о победе князю-кесарю.
– Ромодановскому?
– Ему самому.
– Он хоть тверезый был?
– Какой там. Как обычно, с ранья заряженный. Ну а после докладов, как водится, война с Ивашкой Хмельницким. На Красной площади и народ поили от души. Государь не велел скупиться. А что было ракет пущено! Страсть! Всю ночь палили бесперечь. У меня во дворе едва конюшню не сожгли. А на следующий день по улицам сани ездили, подбирали питухов, замерзших спьяну. На дворе, чай, не лето, декабрь лютовал.
– Наши питухи не в пример немцам. На дармовщину в усмерть налакиваются.
Предчувствие не обмануло фельдмаршала, дней через десять после него прискакал из Москвы полковник Михаил Шереметев. Радость от встречи с сыном омрачена была письмом, привезенным Михаилом Борисовичем, в котором разгневанный царь недвусмысленно спрашивал: «Ответствуйте, сударь, когда вы изволили правду сказать – тогда или ныне?»
Что уж греха таить – перетрусил фельдмаршал. На бою воя ядер не робел, свиста пуль не боялся, а тут едва не сомлел, прочтя царское послание. Спросил сына вдруг пресекшимся голосом:
– Отвечать велено, Миша, али нет?
– Велено, батюшка. Завтрева в обрат поскачу, твой ответ повезу.
«Все. Отдаст под суд, – подумал фельдмаршал. – Такого не простит государь. Репнина вон за конфузию малую едва живота не лишили. А у меня армия, считай, без провианту осталась. Ох-ох-ох…»
Для письма государю Борис Петрович ночь выбрал, когда все угомонились, одни караулы бдели. Михаил уснул в отцовском шатре, храпел вперегонки с денщиком Гаврилой. Фельдмаршал сидел за шатким походным столиком на скрипучем стуле. В бронзовом шандале горели три свечи. Перед ним был чистый лист бумаги, свежеотточенное перо и чернила.
Еще днем в суете разных дел обдумывал, как оправдаться перед царем. Можно было свалить все на генерал-квартирмейстера Апухтина, он же, сукин сын, успокаивал командующего: «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, на время осады достанет провианту».
Но царю-то не Апухтин докладывал – Шереметев. С него и спрос. И вообще, валить на подчиненного – последнее дело. Да и кто думал, что осада на полгода затянется. Еще в прошлом году в октябре обложили Ригу, на предложение фельдмаршала коменданту сдать город миром, без кровопролития, тот ответил отказом.
Шереметев вспомнил, как в ноябре под Ригу прибыл царь, веселый, радостный. Поделился с фельдмаршалом:
– Все прекрасно, Борис Петрович, антишведский союз восстановлен. С нами теперь, помимо Саксонии и Польши, Дания с Пруссией.
– Ну что ж, дай Бог. Думаю, их всех Полтава подвигла к союзу.
– Конечно, конечно. Вся Европа рты поразинула от удивления. Они же все как кролики тряслись перед Карлусом, боялись его как огня. Нам уже отходную пели. Ан не вышло!
Царь объехал Ригу в сопровождении фельдмаршала.
– Да, крепость изрядная. Но штурмовать не велю, дабы людей зря не тратить. Возьмем измором.
– Значит, осада, государь?
– Да. Осада. Спешить нам сейчас некуда.
– На носу зима, ваше величество. Им-то там по теплым хатам жить можно. А нам?
– Ну что ж, отводи корпус на зимние квартиры, оставь с Репниным тысяч семь и артиллерию. Пусть бомбит помаленьку. Неужто пушки не исправят своего дела?
На обеде с генералами царь шутил, смеялся, угощал вином, привезенным из-за границы {241} , все застолье. Вспоминал:
– Тринадцать лет тому назад, когда я ехал через Ригу с Великим посольством, меня под угрозой стрельбы не пустили к внутренней крепости, нанеся тем мне оскорбление и обиду. Ныне в отместку сему проклятому месту позвольте мне, господа, положить начало бомбардировке?
Кто ж мог не позволить Петру совершить сие действие? Генерал Чамберс, отвечавший за артиллерию, сказал:
– Это будет великой честью для нас, ваше величество, вы начнете – мы продолжим.
На следующий день царь прошел к гаубице {242} . Артиллеристу, вытянувшемуся перед ним в ожидании приказаний, молвил:
– Дай-ка мне, братец, протравник да и пороховницу. Я сам буду палить.
Тот подал царю большую иглу на длинном шнурке. Петр накинул шнур на шею, дабы протравник не затерялся и был все время под рукой. Перекинул через плечо ремень с пороховницей.
– Ящичный! – крикнул Петр. – Картуз!
«Ящичный», отвечавший за зарядный ящик, выхватил из него продолговатый холщовый мешочек, наполненный порохом, подал царю.
– Шуфлу! – скомандовал царь, и тут же в руках его оказалась деревянная лопаточка с длинной рукоятью. Возложив на нее картуз, Петр засунул заряд в дуло гаубицы. Сам схватил лежавший около колеса прибойник, забил до конца картуз. – Ядро!
Ящичный подал царю ядро. Он вкатил его в дуло гаубицы.
– Пыж!
Засунув лыковый пыж в дуло, забил его потуже прибойником. Затем, подойдя к казенной части, поймал, не глядя, болтавшийся на шнурке у живота протравник и через запальное отверстие проткнул картуз, находящийся в гаубице. Потом отвернул у пороховницы пробку, сыпанул в запальник пороху до самого верха.
– Пальник! – отступив от гаубицы, молвил Петр, подняв правую руку, в которую тут же бомбардир вложил длинное копье, на конце его дымился фитиль, завитой вкруг древка. – Ну, с Богом! – сказал Петр и поднес дымящийся фитиль к запальнику.
Гаубица рявкнула, подпрыгнув и сразу окутавшись дымом. Еще и дым не рассеялся, а Петр уже шуровал в стволе банником, находившимся на другом конце древка прибойника.
И опять короткие команды ящичному: «Картуз!», «Ядро!», «Пыж!», «Пальник!».
Но, заряжая в третий раз гаубицу, Петр вместо ядра потребовал:
– Брандкугель!
– Есть брандкугель, – весело отвечал ящичный, откидывая уже приготовленное ядро и беря в руки зажигательный снаряд.
Сделав третий выстрел, Петр снял с себя гайтан {243} с протравником, передал артиллеристу вместе с пороховницей, подмигнул бомбардиру:
– Вот так держать! – Но, подойдя к Шереметеву, напомнил фельдмаршалу: – В осаде все ж лепш поберечь порох, более беспокоя, не давая противнику забывать о нас. И хорошо бы прицельно бить. Пошли лазутчика в город, пусть узнает, где у них пороховой погреб, по нему и попробуйте бить брандкугелями. Если удастся его взорвать, то без пороха они долго не продержатся.
На следующий день, отъезжая, царь сказал Шереметеву:
– Устроишь корпус на зимние квартиры, изволь к концу декабря быть на Москве, будем триумфовать нашу победу и докладывать князь-кесарю.
И там, в Москве, после торжеств и доклада князь-кесарю, уже во время «сражения с Ивашкой Хмельницким», Борис Петрович и попросил у захмелевшего царя:
– Петр Алексеевич, раз уж я на Москве, дай мне с месяц-другой отпуск. Кажись, сто лет не был в своих вотчинах.
– Как с провиантом в армии? – спросил Петр.
– До июня хватит.
– Ну коли так, ступай в отпуск. Заслужил, герой.
Вспоминая об этом над чистым листом бумаги, казнился Борис Петрович, корил сам себя: «Ну кто тебя за язык тянул, старого дурака: «До июня хватит». Сказал бы: пока, мол, не голодуем». А теперь как оправдаться? И оправдаешься ли?
«Надо виниться», – решил Борис Петрович и умакнул перо в чернильницу:
«Премилостивый великий государь…» – написал и опять задумался, глядя на огонек свечи. И вдруг осенило: «Надо проситься в отставку. В самом деле, сколько ж можно? Под шестьдесят подкатывает, пора на покой».
Продолжил: «…кругом я виноват пред тобой, государь, умишком под старость поистратился, наворотил тебе, что не скисло. Видно, укатали сивку крутые горки. Поимей милость, государь, сыми меня, отринь от должности, отпусти доживать век на покое. А уж я за тебя молиться буду. Не тяну я ныне воз, не тяну. Прости. Твой раб Бориска Шереметев».
И ведь знал фельдмаршал, что «рабами» давно запретил царь обзываться своим подданным, а вписал-таки «твой раб», намекая этим царю на свой преклонный возраст, мол, так привык смолоду, а молодость моя, мол, эвон где, когда тебя и на свете-то не было.
На следующий день отправил Шереметев сына назад в Москву со своей повинной грамотой.
– Если государь обо мне спросит, Миша, скажи, мол, он в великом расстройстве от случившегося, и что фуражиров во все концы шлет. Ох, горе мне, сынок. Но ты езжай спокойно, обо мне не печалуйся. С Богом!
Все дни после отъезда сына жил Борис Петрович как на иголках в ожидании царского решения, ничего хорошего ему не сулившего.
Однако не забывал слать фуражиров во все концы – на Псковщину, в Польшу, наделяя не только деньгами для закупок продовольствия, но и чрезвычайными полномочиями изымать припрятанное без оплаты.
Солдат должен есть то, что ему положено: два фунта ржаного хлеба в день отдай ему, не греши, примерно столько же и мяса, да по чарке вина утром и вечером. Только круп гречневой или овсяной на каждого записать положено по 10 пудов на год, соли надо 24 фунта. А под командой фельдмаршала 40 тысяч ртов! Только круп гору надо, про муку и вспоминать страшно – 21 пуд в год муки на рыло. И хотя об этом должна болеть голова у генерал-провиантмейстера, государь все равно с фельдмаршала спрашивает, его подгоняет: «Озаботьтесь провиантом на три (четыре, пять) месяца».
Во второй половине апреля в окружении сонмища адъютантов, денщиков и телохранителей появился в лагере светлейший князь Александр Данилович Меншиков.
При виде его екнуло сердце у Бориса Петровича, понял он, что замена ему припожаловала. Светлейший-то после Полтавы тоже генерал-фельдмаршалом стал. Оно бы радоваться Шереметеву (сам ведь на покой просился), а у него на душе, наоборот, заскребла тоска-кручинушка. Кого, кого отставка радовала?
Новый фельдмаршал высокий, стройный, одет с иголочки, с сияющей кавалерией, словно не на войну – на бал собрался. Подошел.
– Здравствуй, дорогой Борис Петрович! – Обнял Шереметева, ткнулся чисто выбритым подбородком в щеку, кольнул тонким усом а-ля Петр, обдав духами французскими. Отстранившись, прищурился хитро: – Ай не рад мне? А?
– Что ты, что ты, Александр Данилович, – забормотал смущенно Борис Петрович. – Как же благодетелю своему не радоваться.
– А я, брат, вместе с Дарьей Михайловной к тебе. Все боится, чтоб в меня шальная пуля не попала, – шутил улыбаясь светлейший. – Женщины, что поделаешь. Верят, что при них ничего плохого не случится.
Слушая полушутливую болтовню Меншикова, Шереметев морщился: «И чего тянет? Говорил бы, с чем пожаловал? Впрочем, может, принародно не хочет конфузить. Надо его в шатер увести. Мне тоже сей срам ни к чему».
– Пожалуйте сюда, светлейший князь, – откинул полог входа у шатра Борис Петрович.
Пригнувшись, Меншиков шагнул в шатер, слегка зацепив верх входа бахромой двухцветного плюмажа {244} своей треуголки. И здесь, когда они остались вдвоем, светлейший извлек из-за обшлага пакет:
– Это тебе письмо государя, Борис Петрович.
«Вот и все», – подумал Шереметев, дрожащими руками вскрывая пакет. Он уже почти точно знал, что в пакете – отставка и, возможно, даже наказание.
«Борис Петрович! Много толковать о прошлом не будем. Что было, то быльем поросло. Слушай вот что…»
Шереметев почувствовал, как ему перехватило горло, глаза слезми затуманились, столь неожиданным оказалось царское послание: его не наказывают и даже велят не поминать о проступке.
– Господи… Господи… – забормотал он растроганно.
– Что с тобой, Борис Петрович?
– Да что-то в глаз попало, букв не зрю. Прочти, Александр Данилович.
– Да что там читать? Государь меня послал вместо себя, и тебе надлежит меня слушать, как самого государя.
Меншиков даже не взял протянутую ему бумагу, и Борис Петрович, вдруг смутившись, вспомнил, что светлейший неграмотен. В письме едва одолел собственную фамилию подписывать. И все.
– Ох, прости, Александр Данилович. Я счас, я счас.
Шереметев достал платок, отер глаза, высморкался и наконец дочитал грамоту. В ней именно то и говорилось, что веление светлейшего – есть веление государя. Ну что ж, все не сержант Щепотьев, а ровня – фельдмаршал. На сердце графа сразу полегчало, отставку, слава Богу, не дали. Еще повоюем.
– Я слушаю, Александр Данилович.
– Сейчас едем на рекогносцировку. Хочу знать, отчего эта девица Рига столь неуступчива. Нотебург в неделю одолели, а тут…
– Там был штурм, а здесь государь не велел людей тратить, велел осадой задушить их, выморить.
– Все правильно. Тогда спешить надо было, дабы сикурс короля упредить. А ныне Карл разбит, без армии на турецких хлебах пробавляется. Спешить вроде некуда, но поспешать надо.
Они выехали в сопровождении адъютантов светлейшего. Когда оказались у реки, Меншиков спросил:
– Почему реку не перегородили? По ней же к ним могут провиант подвозить.
– Да вроде не подвозят. Да и откуда ему взяться.
– Это днем, а ночью очень даже могут. Гляди, сколько мачт у них на причале… Гоп! – обернулся Меншиков к адъютантам.
– Я слушаю, ваше сиятельство.
– Посчитайте с Жуковым, сколько вымпелов стоит у причала {245} .
– Есть!
Адъютанты, привстав в стременах и вытягивая шеи, начали считать порознь: «Раз, два, три, четыре, пять… пятнадцатый, шестнадцатый… двадцать».
– Ну, сочли?
– Так точно, ваше сиятельство, двадцать пять, – браво доложил Гоп.
– А у тебя? – обернулся Меншиков к Жукову.
– У меня двадцать четыре, ваше сиятельство.
– Считалы… – укорил их светлейший, но, обернувшись к Шереметеву, заметил: – Надо реку запереть здесь, Борис Петрович. Вели саперам перегородить реку бревнами, соединив их цепями.
– Слушаюсь, Александр Данилович.
– А чтоб не вздумали разорвать сию преграду, поставь по берегам караулы с пушками.
– Рижане, судя по всему, ждут сикурс с Динамюнде, но я и эту крепость обложил – мышь не выскочит.
– А далеко отсюда Динамюнде?
– Да вниз к морю в четырнадцати верстах от Риги. Если сдастся Рига, и Динамюнде за ней воспоследует, не задержится. Там, наоборот, на Ригу надеются. Рига – на них, они – на Ригу.
Вечером Меншиков пригласил Шереметева в свой шатер. Княгиня Дарья Михайловна была любезна с графом, и видимо, ее присутствие сказалось – на столе светлейшего были такие домашние вкусности, о которых Шереметев давно позабыл: пироги, расстегаи с рыбой и конечно же вино рейнское. Они выпили, как и положено, за государя, потом за здоровье милой хозяйки.
Светлейший, заметив завистливое восхищение гостя всем этим – и столом, и вином, и хозяйкой, спросил при прощании:
– Кто здесь у Риги из генералов?
– Князь Репнин, Айгуст, Чириков, Генскин, Бем, Боур.
– Вели всем завтра быть у меня днем. Поговорить надо. Посоветоваться.
– Хорошо, Александр Данилович, сейчас же разошлю посыльных.
Нет, не «советоваться» хотел светлейший. В отличие от своего царственного товарища-комрада, он не нуждался в «советчиках». Просто ему хотелось потешить свое честолюбие, показать перед женушкой свою власть над генералами, а их – подчиненных – поразить щедростью и пышностью застолья, достойного нового фельдмаршала.
Назавтра съехавшиеся к шатру светлейшего князя генералы стояли кучкой, гадали меж собой: зачем званы?
– Наверное, от государя указ привез, – предположил Бем.
– Он сам сюда по указу прибыл, – сказал Чириков. – Его появление и есть указ. Наверняка начнет подгонять нас. Чего доброго, и на штурм решится.
– А мне посыльный сказал, советоваться хочет, – признался Боур.
– Все может быть, все может быть, – пробормотал Репнин, хмурясь. Он после кригсрехта, на котором председательствовал Меншиков, присудивший его к «отнятию живота» за головчинскую конфузию, недолюбливал выскочку. Недолюбливал и всегда опасался.
– А мне сдается, господа, – заметил Генскин, потягивая носом, – предстоит хорошая обжираловка, гляньте-ка, как денщики стараются.
И действительно, от поварни к шатру светлейшего словно угорелые носились слуги, таская что-то дымящееся, пахучее в горшках, судках.
– А я с утра не жрамши, – признался Бем.
– Вот и хорошо, – усмехнулся Чириков, – есть куда будет эти горшки опорожнять.
Подъехавший фельдмаршал Шереметев слез с коня, передал повод денщику и, махнув приветственно генералам, направился в шатер, на входе едва не столкнувшись со слугой князя.
– Ну, старик прибыл, – заметил Боур, – значит, скоро и нас позовут.
И оказался прав. Не прошло и минуты, как из шатра появился адъютант Меншикова и сказал почти торжественно:
– Господа генералы, их сиятельство фельдмаршал Александр Данилович Меншиков просит к столу вас.
Все невольно посмотрели на князя Репнина, как бы уступая ему, старшему, честь первым войти в шатер. Но тот отрицательно покачал головой: нет. Обратился к Боуру:
– Родион Христианович, вы…
Тот не стал чиниться, возглавил процессию. Репнин пропустил всех, вошел в шатер последним.
При входе генералы щелкали каблуками, звенели шпорами, прикладывали два пальца к полям треуголки, приветствуя фельдмаршалов.
Улыбающийся Меншиков сидел во главе длинного стола, сплошь уставленного закусками и винными бутылками. Был он при кавалерии, но без парика. Командовал:
– Гоп, прими у господ шляпы… и шпаги. Ныне сражение предстоит с другим врагом. Ха-ха. Прошу к столу, господа.
Когда генералы расселись, светлейший не счел нужным слугам и команду отдавать, лишь сверкнул выразительно очами. Они все поняли, стали гостям наполнять вином серебряные емкие чарки.
Светлейший взял свою и поднялся. За ним встали все.
– Предлагаю первую выпить во здравие нашего государя, господа.
Выпили. Сели. Не успели как следует закусить изобильной и лакомой закуской, от которой уж отвыкли, как вновь по знаку светлейшего забулькало вино, лиясь в чарки. Теперь ожидался тост за победу над супостатом.
– А второй, господа, предлагаю выпить за мою супругу княгиню Дарью Михайловну. Душа моя, выдь к нам, – молвил ласково светлейший.
И из-за шелковой занавески явилась смущенная, розовощекая молодая княгиня.
– Прошу, господа, любить и жаловать, – сказал светлейший, перекинув чарку в левую руку, а правой обнимая за плечи жену. – Это мое сокровище. Дарьюшка, пьем за тебя, возьми ж и ты чарку.
Княгиня взяла небольшую серебряную чарку, видимо приготовленную ей заранее. Одаривая все застолье улыбкой, пригубила кубок, поставила на стол.
Меншиков видел, сколь поразило генералов появление его жены перед ними, и это было весьма приятно князю. Даже то, что некоторые, увидев княгиню, стали поправлять на себе одежду, парики, подкручивать омоченные в вине усы, тешило самолюбие Александра Даниловича. А как же? Он здесь сегодня над ними почти что царь. Значит, Дарьюшка почти царевна. Пусть видят, пусть завидуют.
Но, видимо, неловкость своего присутствия в мужской компании княгиня чувствовала лучше мужа. Шепнула ему:
– Сашенька, я уйду.
– Иди, милая, иди, родная, – разрешил он. – Сражения с Ивашкой Хмельницким не твоя стезя.
Княгиня исчезла за занавеской так же неожиданно, как и появилась.
Третий тост, естественно, был за победу, при этом светлейший не преминул выразить легкий упрек:
– Что-то вы, братцы, долго вожжаетесь с Ригой.
На что опьяневший Генскин польстил неуклюже:
– С вами, ваше сиятельство, мы ее в два счета раздолбаем!
Шереметев, сидевший о левую руку от светлейшего и дотоле молчавший, от фразы Генскина заворочался, закряхтел, как от зубной боли: «Вот еще «долбатель» выискался». Но, взглянув на Меншикова, понял, что тому лесть пришлась по душе.
Еще бы, за занавеской жена, пусть слушает, каков ее «Сашенька». Светлейший, ни в чем не знавший меры, тем более в пьяном состоянии, после пятой чарки обратил наконец внимание на князя Репнина:
– Аникита Иванович, а ты пошто сел на самом краю? А? Твое место здесь вот, рядом. А ты? Али не уважаешь меня?
– Что вы, ваше сиятельство… – промямлил уже опьяневший Репнин. – Как можно? Вы же здесь выше нас… выше нас всех.
Пьян, пьян был Меншиков, но в последней фразе почуял что-то не то, почти издевку.
– Как так я? А Борис Петрович? Он же тоже фельдмаршал.
– Но Борис Петрович, он наш… А вы…
Репнин споткнулся, что сболтнул лишнее, и, потянувшись за квашеной капустой, взял ее прямо пальцами, сунул в рот, стал жевать с хрустом.
Однако светлейшего заело:
– А я? Что я? Не наш, что ли? Генерал Репнин, я-то чей?
– Вы, ваше сиятельство, правая рука государя, – нашелся наконец Аникита Иванович.
– Раз я правая рука государя, стал быть, вы все обязаны беспрекословно исполнять мои веления.
– Так точно, ваше сиятельство, – согласился Репнин с облегчением, что умело вывернулся из неловкого положения.
– В таком случае, князь Репнин, – прищурился Меншиков, – извольте взять драгунский барабан, вон он в углу. Гоп, подай.
Адъютант схватил барабан, помог Репнину перекинуть через плечо широкий ремень, подал палочки.
– «Алярм» можете играть? – спросил Меншиков.
– Могу, – отвечал, бледнея, Репнин.
– Покажите.
Репнин пробил негромко «тревогу».
– Отлично. А теперь ступайте на улицу, князь, и бейте «алярм» во весь дух, а я посмотрю, как ваши солдаты исполнят ваш приказ.
Шереметев встревожился:
– Александр Данилович, зачем это? Мы все пьяные… Солдаты увидят… Зачем ронять себя? Мало солдату делов?
Но уговоры Шереметева только подхлестнули светлейшего.
– Генерал Репнин, – повысил он голос, – исполняйте приказание.
Репнин вышел, и вскоре на воле громко ударила дробь барабана, ясно выговаривая: тр-ревога, тр-ревога, тр-ревога! Послышался топот сотен ног, донеслась команда: «Стр-ройся в три шеренги! Смирна-а!»
Потом тревожная тишина, и громкий голос командира:
– Господин генерал…
Его тут же перебил голос Репнина:
– К светлейшему, полковник.
– Вот сукин сын, – проворчал Меншиков и стал вылезать со своего места.
Встретил полковника у входа в шатер. Тот, козырнув, доложил о построении.
– Молодцы! – похвалил Меншиков. – А теперь пусть твой полк пройдет строем и споет.
– Слушаюсь, ваше сиятельство.
В шатре хорошо слышалось, что происходит на улице. Полковник командовал подчеркнуто громко и четко: «Н-н-напра-во! Шш-шагом марш! 3-запевай!»
И звонкий высокий голос запел:
Во славном городе во Орешке,
По нынешнему званью Шлюпенбурхе,
Пролегала тут широка дорожка.
И хор подхватил с присвистом:
Эх, широ… эх, широкая дорожка.
Запевала вел дальше:
Как по той по широкой дорожке
Идет тут большой царев боярин,
Князь Борис тут Петрович Шереметев.
И хор подхватывает:
Князь Борис… князь Борис тут Петрович Шереметев.
Меншиков покосился на Бориса Петровича, молвил полушутливо:
– Гля, Борис Петрович, уж и в князья тебя пожаловали.
– Что с них взять, Александр Данилович, на кажин роток не накинешь платок, – отвечал смущенно граф.
В шатер вошел Репнин, скинув с плеча барабан, отдал его адъютанту Гопу. Вытянувшись, спросил светлейшего:
– Разрешите убыть, ваше сиятельство?
– Нет, нет, князь. Садись, не увиливай. Кстати, а где Чириков?
– Его стошнило, он выбежал, – доложил Гоп.
– Ха, слабак. Чего стоите? – зыркнул светлейший на слуг, стоявших за спинами гостей. – Наливайте.
А уж издали неслось по окрестности:
Со темя он со пехотными полками,
Со конницею и со драгунами,
Со удалыми донскими казаками…
Вряд ли светлейшему была в радость эта песня, пели-то не про него, но он старался не подавать вида:
– Предлагаю тост за героя солдатской песни графа и фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, – молвил Меншиков с нарочитой веселостью.
Все это чувствовали. Пили. Ели. Но уж веселость не возвращалась в застолье.
Генералы обиделись, оскорбились за своего боевого товарища.
Шереметева подняли среди ночи, будил генерал-адъютант:
– Борис Петрович, беда.
– Что? – всполохнулся фельдмаршал, только что задремавший.
– Полковник Игнатьев с лекарем.
Денщик вздувал огонь, зажигал свечи. Лица полковника и лекаря полкового были испуганны.
– Борис Петрович, моровая язва в полку.
– Вы что, братцы, очумели?! С чего вдруг?
– Счас сразу померло десять человек, и еще десятка два, не менее, заболели. Не знаем, доживут ли до утра.
– Ты куда смотрел? – напустился фельдмаршал на лекаря. – Откуда она взялась?
– Не ведаю, ваше сиятельство. Возможно, из Курляндии завезли.
– Когда? Кто?
– День-два тому фуражиры привезли провиант, может, они.
– Надо немедленно изолировать больных. Фуражиров найти. Петр, – обернулся к адъютанту, – немедля разошли по полкам рассыльных, всех лекарей ко мне. Сей же час чтоб. Не тянули б до свету. И командиров тож.
Через час у фельдмаршала были командиры дивизий и бригад и группа лекарей. Денщик возжег с десяток свечей.
– Господа, – начал фельдмаршал, – в армию явилась чума, посему немедленно удалить всех гражданских, выставить на всех дорогах заставы. Учинить по лагерю можжевеловые костры. Без дела по лагерю не ходить, не передвигаться. Может, удастся обмануть ее, пока она только в полку Игнатьева.
– И у нас тоже, ваше сиятельство, – вздохнул один из лекарей.
– Это у кого?
– В рожновском полку.
– Ах, черт, – крякнул Шереметев, – поползла уж. Рожнов?
– Я слушаю, Борис Петрович.
– Немедленно составь похоронную команду, не менее полуроты, рыть могилы и сразу же зарывать умерших. Самим чтоб беречься, вели обвязывать лица до глаз, дышали чтоб через тряпки, смоченные уксусом. Работать всем в рукавицах, а вечером не тащить их в шатры, а сжигать в костре. Утром выдавать новые. У каждого шатра чтоб не менее двух можжевеловых дымков курилось. Лекарям следить за всем этим, командовать. Кто ныне ослушается лекаря, хотя бы и генерал, понесет наказание. Все.
Отпустив всех, Шереметев направился к шатру светлейшего, тот встретил его одетым.
– Я уже знаю, Борис Петрович.
– Надо немедленно уезжать Дарье Михайловне, Александр Данилович. Немедленно. Я распорядился, чтоб сегодня же гражданских не было в армии.
– А если они понесут заразу далее?
– Умирают солдаты, ваше сиятельство. Так что пока гражданские не опасны. Их, кстати, не так уж и много. Одна из них – ваша супруга.
– Хм, задачка, – поморщился Меншиков.
– А что? В чем дело, Александр Данилович?
– Если моя жена узнает, что здесь чума, да я остаюсь, она ведь не уедет. Вы же знаете ее.
– В таком случае уезжайте вместе с ней.
– Но как это воспримется офицерами?
– Александр Данилович, вы приезжали нас инспектировать. Две недели пробыли здесь. Дали ценные распоряжения. По вашему приказу перекрыта река. И довольно. Должен же кто-то доложить государю.
– Но блокаду не сымать.
– Не беспокойтесь. Пока я жив, не двинемся и на дюйм.
Уже к обеду светлейший убрался со всей своей обслугой и охраной.
Через несколько дней чума разгулялась в русской армии, хоронили уже не десятками – сотнями. Похоронные команды были уже в каждом полку.
Артиллеристам удалось нащупать пороховой склад в Риге и взорвать его. Взрыв был столь силен, что, казалось, поднял в воздух полгорода.