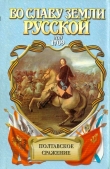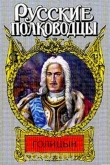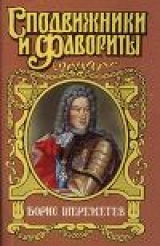
Текст книги "Фельдмаршал Борис Шереметев"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц)
Глава двенадцатая
АСТРАХАНСКОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ
Корпус Шереметева, несколько оправившись от конфузии под Мур-мызой, был направлен царем под Ригу с четким заданием: не дать выйти оттуда Левенгаупту на помощь Митаве.
А столицу Курляндии, Митаву, отправился доставать сам царь. На это было потрачено три недели. 4 сентября была взята после штурма Митава, а через девять дней пал Бауск.
Петр, как обычно, закатил для победителей пир с салютами и фейерверком, однако в самый разгар торжеств пришло тревожное сообщение: «Начался бунт в Астрахани» {183} .
Петр, прочтя сообщение, нахмурился, взглянул на Меншикова вопросительно: «Кого?»
Тот и в этом кратком вопросе понял, о чем спрашивает повелитель:
– Думаю, Бориса Петровича, мин херц.
– Почему его, думаешь?
– Он популярен, осторожен, рассудителен. И к тому же наш, русак.
– Пошли поспешного гонца за ним. Пусть передаст командование Боуру, а с собой возьмет два лучших эскадрона драгун и батальон пехоты. И правится сюда, в Митаву.
На вторые сутки фельдмаршал прибыл к царю.
– Проходи, Борис Петрович, тут осталась рыба жареная, перекуси с дороги.
Шереметев счел неудобным отказываться от царского угощения, сел на стул и принялся за рыбу, уже остывшую.
– Ну как там Левенгаупт? – спросил Петр.
– Сидит в Риге, укрепляется.
– Родиону Христиановичу передал команду?
– Да. Ему.
– Кого из командиров с собой взял?
– Мишку, сына. И Арсеньева Василия.
– Дело такое, Борис Петрович: Астрахань взбунтовалась. Мы с Данилычем посоветовались: кого послать? Кроме тебя, некого. Чужих ведь иностранцев не пошлешь. А тебя там знают. А кроме того, тебе надо через Казань итить. Там башкирцы как бы не возмутились, воеводы сполох бьют. Башкирские полки у тебя служили, ты знаешь с ними обращение, язык их ведаешь. Постарайся миром все уладить. Ну а после иди к Астрахани.
– С двумя-то эскадронами, государь?
– Дам один полк из Смоленска, один в Москве возьмешь, и из Петербурга от Апраксина велю один выделить. Трех полков тебе достанет на бунтовщиков. Старайся уговорить рядовых отстать от воровства. Когда умиришь, заводчиков бери за караул и отправляй в Москву, в Преображенский приказ, к князю Ромодановскому. Сволочь, кроме жесточи, ничего не понимает.
– Ну что ж, государь… – вздохнул Шереметев, выплевывая рыбные кости. – Честно сказать, не хотелось бы мне с театра войны съезжать. Но коли велишь, повинуюсь.
– Велю, велю, Борис Петрович. Больше некому. Сейчас письмо напишу в Москву Ромодановскому, чтоб удовольствовал тебя людьми и помог в Казань отчалить.
Царь, как всегда, торопил, но не всегда по его получалось. Шереметев прибыл в Москву с драгунами лишь 20 октября, а там еще ни Смоленского, ни Петербургского полков не было. Они еще на пути к Москве были.
Борис Петрович даже был рад сей нечаянной задержке. Наконец-то он мог спокойно пожить в своем новом московском доме, поспать на чистых простынях в тепле и сухости, поесть, попить вдоволь домашнего. И первое, что они сделали с сыном – это отправились в баню вместе с денщиками, где Гаврила и Авдей славно «отходили» господ березовыми вениками.
Сидя в предбаннике с сыном, попивали квасок, наслаждались тишиной и покоем.
– И помирать не надо, – говорил фельдмаршал.
На записку Меншикова, торопившего фельдмаршала с отъездом, Шереметев отвечал с большим резоном: «Путь столь зол, ни саньми, ни телегами итить нельзя».
И то правда, начались осенние холодные дожди, дороги развезло. Добрый хозяин в такую пору собаку со двора не выгонит, а тут едва не в шею толкают: выезжай. А чего уж теперь спешить-то? Зима на носу, а там встанет Волга. Ясно, что уж ныне в Астрахань не попасть.
И едва во второй половине ноября пал снег, как князь Ромодановский велел:
– Борис Петрович, отъезжай. В Казани с башкирами разберись, бунтовать зачинают.
От Москвы до Казани добирался фельдмаршал с полками едва ль не месяц, правда с задержкой в Нижнем Новгороде.
Казанский воевода Кудрявцев встретил фельдмаршала настороженно (где, когда, кому нравились столичные гости, да еще и в таком чине?).
– Что тут у вас творится, Никита Алферьевич? – спросил Шереметев, сбросив шубу на руку подоспевшему лакею.
– А что? Ничего особенного.
– Как «ничего особенного»? Князь Ромодановский сказывал, башкирцы бунтуют.
– Есть маленько. Но я их живо заарестовал – и в тюрьму. Вшей покормят, поумнеют.
– Ну что ж, с вашего позволения, я должен посмотреть их.
– Кого?
– Не вшей, разумеется, – заарестованных башкир.
– Зачем это вам?
– Государь велел разобраться с имя.
– Ну, если государь…
В те дни, пока фельдмаршал неспешно двигался к Казани, в Преображенский приказ были доставлены с Дона «воры» астраханские во главе с конным стрельцом Иваном Кисельниковым. Повязаны они были донской старшиной {184} , так как «подбивали казаков к возмущению», и присланы к князю Ромодановскому «для розыску». У Федора Юрьевича разговор с ворами был короток – дыба, кнут, огонь. Но, видно, родился Кисельников со товарищи под счастливой звездой, опередило их письмо царя к Ромодановскому: «Как воров с Дону, которые бунтовались в Астрахани, привезут к Москве, изволь тотчас послать их за крепким караулом сюды».
А «сюды» – это не близко. Гродно.
В пути Кисельников седеть начал. Знал твердо, что его ждет. Помнил, хорошо помнил девяносто девятый год, когда сотнями отлетали стрелецкие головы на Москве, по многу месяцев качались в петлях зачугуневшие на морозе тела таких, как он. Царь – зверь, пощады не жди.
– Иван, – тихо шептал спутник Спирька, – ты совсем сивый стал.
– Погоди, брат, и ты засивеешь, как его узришь.
Когда ввели Кисельникова к царю, задрожал он от страха, увидев темные пронзительные глаза Петра и в них смерть свою, пал на колени, стукнулся лбом об пол:
– Прости, государь, – прошептал, обливаясь обильно хлынувшими слезами.
И не поверил ушам, когда услышал спокойный, почти доброжелательный голос царя:
– Встань, Кисельников.
Поднялся на ватные, дрожащие ноги, отирая ладонью мокрые щеки, слезы, стоявшие в глазах, размывали лицо царя.
– Как звать тебя?
– Иван.
– А по батюшке?
– Г-григорьевич, г-государь, – пролепетал Кисельников, со страху едва вспомнив имя отца.
– Что ж это ты, Иван Григорьевич, мне в спину нож всаживаешь? А?
– Что ты, государь, – замахай испуганно руками Кисельников. – Такого и в мыслях отродясь… Христос с тобой.
– Ну как же, Иван, рассуди сам. Я воюю со шведом, держава изо всех сил тужится, а вы, астраханцы, мне в спину удар наносите. Это как?
Молчал Кисельников, чувствуя какую-то правду царя. «Все, спекся я», – подумал как о постороннем.
– Ты сядь, Иван. Что стоишь как перед дыбой?
«Дыбу вспомнил. Ясно, к чему готовит».
– Прости, государь, разве о том думалось.
– Садись, садись, сказал.
Царь сидел за столом, обочь его сидел Шафиров с бумагами, чернильницей и перьями. Когда наконец Кисельников сел на краешек стула у стены, царь спросил:
– Расскажи, как это случилось? Из-за чего? Ведь вы ж воеводу Ржевского убили. Так?
– Так, государь.
– За што? Все, все рассказывай, ничего не таи, Иван Григорьевич. Кто ж мне правду поведает кроме вас, самовидцев?
– Всю правду, государь?
– Да, всю правду, Кисельников.
– Оно, вишь, какое дело, государь. Твой воевода Тимофей Ржевский вел себя аки волк в стаде овец, – начиная смелеть, молвил Кисельников и помедлил, ожидая окрика, но царь лишь кивнул: «Ну, ну». – Всю торговлю в городе к рукам прибрал, всех налогом обложил. Да каким! Ино наторгуешь на гривенник, а налогу два требует. Пока хлеб сверху везут – в амбары прячет, а встанет река – втридорога продает. А полковники, на воеводу глядя, с нас драть последнее почали, мол, опальные – не пожалятся. До тебя-то эвон-как до неба. А в этом годе жалованье почти вполовину урезали. На что жить? Индо рот раззявь – до полусмерти забьют. Ну а тут как твой указ пришел, прости, государь, совсем озверели офицеры.
– Какой указ?
– Ну, бороды брить, и чтоб платье немецкое носить. Так что стало-то! Офицеры начали имать бородатых на улицах и, поваля наземь, отрезать бороды ножницами, иной раз прямо с кожей.
– Вот балбесы, – дернул царь щекой. – Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Неужто от этого пошло?
– От этого и полыхнуло, государь. У терпенья-то ведь тоже край есть. А как почалось, так все припомнили.
– М-да! – Царь взглянул на Шафирова. – Что скажешь, Петр Павлович?
– Худо, Петр Алексеевич.
– Вот так. У нас и добрый указ в дерьме уваляют. Послушай, Иван, если я с тобой простительную грамоту пошлю астраханцам, отстанут они от воровства?
– Государь! – вскочил Кисельников, поняв, что царь клонит к прощению блудных детей. – Да за это… да я…
И опять хлынули у мужика нечаянные слезы, теперь уже от счастья.
Возвращался Кисельников с сотоварищи на двух санях. Всех их царь одарил новыми полушубками, валенками, шапками, чтоб не померзли в пути. Сопровождали их те же драгуны, что и из Москвы доставляли. Но теперь уж не воров везли, а царских посланцев с грамотой простительной. И на Кисельникова смотрели вполне доброжелательно. Еще бы, за пазухой у него грамота царя.
Спирька, сдвигая на затылок наползающую на глаза казачью лохматую шапку, приставал к Кисельникову:
– Иван Григорьевич, дорогой, расскажи еще, как ты с царем гутарил.
И Кисельников, помолчав со значением, начинал:
– Захожу я к нему, стал быть, братишки, а он мне и грит: садись, грит, Иван Григорьевич, да, да, по отчеству и назвал, потолкуем, грит, за возмущение…
И чем далее продолжал рассказывать стрелец, тем более разволновывался, и являлись в его глазах слезы. И кончал он уже, задыхаясь от сдерживаемых рыданий:
– Да за такого царя, как наш… да за Петра Лексеича… я кому хошь башку сверну…
И все невольно проникались его волнением, его чувствами: «Да, это царь так царь, все по правде решил, по справедливости». Словно и не они вовсе с месяц тому назад пытались поднять Дон против этого самого царя.
Тюремщик подвел Шереметева к тяжелой двери темницы, сказал подобострастно:
– Вот здесь они, эти возмутители ясачные {185} , ваше высокопревосходительство. Может, выхватить кого из них?
– Нет, нет. Я же сказал, сам зайду к ним. Открывай.
– Ну, глядите, – загремел тюремщик ключами.
С визгом словно поросячьим отворилась дверь, невольно напомнив Борису Петровичу его польское заточение. В камере было почти темно, через верхнее волоковое оконце {186} , затянутое паутиной, едва-едва брезжил дневной свет.
Шереметев обернулся к адъютанту:
– Петр, вели принести свечей.
Савелов толкнул тюремщика в плечо:
– Ты оглох? Живо свечей фельдмаршалу.
– Счас, счас, – забормотал тот и, брякая ключами, побежал.
– Да табурет не забудь, скотина! – успел крикнуть вдогон Савелов.
Шереметев шагнул в камеру и, постепенно привыкая к полумраку, начал различать головы людей, сидевших вдоль стен на затхлой гнилой соломе. Вот один у самого окна, привстав, сказал полувопросительно:
– Борис Петрович, вы?
– Да, я, – удивился Шереметев. – А ты кто? Откуда меня знаешь?
– Я Бигинеев. Помните? Шведского языка приволок под…
– Усей, что ли?
– Точно, Борис Петрович. Усей Бигинеев.
– Так почему ты здесь? За что?
– За то, что и остальные, Борис Петрович. Вот и Уразай тоже в нашем полку воевал, два знамя шведских захватил. Домой по ранению воротился, а тут такой ясак востребовали…
– Кто?
– Вараксин Степан. Прибыльщик. Ну, мы к воеводе с жалобой, а он нас сюда на солому. Возмутители, говорит, бунтовщики. А у нас ведь семьи, дети, кто их кормить станет?
– Челобитную писал?
– Какой там. Мы ж неграмотные. А и напишешь, так как в Москву везти? На дороге встретят, изобьют, отымут.
– Кто?
– Воеводские люди. С ними шутки плохи.
– Так… – Наморщился Шереметев, задумался, потом спросил: – Ты Арсеньева Василия знал, Усей?
– Вроде бы знал. Он из чьего полка?
– Боурского.
– Слышал.
– Так вот, я отпущу тебя и Уразая, и вы с Арсеньевым поедете в ваши села и успокоите народ.
– Почему только нас отпускаешь, Борис Петрович? Перед другими нас осрамить хочешь?
– Ты что мелешь, Усей? Я вас с Уразаем знаю, вы у меня воевали, хорошо воевали. А других я не знаю.
– Зато мы их знаем, Борис Петрович. Они так же, как и мы, невинны. Так что не пойдем мы с Уразаем на волю. Не пойдем.
– Как так? – начал сердиться Шереметев. – Как так не пойдете? Уразай, и ты не пойдешь?
– Прости, боярин, не пойду.
– Но почему?
– Как я их женам в глаза смотреть буду? Они спросят, почему тебя отпустили, а моего нет? Что я отвечу?
Явился тюремщик, принес свечу и табуретку и так и замер в дверях, потому как фельдмаршал говорил узникам:
– Я отпускаю вас всех властью, данной мне государем, идите в ваши села и старайтесь утишить волнения народа своего. У нас ныне один враг – Швеция, для победы над ней и вы здесь должны постараться. Усей, неужели ты не понимаешь этого?
– Понимаю, Борис Петрович.
– Петр, – обернулся Шереметев к адъютанту, – отведи их к моему секретарю Висту, пусть он поможет им написать челобитную.
– Хорошо, Борис Петрович.
– В челобитной, Усей, не забудь написать о своем участии в боях, о своем ранении.
– И об Уразае можно?
– Напиши и об Уразае.
В тот же день воевода Кудрявцев появился у Шереметева.
– Борис Петрович, что вы наделали?
– Что я наделал?
– Вы отпустили смутьянов и возмутителей, вы потакаете ворам.
– Никита Алферьевич, я исполняю волю государя, – не дать разгореться еще одному пожару.
– Но именно они являются подстрекателями, Борис Петрович. Из-за этого я и засадил их в тюрьму. Они бунтовщики.
– И Усей с Уразаем?
– Какие еще Усей с Уразаем? Я не знаю, кто там Усей и Уразай, они все одним миром мазаны.
– А я вот их знаю. Они воевали в моей армии, и воевали неплохо, доставали мне «языков», захватывали пушки, знамена противника. Отпущены по ранению, а вы их в тюрьму. Нехорошо, Никита Алферьевич, нехорошо. Этим вы сами подвигаете башкир к бунту. Вы! Неужели непонятно?
– Извините, господин фельдмаршал, но я буду вынужден написать об этом самоуправстве государю.
– Пожалуйста, Никита Алферьевич, разве я возражаю. Но я повторяю, государь велел, если возможно, миловать. Я нашел здесь эту возможность. Отпустил с ними своего офицера, и уверен, они исполнят все в лучшем виде. Утишить надо их, утишить, а не распалять неправыми арестами. Мало нам шведов, так давай еще и башкир против себя восстановим.
Не убедил фельдмаршал воеводу, не убедил. Более того, у Кудрявцева появились сторонники, воевода Сергеев и прибыльщик Вараксин. Прямо на государя выходить не решились, а послали донос Меншикову, твердо зная, что через него все станет известно царю.
В доносе говорилось, что Шереметев творит самоуправство, отпускает безнаказанно из тюрем воров, чинит иноверцам «ослабу», от которой уж добра ждать не приходится.
Доносу, увы, был дан ход, и Петр направил к Шереметеву для надзору гвардейца, сержанта Щепотьева, с строгим указом фельдмаршалу: «Ни в какие дела, кроме военных, не вступаться, а что будет доносить вам сержант Щепотьев, извольте чинить по слову его».
Самому Щепотьеву Петр наказал:
– Ты, Михаила, будешь при фельдмаршале моим оком. И должен смотреть, чтоб все им творилось по моему указу, и если же по каким-то своим прихотям он не станет делать, говорить ему об этом, а если он тебя не послушает, отписывай мне.
Борис Петрович был оскорблен таким решением государя, с горя подвыпив, говорил своему генерал-адъютанту Савелову:
– Где это видано, чтоб сержанта ставить над фельдмаршалом? А? Петро? Что молчишь?
– М-да… – сочувственно мдакал Савелов, но не более, поскольку надзорщик этот царем послан, а уж царево решение хаить себе дороже может обойтись.
Не менее оскорбительным было для Шереметева, что пришел к воеводе Кудрявцеву от царя указ: «Воротить все в прежнее состояние». Воевода приказал вернуть всех выпущенных «воров» в тюрьму, и в ту же камеру, наказав тюремщикам: «Никаких фельдмаршалов туды не пущать». Но и этого мстительному Кудрявцеву показалось мало, он велел писарю сделать несколько списков с царского указа и разослал их во все нижние города, приписав от себя, что-де «государь фельдмаршала ни в чем слушать не велит».
Узнав обо всем этом, Борис Петрович сел за письмо «первому министру» Головину: «Федор Алексеевич, государь мой, я ныне в Казани живу как в крымском полону. Ныне, пожалуй, подай мне помощи, отзови меня в Москву. Зело я, государь, опасаюся, чтоб не учинилось на Уфе от башкирцев, как и в Астрахани, а я вижу, что зреет. А как сделается, мудро будет унимать и усмирять… не таково время, чтоб их слишком злобить, полно нам покуда шведов».
Однако граф Головин, несмотря на свою власть, не решился отзывать фельдмаршала в Москву, но велел «итить до Саратова, дабы оттуда весной двинуться к Астрахани к усмирению бунта».
Таким образом Головин отдалял Шереметева от казанского воеводы Кудрявцева, большего он не смог ему сделать, потрафить.
В марте Шереметев с полками подошел к Черному Яру, тоже, по его сведениям, присоединившемуся к астраханским бунтовщикам. Однако черноярцы, наученные своим воеводой Вашутиным, завидев регулярное войско, вышли ему навстречу с повинной, неся плаху с воткнутым в нее топором. Все без шапок рухнули ниц.
– Вот, батюшка воевода, наши головы, а вот плаха, вели рубить али миловать.
– Я милую вас, – молвил фельдмаршал, не слезая с коня. – Пусть все сдадут оружие, какое имеется.
Он проехал к городской канцелярии, там встретил его черноярский воевода Вашутин:
– Здравия вам, господин фельдмаршал.
– Ты воевода?
– Да, ваше высокопревосходительство.
– Бунтовались твои люди?
– Да, были астраханцы, мутили народ. А ушли, я и уговорил черноярцев не слушать, покориться государю. Согласились почти все, а кто не согласен был, того прогнали.
– Все равно, Вашутин, придется твоим сдать огнестрельное оружие.
– А как же мы? А ну разбойников нанесет.
– Я оставлю тебе солдат с полтысячи с добрым офицером.
– Ну тогда другое дело.
– Савелов, – подозвал Шереметев своего генерал-адъютанта, слезая с коня, – проследи, чтоб сдали ружья, пушки, если таковые имеются. Сабли, алебарды {187} оставь им. Воевода поможет, он знает, у кого что имеется.
Шереметев направился в канцелярию, сопровождаемый Вашутиным. Туда же прибыл командир Петербургского полка Петр Матвеевич Апраксин – старший брат Федора Апраксина – друга фельдмаршала. С Шереметевым старший брат не очень ладил, тая на него обиду. Когда-то, воюя в Ингрии, он попросил царя добавить ему три полка, тот эту просьбу переадресовал фельдмаршалу: «Выдели три полка Апраксину». Шереметев от щедрот своих отправил один полк. Петр Матвеевич пожаловался государю, но тот уже не стал докучать фельдмаршалу вторично, так как знал его ответ: «Самому нужны».
Ныне государь отправил Апраксина в распоряжение Шереметева с предписанием: «Как только буде погашен бунт, объявить губернатором Астрахани Петра Матвеевича Апраксина, дабы, взяв власть в городе, смог он там навести порядок».
Здесь же в канцелярии находился и Щепотьев, ставший едва ли не тенью фельдмаршала.
Дабы поднадзорный не забывался, едва войдя в горницу, Щепотьев сказал ему негромко, но нравоучительно:
– Миловать надо именем государя, Борис Петрович.
– Я уже так миловал в Казани, – огрызнулся фельдмаршал. – Не тебе мне указывать.
Апраксин, войдя, перекрестился, молвил:
– Слава Богу, без крови обошлось. Может, и в Астрахани так же случится.
– Возможно, – согласился сухо Шереметев.
– Ты вроде недоволен, Борис Петрович, – сказал Апраксин, присаживаясь к столу.
– Я? – переспросил Шереметев. – Я очень доволен, – молвил с нажимом. И, покосившись на Щепотьева, недружелюбно: – Яйца курицу учить начинают, как тут не быть довольным?
Сержант не остался в долгу, отвечал с язвительной усмешкой:
– Если яйца золотые, у них не грех и поучиться.
Фельдмаршал фыркнул, поднялся и, направляясь к двери, сказал последнее:
– Не все золото, что блестит, сопля тоже поблескивает. – И вышел, хлопнув дверью. За ним выскользнул и Вашутин.
Апраксин догадывался о причине плохого настроения фельдмаршала, даже сочувствовал, однако «соплю» трогать не решился, только, вздохнув, спросил Щепотьева:
– Сколько еще до Астрахани?
– Двести пятьдесят шесть верст.
– Неблизко.
– Отчего? Совсем рядом, – поднялся Щепотьев и вышел за фельдмаршалом.
И едва за ним захлопнулась дверь, Апраксин, плюнув вслед, проворчал:
– Гляди-ка, пузырь бычий. – И передразнил, гундося: – «Совсем рядом».
Вечером в избе, где остановился Шереметев с денщиками, он созвал командиров полков и приказал выставить усиленные посты: «дабы не приключилось беды».
Через два дня в Черный Яр явился шереметевский посланец из Астрахани, которого он отправлял на разведку еще из Саратова.
– Ну что там? – спросил в нетерпении фельдмаршал.
– Худо, Борис Петрович. Начиналось вроде неплохо. Кисельников привез государеву грамоту, в которой царь призывал дураков успокоиться, обещая простить им вины. Пока читал на кругу, вроде соглашались с грамотой. А едва Кисельников отъехал на Москву, увозя это их согласие, как уже на следующий день опять зароптали, а уж на третий взбулгачились того хуже по новой.
– Ты им говорил, что я с полками иду?
– Говорил, Борис Петрович.
– А они?
– Они, стыд головушке, про тебя срамные слова кричали, что-де мы и твово фельдмаршала за Ржевским отправим. И вот велели тебе их злословную бумагу передать.
Посланец полез за пазуху, вынул мятый-перемятый клочок бумаги, подал Шереметеву. Тот взял, расправил на столе, ворча недовольно:
– Ты что, с ней в нужник ходил?
Посланец отвечал виновато:
– Таку дали, Борис Петрович. И что еще велели передать, будем, мол, отбиваться доколе можем, а посля, мол, город сожжем и убежим все на Аграхань {188} из-под власти царя.
– Ну и что? Готовятся?
– Да. Пушки по стенам ставят. Людям невоинским ружья дают, кто упрямится, того казнят без милости.
Шереметев, хмурясь, долго разбирал каракули, шевеля губами. Кончив чтение, отодвинул бумагу, слегка прихлопнув по столу ладонью:
– Ну что ж, сами на рожон лезут. Удоволим. Ступай, братец. Поди, голоден?
– Как волк, Борис Петрович, всю дорогу на сухомятке.
– Иди к моему повару, скажи, что велел покормить тебя от пуза.
– Спасибо, Борис Петрович.
После ухода посланца Шереметев велел денщику:
– Гаврила, принеси ларец с бумагами.
Денщик принес окованный невеликий сундучок, поставил на стол. Шереметев открыл его ключиком. Достал лист бумаги, перо, чернила. Умакнув перо, начал писать: «Премилостивый государь! На Черный Яр пришел я марта 2 дня, и черноярцы все по вашему величеству вины шатости принесли со всяким покорением. Воевода на Черном Яру Вашутин добр и показал вашему величеству верную службу, многих их уговорил… И я тому воеводе велел быть по-прежнему, да для караулов оставляю полк Обухова 500 человек, чтоб заводчиков не распустить до указу твоего самодержавия. Посланник мой, которого посылал я в Астрахань, с Саратова возвратился на Черный Яр сего марта 4 дня, привез от астраханцев ко мне отписку, чтобы я помешкал в Царицыне, и пустить меня в Астрахань не хотят и многие возвраты между ними учинились. А я с полками своими сего марта 5 дня пойду наскоро, и чтоб при помощи Божией намерение их разорвать и не упустить из города, чаю поспешить…»
Шереметев перечитал написанное, вспомнив, в какой стыд он угодил в Казани, и приписал подчеркнуто крупными буквами: «Повели указ прислать с статьями, о чем к вашему самодержавству писал я ранее: если вины принесут, что мне чинить?»
Он знал, что последний вопрос рассердит государя, но не жалел, что вписал его. Сам ведь, отправляя в Казань, велел миловать. Помиловал башкирцев в Казани, ну и что получилось? Повелел Кудрявцеву «вернуть в прежнее состояние», мало того, подсунул этого дурака Щепотьева Мишку. В этом вопросе как бы невидимый упрек царю за унижение фельдмаршала: вины велел отпускать устно, а теперь вот напиши в статьях.
– Ничего, кашу маслом не испортишь, – бормотал Борис Петрович, сворачивая грамоту.
На полпути к Астрахани прибыл к фельдмаршалу калмыцкий тайша Аюка {189} , горевал вслух:
– Ай плехо делал воевода Ржевский, ай плехо. Зачем люди обижал? Люди нельзя обижать, сердится станут. Сердитый люди хуже волка бешеного, – печалился тайша.
– А ты не обижаешь своих, Аюка?
– Как можно, Борис Петрович, как можно! Они люди все хорошие, если ты хороший. Ты станешь злой, и люди злые станут. За доброе люди всегда добром платят.
– Когда началась смута, к тебе были послы от Астрахани?
– Были, Борис Петрович, были.
– Что говорили?
– Звали на Москву идти.
– А ты?
– А что я? Я сказал, присягал царю Петру Алексеевичу и изменять ему не стану. Нехорошо это – изменять. И им сказал, идите куда хотите, только добра вам не будет.
– Ушли?
– Ушли.
– Куда?
– На Дон, кажется. Грозились, мол, потом не обижайся, когда до вас доберемся.
– Если они вздумают на Аграхань идти, пойдут через твои земли, Аюка? Так?
– Да, да. Я знаю.
– Ты должен задержать их, Аюка.
– Можно. Однако у меня ж нет пушек, и ружей если наберется с сотню, хорошо. Мне трудно их будет задержать, Борис Петрович.
– А я-то на што? И потом, это на крайний случай. Сейчас они укрепляют крепость и надеются отбиться. И если побегут, то скорее малыми партиями, а то, может, по одному – по трое. Их-то ты сможешь переловить?
– Ну, с малыми мы управимся. В степи они далеко не убегут.
– Вот и славно. С Богом, Аюка, желаю тебе успеха. У вас какой бог-то?
– У нас нет бога, как у вас, Борис Петрович. У нас есть Будда, он просветленный, ему и поклоняемся.
Шереметев распорядился дать несколько легких пушек Аюке, которые можно было перевозить во вьюках, пороху и ружей, приняв от него в подарок бурдюк с кумысом.
Приблизясь к Астрахани, фельдмаршал послал стрельцам письмо с требованием прекратить бунт и сложить оружие.
Посланец воротился с отказом:
– Они завалили ворота и подожгли слободы. Настоятель Ивановского монастыря просил вас прийти скорее, пока туда не явились бунтовщики и не разграбили амбары с хлебом.
Шереметев занял монастырь, опередив бунтовщиков на сутки. Стрельцы явились к монастырю на следующий день, видимо вспомнив о хлебных амбарах. Нападение было отбито, и фельдмаршал приказал тут же преследовать воров, дабы на их плечах ворваться в Земляной город.
Атакой Петербургского полка под командой Апраксина они были выбиты из Земляного города, потеряв много убитыми, и отступили в кремль. Оттуда открыли сильнейший огонь, и Шереметев приказал отвести полки, дабы «зря людей не тратить», выкатить пушки и начать бомбардировку города. Он уже на шведах убедился, сколь убедительно «уговаривают» мортиры осажденных.
Мятежники не выдержали и ударили в барабаны к сдаче. Шереметев передал через Арсеньева приказ: «Ворота открыть! Всем лечь!»
Через Воскресенские ворота полки вступили строем в город под барабаны. На пути их следования по обеим сторонам лежали лицом вниз астраханцы, являя этим покорность и прося милости у победителя.
Первым делом все были разоружены, 240 «пущих заводчиков» под усиленным конвоем были отправлены в Москву в Преображенский приказ к князю Ромодановскому для сыска. Остальным стрельцам, согласно указу Петра, было назначено идти в Петербург «заслуживать свои вины». Там на строительстве города требовалось много рабочих рук.