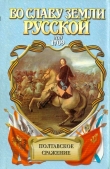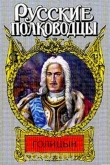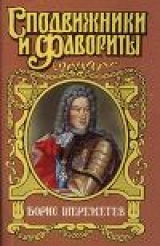
Текст книги "Фельдмаршал Борис Шереметев"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
Глава четвертая
ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Борис Петрович подозвал сына к карте и, ткнув в нее пальцем, сказал:
– Вот, Миша, Ряпнина мыза. Гарнизон здесь не столь велик. Даю тебе одиннадцать полков, это будет, пожалуй, раз в пять больше, чем у шведа. Потрудись, сынок. С Богом!
Шереметев перекрестил сына, толкнул ласково в плечо. И когда тот вышел, подозвал к карте Корсакова.
– Тебе, полковник, в это время надо атаковать мызу Рауге. Вот она. Надеюсь, не заблудишься?
– Что вы, Борис Петрович, чай, не впервой.
– Вот именно, не впервой блукать. У тебя будет три полка, для Рауге вполне достаточно, там, сказывают, даже и пушек нет.
В эту вылазку Шереметев решил сам не ходить, надо было принимать новые драгунские полки, а у Бориса Петровича была привычка дотошно вникать в самые мелкие детали. Он мог придраться к ослабленной или надорванной подпруге, заставить перековать коня, не случайно заглазно драгуны иногда называли его «всякой бочке затычка».
А накануне, принимая драгунский полк Жданова, Борис Петрович возмутился видом лошадей:
– И вы собираетесь на этих одрах итить в поход?
– С фуражом туго, – пытался оправдаться Михаил Жданов.
– Это вы мне говорите в сентябре, когда в лугах высятся сотни стогов. А что запоете зимой?
– Так у стогов есть хозяева.
– А вы в полку хозяин. Извольте откормить коней до кондиции.
Однако, воротившись в штаб, Шереметев распорядился отпустить полку Жданова двести мер овса. Не его пожалел – лошадей. Плохое состояние коней в каком-то полку всегда огорчало Бориса Петровича, отчего он более уважал казаков и калмыков, любивших коней и понимавших в них толк, хотя эти нерегулярные части отличались невысокой дисциплиной и своеволием. Но Шереметев многое прощал им именно из-за любви к лошадям. Поэтому после Нарвы он приблизил к себе казака Авдея Донцова, оказавшегося с ним рядом в самый тяжелый момент. А адъютанта Савелова упрекнул после того:
– Где тебя черти носили?
– Но, Борис Петрович, вы же сами к Бутурлину отправили.
– Тебе б надо было там досидеть до плена, дурак.
– Но я ж мигом, – оправдывался Савелов. – Одна нога тут, другая там… вернулся – а вы уж на том берегу.
– Если б не Авдей, я б на том свете оказался. Выдать бы тебе, да плеть жалко.
И стал Донцов при воеводе не то денщиком, не то коноводом, поваром, нянькой. Стлал постель, варил немудреную похлебку, иной раз и бельишко пропотевшее постирывал воеводе… Коня его, Воронка, холил не менее своего Каурки. И когда речь заходила о лошадях, именно к нему апеллировал Борис Петрович:
– Слышь, Авдей, в ждановском полку кони-скелеты. А? Это как?
– Срамота, – соглашался Донцов.
От Михаила Борисовича прискакал гонец с радостной вестью:
– Мы побили шведа!
Шереметев обнял вестника, поднес чарку:
– Спасибо, братец.
И тут же приказал готовиться к встрече победителей. Когда показался возвращающийся отряд, на монастырских раскатах загрохотали пушки в честь победителей. Впереди войска гнали пленных человек пятнадцать, за ними везли две захваченные пушки и несколько возов фузей {138} и знамена.
Борис Петрович едва дождался сына, тот замыкал все шествие. Подъехал к отцу, слез с коня, доложил:
– Так что мыза разгромлена, побили триста шведов, взяли две пушки, сто фузей. Своих потеряли девять человек.
– Ай, Миша! – Шереметев схватил сына, обнял, расцеловал крепко. – Вот уж уважил старика, вот порадовал. Спасибо, дружок.
Глаза воеводы блестели от подступающих слез. Он был безмерно рад удаче сына.
– Ты, сынок, ты первый после Нарвы почал бить их, окаянных.
Со смертью жены, случившейся как раз в дни Нарвской конфузии, о которой узнал Борис Петрович лишь спустя месяц, стал он несколько слабоват на слезу. Не то что очень тосковал. В походах и частых отлучках как-то отвык от нее, но с уходом жены понял, что и он ведь не вечен, что и его самого смерть поджидает, может, вон и за тем леском. Потому успех сына – родного корешка – был приятен его сердцу и трогателен. И слеза была простительна счастливому отцу.
Вылазка Корсакова на мызу Рауге оказалась неудачной, нападение его было отбито пушечной картечью {139} , и он потерял около полусотни человек. Хвалиться ему перед воеводой было нечем, и он постарался въехать в Печоры поздно вечером. А утром, представ перед воеводой, попробовал оправдаться:
– Были пушки-то на Рауге, Борис Петрович. Были.
Это прозвучало упреком самому воеводе, мол, не ты ли говорил, что там пушек нет.
– М-да… – вздохнул Шереметев, – знать, сбрехали наши разведчики, полагалось бы плетей им всыпать по полсотни на каждую задницу. Как думаешь?
– Надо бы, Борис Петрович, чтоб вдругорядь глаза лепш разували.
Но наказывать лазутчиков Борис Петрович не стал, отчасти потому, что они опять ушли за рубеж в сторону Дерпта высматривать, вынюхивать планы Шлиппенбаха. И даже если б они были дома, он бы все равно не стал их наказывать: ребята и так головой рискуют. А то, что оконфузились с пушками на мызе Рауге, так с кем того не случается. Возможно, у шведов эти самые пушки были по сараям спрятаны. Увидь попробуй.
Но Шлиппенбах в донесении королю описал бой при Рауге как блестящую победу шведского оружия, раз в пять преувеличив русские потери и совершенно умолчав о разгроме шведов при мызе Ряпниной. В конце донесения он намекнул королю о его обещании прийти под Псков.
Однако Карл XII прислал Шлиппенбаху поздравления с блестящей победой и с присвоением «дорогому Густаву» звания генерал-майора.
– Эх, – вздохнул новоиспеченный генерал, – лучше б прислал мне король тысяч восемь солдат!
– Его величество отправляется добивать саксонскую армию, – молвил посыльный Карла. – Как только управится там, так придет к вам на помощь, генерал.
Маленькая ложь Шлиппенбаха докатилась до Европы, раздувшись до бессовестных размеров. Газеты, захлебываясь от восторга, живописали, что при мызе Рауге на тысячу двести шведов напала 100-тысячная армия русских и потерпела сокрушительное поражение, оставив на поле боя шесть тысяч трупов. Европа смеялась над «русским медведем».
Призвав к себе Корсакова, Шереметев подсунул к нему лист газеты и спросил подчеркнуто серьезно:
– Полковник Корсаков, как вы умудрились, ведя в бой три тысячи, потерять шесть тысяч солдат? А?
Корсаков вскинул в удивлении брови:
– Я что-то не соображу, Борис Петрович.
– Вот, читай в газете. Вот, вот тут.
– Но я не знаю этого языка.
– Я тебе переведу.
После перевода Корсаков засмеялся, а потом выругался:
– Вот суки. А?
– Это, брат, нам Нарва отрыгивается. А тут еще и саксонцев раздолбал мальчик. Где нам уж!
– Надо задать хорошую трепку Шлиппенбаху.
– Надо, брат, надо. А пока он за трепку тебе получил звание генерала.
Царь еще с октября начал понукать Шереметева «итить вдаль». Борис Петрович не спешил, резонно полагая, что и под Нарвой оконфузились из-за спешки. Он готовился к походу обстоятельно, велев не только откармливать лошадей, но и хорошо обучать молодых рекрутов и ружейному и сабельному бою, при случае повторяя молодым солдатам:
– Ты стрелишь – промахнешься, значит, в тебя попадут. Ты не срубишь, тебе башку снесут. Так что овладевай, натаривайся.
Во второй половине декабря Шереметеву лазутчики донесли: «Шлиппенбах сосредоточил у мызы Эрестфер около восьми тысяч конницы и пехоты. Предполагаем – собирается атаковать Печоры».
Поскольку приближались рождественские праздники, Шлиппенбах перенес время похода. А Шереметев решил упредить нападение шведов и 23 декабря выступил из Пскова в поход «за свейский рубеж» с корпусом почти в девятнадцать тысяч человек.
Впереди шли драгунские полки, за ними пехотные, а сзади ехала артиллерия с прислугой, уже изрядно наторевшей в стрельбе. Замыкал колонну обоз с продовольствием и фуражом. Все предусмотрел Борис Петрович, ехало даже несколько саней, нагруженных сухими дровами и берестой, чтобы на ночевках не мучиться с разведением костров, над чем драгуны зубоскалили меж собой:
– И чего ж он печку с собой не взял.
Однако на первой же остановке-ночевке вполне оценили предусмотрительность воеводы, когда пришлось в темноте в глубоком снегу лазить по кустам, рубить сырняк и разжигать костер: «Соображат наш-то, соображат».
Три дня корпус двигался кучно, не растягиваясь, но потом Шереметев пустил вперед три полка драгун, дабы, подкрадясь скрытно, напали на мызу внезапно.
Шлиппенбаха его лазутчики предупредили о приближении русских 27 декабря, когда солдаты вовсю веселились по случаю праздника, пили вино, пели песни, тискали крестьянок.
– Проспали, сукины дети! – ругался генерал и тут же разослал адъютантов и денщиков по полкам приводить в чувство разгулявшихся солдат.
Двадцать восьмого утром злые с похмелья солдаты выкатывали на окраину мызы пушки и по приказу самого генерала заряжали картечью. Поэтому, когда русские драгуны утром 29 декабря бросились в атаку, их встретил убийственный огонь шестнадцати пушек, завизжала густая картечь, валились из седел первые убитые.
Драгуны были рассеяны, разбежались по кустам и лесам. Сам полковник Львов прискакал к воеводе без шапки с поцарапанной щекой:
– Борис Петрович, пушки… Давай пушки.
– Петро, мигом к артиллеристам! – приказал Шереметев адъютанту. – Авдей, перевяжи князя.
Донцов достал из тороки бинты, льняные охлопья, подъехал к Львову:
– Дозвольте, ваше сиятельство.
Промокнув кровь охлопьями, он присыпал рану порохом и замотал бинтом голову князя. Открыв сулейку {140} , предложил ему выпить:
– Глотните, ваше сиятельство.
Львов сделал несколько глотков, вернул сулею:
– Спасибо, казак.
– На доброе здоровье, князь.
Когда русские выкатили пушки на прямую наводку и сыпанули картечью по шведам, там случилась некоторая заминка, поскольку сразу половина прислуги была выведена из строя, кто убит, кто ранен.
Борис Петрович послал адъютанта к полку Жданова:
– Пусть обходит мызу справа. Авдей, скачи к князю Мещерскому, пусть слева окружает.
Шлиппенбах, видя, что артиллерия его захлебывается, неся потери, приказал вступить в бой коннице, пустив ее вперерез Мещерскому. Шереметев отправил во фланг им своих драгун. Началась рубка, где долго невозможно было определить, чей перевес – то швед гонится за драгуном, то драгун наседает на шведского конника. Крики, ржанье коней, звон и скрежет сабель…
Но вот справа от мызы затрещала ружейная пальба прямо у крайних хат. Это Жданов цеплялся за окраину.
Почувствовав, что его окружают, Шлиппенбах приказал отходить. Но отход конницы был воспринят русскими как отступление неприятеля. И тут Шереметев, обернувшись, приказал адъютанту:
– Скачи к Мише, пусть в палаши их.
Драгуны Михаила Борисовича ворвались на мызу на плечах бегущих шведов. Мгновенно умолкла артиллерия и пошла в бой пехота. Уже в сумерках мыза была захвачена, но солдаты до самого утра извлекали из всяких щелей – амбаров, сеновалов, погребов – спрятавшихся шведов. К рассвету 30 декабря набралось пленных сто пятьдесят человек, несколько знамен, все шестнадцать пушек. Но чему особенно радовался Шереметев, так это фуражу и провианту, заготовленному впрок шведами.
– Ай спасибо, ай спасибачка Шлиппенбаху, позаботился о нас, – шутил Борис Петрович. – Не послать ли ему благодарственное письмо в Дерпт?
На обратном пути в Псков на одной из дневок Шереметев сел за донесение государю: «С Божьей помощью, государь, мы шведов изрядно побили под Эрестфером, получив над Шлиппенбахом викторию, и, думаю, от этого поражения они долго не образумятся, не оправятся. Сам генерал Шлиппенбах бежал в Дерптскую крепость с остатками корпуса, оставив нам добрые трофеи – пушки и много провианта и фуража. Три тыщи полегло шведов, наших в три раза менее. Подробности тебе поведает Мишка, с которым шлю твоей милости сие письмо. А я, твой раб Бориска Шереметев, поздравляю тебя, милостивца нашего, с первой победой».
Одновременно к Карлу XII скакал из Дерпта от генерала Шлиппенбаха гонец с донесением, где мельком говорилось о некоторой неудаче при Эрестфере, но зато обстоятельно о бегстве врага в «свое логово Псков».
– Я спокоен за Шлиппенбаха, – сказал король. – С русскими даже неинтересно сражаться, при первом выстреле они разбегаются как зайцы.
– Наконец-то мы можем бить шведов! – вскричал царь, прочтя донесение Шереметева.
Потом долго расспрашивал участника боя Михаила Борисовича о подробностях, тут же произвел его в полковники. Приказал оповестить всю Москву о «славной виктории», палить из пушек, пускать фейерверки и за счет казны угощать народ пивом и вином, на Красной площади построить хоромы, в которых лицедеям и скоморохам представлять народу всякие художества и сцены.
А уже на следующий день в Псков поскакал Меншиков с указом государя о производстве Шереметева в фельдмаршалы и награждении героя орденом Андрея Первозванного «за великие заслуги его перед отечеством».
Прикрепив к кафтану фельдмаршала орден, Меншиков, надевая на него кавалерскую голубую ленту, заметил:
– Гордись, Борис Петрович, ты у нас третий кавалер.
– А кто первые?
– Первый – Головин, второй – гетман Мазепа Иван Степанович.
– Ну, свату, ясно, заслужил. А гетману за что?
– Ну как? Он Украину держит в узде, как на угольях сидит. Государь сказал, мол, порадовать надо.
Порадованы были и все офицеры, получившие повышение и денежные награды, солдатам досталось по одному рублю из только что отчеканенной монеты. Адъютант Савелов получил чин полковника, как-никак теперь при генерал-фельдмаршале должен обретаться.
В честь фельдмаршала и кавалера меншиковский эскорт палил из ружей вверх, а после этого было устроено застолье, на которое сошлись почти все полковники. Пили за здоровье государя, фельдмаршала, за его кавалерию. Напившись, пели, плясали. Меншиков, подпив, рассказывал о конфузии шведов на море:
– Карл послал шесть фрегатов {141} с повелением сжечь Архангельск и верфи тамошние {142} . Боясь напороться на камни, шведский адмирал поймал двух рыбаков местных и заставил провести их к Новодвинской крепости. Однако те посадили флагмана на камни, а наши с берега открыли по шведам огонь. Те бежали на лодках к другим кораблям. Нашим достались фрегат и яхта {143} . Так что и на море помаленьку начинаем.
– А как рыбаки? Ну те, что завели их на камни?
– Одному удалось бежать, но Прозоровский засадил его в тюрьму.
– В тюрьму? Героя-то. За что?
– А спроси. Говорит, мол, нарушил запрет – вышел в море. Ну, Петр Алексеевич велел не только выпустить рыбака, но и до скончания живота освободил его от тягла.
– Повезло мужику.
Пир окончился далеко за полночь, перегрузившиеся гости стали расползаться. Князь Львов давно храпел под столом. И Шереметев велел Донцову:
– Авдей, вынь князя из-под стола, отнеси на ложе.
– Слушаюсь, Борис Петрович!
– Да укрой потеплее, вишь, скрючился как цуцик.
Донцов вытащил «цуцика» из-под стола, взял на руки, как ребенка, понес в другую горницу.
– Где такого богатыря взял? – спросил Шереметева Меншиков.
– Под Нарвой нашел. И то как сказать: не то я его, а скорее он меня. Почти со дна выволок. С того времени при мне и состоит.
Шереметев, выпивший немного, был почти трезв, сам проводил Меншикова в отведенную ему горницу. И когда тот, раздевшись, сложил аккуратно одежду на лавку и залез под одеяло, фельдмаршал спросил его:
– А скажи, Александр Данилович, нельзя ли мне пушек подкинуть? Али все еще туго с имя?
– С пушками нынче легче будет, Борис Петрович. Виниус на Урале старается {144} , за год триста штук отлил.
– Ай молодец Андрей Андреевич!
– Да уж, государь на него не нарадуется.
– А что государь мне-то ныне велел делать? Наступательно действовать или оборонительно?
– Тебе надо, Борис Петрович, Ливонию оголаживать и опустошать. Чтоб королю, если воротится, негде было бы голову приклонить.
– Да уж, моих казаков опустошать учить не надо. Это они умеют.
– Вот-вот, распускай их в загоны партиями. Пусть полонятся, да и драгунам не возбраняй.
– Драгунам шибко воли нельзя давать, живо оказачатся, Александр Данилович. А начни сверх меры зажимать, дезертируют. С имя одним кнутом не обойдесся, где и пряник нужен. Что там про короля Карла слышно? Не собирается сюда? Пленные что-то говорили, что должон, мол, быть. Обещался.
– Да нет вроде. Пока за Августом охотится. Он ненавидит его, пока, грит, его не прикончу, не пойду на Русь. Ну нам-то то и надо. Хотя влетает нам этот союзничек в копеечку. Как государя увидит, так: дай, дай, дай. Другого слова не знает. И добро б хошь на армию просил, а то все на баб транжирит.
– Так не давали б…
– Так я уж говорил Петру Алексеевичу: на кой нам такой союзник. Так он, мол, на безрыбье и рак рыба. Нельзя, грит, нам против шведа одним оставаться. Да, Борис Петрович, чтоб знал ты: от тридцатого декабря государь указал, чтоб отныне не называл себя никто уменьшительными именами. У тебя есть грех такой себя в письмах Бориской-рабом величать.
– Так это ж от веку так велось, Александр Данилович.
– А отныне чтоб не писал так. Рассердится государь. И чтоб на колени перед ним не падали. Я, грит, не Бог.
– Я знаю, это он давно не любил.
– И чтоб зимой шапок перед дворцом не сымали, голов, грит, чтоб не студили.
– Золотое сердце у государя, до всего-то сам доходит.
Поговорили еще о том о сем, наконец Шереметев сказал:
– Ну, покойной ночи тебе, Александр Данилович. Спасибо тебе еще раз, что добрые вести нам привез.
– Покойной ночи, Борис Петрович. Шумни там моего адъютанта {145} , куда он запропастился.
– Которого?
– Крюкова.
Шереметев вышел, прикрыл тихо дверь. Огладил на груди голубую ленту кавалерии, покосился с удовлетворением на сиявший слева орден Андрея Первозванного. Перекрестился:
– Дай Бог здоровья государю-милостивцу.
Глава пятая
ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ
Летом 1702 года царь в сопровождении Преображенского и Семеновского полков, а также с двенадцатилетним наследником Алексеем отбыл в Архангельск, приказав фельдмаршалу Шереметеву «итить вдаль».
Борис Петрович не знал, зачем государь отправился в столь дальний путь, но догадывался, вспоминая его январское письмо. В нем Петр проговаривался: «намерение есть по льду Орешек доставать». И просил фельдмаршала разузнать точно, когда Нева замерзает и когда ото льда освобождается.
«Не иначе государь оттель на Неву явится, под Нотебург», – думал Шереметев, по-прежнему неспешно сбираясь в поход. На то же намекала и последняя строчка в письме: «Все сие приготовление зело, зело хранить тайно, как возможно, чтоб никто не дознался».
Восемнадцатитысячная армия Шереметева выступила из Пскова 12 июля. Поданным разведки, фельдмаршал знал, что Шлиппенбах едва наскреб семь тысяч.
Князь Львов возглавил авангард и уже 18 июля у мызы Гуммельсгоф столкнулся с противником. Завязался бой. Шведы начали теснить авангард и даже отбили пять пушек у русских. Львов немедленно отправил к Шереметеву адъютанта, прося поддержки. Фельдмаршал пустил вперед пехоту, и она переломила ход боя хорошим метким ружейным огнем, а затем и штыковой атакой. Шведская конница повернула назад и, скача через собственную пехоту, расстроила ее ряды, многих потоптав. Брошенная конницей пехота кинулась врассыпную, но была почти полностью уничтожена ружейной стрельбой и штыками.
Генерал Шлиппенбах бежал в Пярну, куда с великим трудом собрал от своего корпуса около трех тысяч солдат, деморализованных случившимся. Остальные остались на поле боя.
Лифляндия полностью подпала под власть Шереметева, и он отправлял отряды в разные концы разорять и сжигать все, превращая край в пустыню. Особенно старались нерегулярные части – казаки, башкиры и калмыки.
Выполняя приказ государя – оголаживать край, Борис Петрович здесь настолько перестарался, что очень скоро сам почувствовал недостаток продовольствия и кормов не только среди тысяч пленных, но и в самой армии. Хозяйство Ливонии было подорвано, и она уже не могла кормить даже победителей.
Все тюрьмы, амбары, сараи были забиты тысячными толпами пленных жителей, а их же надо было как-то кормить.
Узнав о разгроме Шлиппенбаха, царь писал фельдмаршалу: «Зело благодарны мы вашими трудами».
Оставалось взять еще две крепости. Одну из них – у мызы Менза и вторую – на озере Пойн, так называемый город Мариенбург.
Комендант первой, подполковник, на предложение авангарда сдать крепость ответил отказом. Но, увидев, как к крепости приблизились основные силы и стали разворачивать пушки, приказал бить в барабан и сам, высунувшись в бойницу, замахал белой шляпой.
– Не стрелять! – приказал Шереметев и милостиво отпустил гарнизон, предварительно обезоружив. Коменданта же похвалил: – Молодец подполковник, что не дал пролиться напрасной крови.
– Я счел сопротивление бессмысленным, – отвечал подполковник, краснея.
– Правильно счел. Зато всем вам живота дарую. Но запомните, вдругорядь попадешься с оружием – повешу.
В середине августа победоносная армия фельдмаршала подошла к озеру Пойн, там, более чем в ста саженях от берега, высились каменные стены Мариенбургской крепости. Мост был разрушен, крепость казалась неприступной.
– М-да… – произнес адъютант Савелов, – сюда надо зимой приходить, когда озеро замерзнет.
– Ничего. Попробуем летом одолеть, – отвечал Шереметев и приказал ставить по берегу пушки. – Ну-ка, ребята, сыграйте им хорошую музыку.
Пушки начали палить, окутываясь дымом. Крепость отстреливалась, но более для порядка, чем для вреда. Вечером, когда пальба стихла, у фельдмаршала в шатре собрались полковники, решали, как быть. Некоторые предлагали продолжать обстрел, мол, рано или поздно крепость выбросит белый флаг, другие склонялись к тому, что надо оставить до зимы, когда замерзнет озеро. Спорили, спорили, так ни до чего не договорились, разошлись в темноте.
Авдей стал стелить фельдмаршалу постель и, когда тот улегся, сказал:
– Борис Петрович, а что, если сколотить плоты и на них подойти к крепости?
– А дальше?
– А дальше лестницы – и на штурм.
Шереметев помолчал и, когда Донцов погасил свечи и тоже улегся, сказал:
– А ты знаешь, Авдей, надо попробовать.
– Конечно, Борис Петрович! – обрадовался Донцов. – Надо токо с берега прикрыть плоты ружейным боем, не давать никому со стены высовываться.
Утром Шереметев созвал полковников.
– Вы тут вечер прогомонили, ни до чего не домолвились. А мы вот с Авдеем ночь не спали и придумали. Немедленно отряжайте рубщиков валить лес. Будем строить плоты.
– Тут есть много бревен и от бывшего моста, – сказал Савелов.
– Пусть собирают, сплачивают и вяжут.
В три дня было навалено и стаскано к берегу довольно леса, вязали по четыре, пять бревен, тесали весла прямо из сырника, приспосабливали их на плоты, выстругивали тонкие шесты.
Дабы не привлекать внимания осажденных, плоты сталкивали в воду ночью. Перед тем как начать штурм, Шереметев послал на лодке барабанщика к крепости с предложением сдаться. Комендант отказался. И тогда, расставив по берегу лучших стрелков с ружьями и с двумя-тремя помощниками для скорой зарядки ружей, фельдмаршал дал команду плотам отчаливать. На них отправляли штурмовые группы с лестницами, баграми. Солдаты были вооружены палашами, кинжалами и пистолетами, некоторые отправлялись с ружьями, снаряженными багинетами {146} .
Однако, когда плоты приблизились к крепости и начали приставать к ней, со стены были выброшены сразу три белых флага и забил барабан к сдаче.
– Сразу бы так, дураки! – проворчал Шереметев, хотя и был доволен столь легкой победой.
Было приказано выйти из крепости не только гарнизону, который оказался не столь велик, но и всем жителям, поскольку предстояло взорвать цитадель.
– Жалко, – сказал Мещерский. – Экая красота!
– Взрываем, князь Иван, чтобы второй раз не брать, – отвечал Борис Петрович. – Чтоб если воротится Карл XII, ему негде б было и переночевать.
– Да понимаю я, для чего мы их уничтожаем, Борис Петрович, но все равно жалко, ведь труд человеческий.
Для вывода гарнизона и жителей устроили наплавной мост из плотов, некоторые переплывали на лодках, сохранившихся в немалом количестве в городе. Каждый тащил все, что мог: мешки, узлы, корзины, подушки, шубы. Солдат тут же на берегу разоружали, сбивали в отдельные команды. Шум, крик, плач стояли окрест.
Казаки бесцеремонно отбирали у горожан вещи, понравившиеся им, припугивая несчастных: «Тебе все равно не понадобится».
К шатру Шереметева явился взволнованный старик священник.
– Ваше высокопревосходительство, ваше высокопревосходительство, я мариенбургский пастор Глюк, проявите милость и благородство, ради Христа.
– Что стряслось? – нахмурился Шереметев.
– Мою воспитанницу… Она только что из-под венца… Ее казак схватил… проявите великодушие…
– Авдей! – повернулся Шереметев к денщику. – Ступай разберись, помоги святому отцу.
Донцов отправился за пастором, тот, торопясь, продолжал лепетать:
– Она мастерица, она все умеет… Варить… Стирать… Вязать. Пожалуйста, заберите ее от казака к его превосходительству поварихой, прачкой, служанкой.
– Не суетись, отче, – успокаивал Донцов. – Раз девка умелая, заберем.
Девушка сидела на телеге на каком-то тряпье и плакала. Плакала беззвучно, крупные слезы горошинами катились по щекам.
– Вот, вот она, – указал пастор Донцову.
При виде чернобровой красавицы что-то теплое шевельнулось в зачерствевшем сердце Авдея, он взял ее за подбородок, заглянул в черные глаза, спросил ласково:
– О чем плачешь, красавица?
– А ну, не лапай чужое! – явился словно из-под земли казак. – То моя добыча.
Он был ростом едва ли по плечо Донцову. Авдей обернулся к нему:
– Ты что, ее с бою брал?
– Как бы ни брал, она моя. Я ее первый узрел.
– Вперед тебя ее узрел фельдмаршал, дура.
– То не по праву, то не по праву! – закричал казак. – Братцы, это же грабеж, – пытался он привлечь внимание своих товарищей.
– Чего вережжишь? Ты ее на дуване [8]8
Дуван – у казаков: сходка для дележа добычи.
[Закрыть]получил? А?
– Какой дуван? Какой дуван? Я ее первый полонил.
От соседнего воза кто-то посоветовал:
– Отчепись, Федьша, от греха. Аль в петлю захотел?
– Вот именно, – сказал Донцов, беря девушку за руку. – Идем, красавица.
– Ее Мартой звать {147} , – подсказал пастор.
Девушка слезла с телеги, покорно пошла за Донцовым. Пастор шел рядом, что-то быстро говоря ей по-шведски. Перед Донцовым оправдывался:
– Она плохо понимает по-русски.
– Выучится. Русский – не турский, мигом натореет. Верно, Марта?
– Вьерна, – наконец улыбнувшись, старательно повторила девушка.
– Во, видал, а ты говоришь – не понимает.
Так в обслуге фельдмаршала Шереметева появилась молодая прачка Марта.
Шереметев прямо от Мариенбурга писал царю письмо: «Чиню тебе известие, что Всесильный Бог и Святая Богоматерь желание твое исполнили: больше того, неприятельской земли разорять нечего, все разорили и запустошили без остатку, и от Риги возвратились загонные люди {148} в 25 верстах и до самой польской границы, и только осталось целого места Пернов и Колывань. Пошлю в разные стороны калмыков и казаков для конфузии неприятеля. Прибыло мне печали: где мне деть взятый полон? Тюрьмы полны, пленные сердятся, чтобы какие хитрости не учинили: пороху в погребах бы не зажгли? Так же от тесноты не почали бы мереть? И денег на корм много исходит, а провожатых до Москвы одного полку мало. Вели мне об них указ учинить… Августа 31 числа пойду к Пскову, быть тут стало невозможно, вконец изнужились крайне, обесхлебели, обезлошадели и отяготились полоном и скотом, и пушки везти стало не на чем: новых подвод взять стало неоткуда, а в Пскове нет».
А семнадцатилетняя прачка Марта, целыми днями трудясь неустанно то у корыта, то у огня, то с иглой и починкой, ночью плакала тихонько и, если это замечал пастор, жалилась ему:
– Где же он? Где мой суженый?
– Успокойся, милая. Вишь, что творится. Найдется твой капрал, куда ему деться?
– Не, мог майор кого другого послать. Почему именно Вольфганга, и прямо от венца?
– Ну, для такого дела нужен был самый надежный, самый смелый. Даст Бог, найдется твой супруг. Не плачь, дитя… – утешал пастор.
Сам Глюк мало верил в чудо, но искренне жалел Марту и переживал за нее. Надо ж было такому случиться, только обвенчались молодые, только вышли из костела. И тут же, прямо от крыльца вызвали капрала к коменданту, и тот, вручив ему пакет, отправил к генералу Шлиппенбаху, прося помощи.
– От вас, капрал, зависит спасение города.
Кто мог знать, что сам Шлиппенбах нуждался в спасении? Зализывал собственные раны в Пярну. До Мариенбурга ли ему было! И капрал Вольфганг – муж Марты – исчез в этом водовороте, словно камень, упавший в морскую пучину.
Только в Пскове были посчитаны мариенбургские трофеи: более тысячи пленных, в том числе 68 офицеров, 51 пушка, 26 знамен.
Прачка Марта в счет не вошла. А зря. Через год с небольшим станет ясно, что это был главный трофей фельдмаршала Бориса Шереметева.