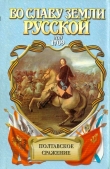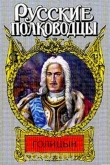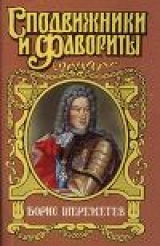
Текст книги "Фельдмаршал Борис Шереметев"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц)
Сергей Мосияш
«Фельдмаршал Борис Шереметев»

ШЕРЕМЕТЕВ (Борис Петрович, граф) – фельдмаршал, знаменитый сподвижник Петра Великого, родился в 1652 г. В 1669 г. был на службе у царя Алексея Михайловича комнатным стольником. В 1686 г. был послан с окольничим Чаадаевым в Варшаву для ратификации «Вечного мира» с Польшей. В 1695 г. вместе с Мазепой очень удачно воевал турецкие города в устьях Днестра. В начале Северной войны был послан под Везенберг наблюдать за шведами и при их приближении отступил к Нарве. Во время нарвского сражения конница Шереметева бежала с поля боя. Петр, который сам заранее уехал из-под Нарвы, прислал ему ободрительное письмо и приказал двигаться в пределы шведские. Шереметев осадил Мариенбург, но был отбит Шлиппенбахом; зато в поле русские одержали верх. За победу при Эрестфере награжден был чином фельдмаршала. В 1702 г. при Гуммельсгофе разбил наголову войско Шлиппенбаха, разорил Лифляндию, взял 8 городов, завоевал Ингрию. В 1703 г. им был взят Нотебург, при участии Петра. Оттуда он пошел вниз по правому берегу Невы и взял Ниеншанц. Затем Шереметев взял Копорье, Ямбург и этим закончил покорение Ингрии. В 1704 г. Шереметев осадил Дерпт, который в начале штурма сдался. В 1705 г. Шереметев потерпел поражение от войск Левенгаупта.
Петр Великий отправляет Шереметева в Астрахань, где разрастался бунт. Астрахань была взята войсками. Когда волнение было усмирено, Петр Великий щедро наградил Шереметева: он получил более 2400 дворов; сын его из комнатных стольников был произведен в полковники. Вернувшийся из Астрахани Шереметев сейчас же был послан в Курляндию. В 1708 г. он участвовал в неудачной для русских битве при Головчине. В Полтавской битве начальствовал над центром. Участвовал в Прутском походе. Вместе с Шафировым подписал договор с турками. Его сын, Михаил, и Шафиров остались заложниками выполнения условий договора. По возвращении из Константинополя принимал участие в походах в Померанию и Мекленбург. Всю жизнь Шереметев отдал на служение Петру, но из-за тяжелого характера и неприязни к Меншикову не пользовался расположением царя. Шереметев горько жаловался, что ему приходится исполнять на старости лет чужие приказания, что Петр ему ничего не пишет и не исполняет его просьбы. Горячий западник, он тем не менее симпатизировал царевичу Алексею и не участвовал в суде над ним. Умер в 1719 г.
Часть первая
НА ЗЮЙД
Глава первая
ГОСУДАРЬ ВЕЛЕЛ
Пятого марта 1697 года над Москвой волочились по небу сырые, хмурые тучи и сыпали то снежной крупкой, то изморосью. Невесело было в столице, жутковато, и виной тому не только погода была.
Сытно отобедав, Борис Петрович Шереметев, блюдя старину, отправился в опочивальню соснуть часок. И только лег, не успел и очей смежить, как в дверях явился испуганный слуга Алешка Курбатов {1} :
– Боярин, от государя к тебе…
Большего сказать не управился: оттолкнув Алешку, в дверь, пригнувшись, явился верзила, на голову выше верхней косячины:
– Борис Петрович, изволь к государю.
Екнуло сердце у боярина, признал в вошедшем любимца царского, Алексашку Меншикова, человека безродного, Бог знает откуда свалившегося. Ране бы не то что в опочивальню, а и на крыльцо ступить не посмел к боярину, выскочка. А если бы и явился, то велел боярин гнать его со двора, а то и собаками притравить, дабы знал свое место. Но это раньше. А ныне… Стыд головушке – испуганно воспрянул Борис Петрович на ложе, засуетился, забормотал униженно:
– Я счас, счас… К государю счас.
Сам натягивал себе сапоги, на Алешку шумнул:
– Вели заседлать Воронка.
– Не стоит седлать, – сказал Меншиков, кривя губы в усмешке. – Я за тобой в коляске.
И в усмешке этой почудилось Борису Петровичу что-то нехорошее, угрозливое. «В коляске! Не заарестовывать ли? За что? Чем виноват?» – мысли тревожные сверлили в голове. И было с чего. Лишь вчера отрубили головы заговорщикам, возглавляемым Цыклером {2} . И вот уж на следующий день спонадобился Борис Петрович государю. Зачем? Для чего? Уж не оговорили ли его на пытках?
– Ну, я жду тебя в коляске, – сказал Меншиков и вышел.
В коридор из боковушки высунулся сын:
– Батюшка, куда вы?
– К государю, Миша. Зовет срочно.
– Зачем?
– Не ведаю… – И, уж сбежав с лесенки вниз, оглянулся.
Михаил Борисович еще стоял наверху, словно ожидая какого-то слова от отца.
– Молись за меня, Миша, – пробормотал боярин и выскочил на двор.
Когда взобрался в коляску, сел рядом с Меншиковым, невольно отдуваясь, тот приказал вознице:
– В Кремль…
Коляска, запряженная парой, покатила по улице, переваливаясь на рытвинах и ухабах, разбрызгивая грязь со снегом. Когда выехали на Красную площадь, возница поворотил к Спасским воротам мимо Лобного места и свежего столба, на котором высились взоткнутые на острые штыри головы казненных.
– Ты гля!.. – толкнул Меншиков локтем под бок боярина. – Ворон уж Соковнина оседлал, в глаз ему целит. Гля, гля!..
Невольно косится Борис Петрович на столб, по бороде седой и длинной узнает боярина Соковнина, крестится машинально. Страх по спине подирает: «Ведь родственник же он Ему. За что ж его-то?» И уж мстится Борису Петровичу, что не случайно Меншиков мимо казненных повез его, словно намекая ему, что, мол, ждет тебя. А може, просто пугает? Ведь Шереметев и слыхом не слыхал об этом заговоре, ни сном ни духом. Однако ж поджилки трясутся у боярина. Вроде и не виноват, а страшно: отчего это государю понадобился он сразу после казней?
Въехали в Кремль, подкатили к Постельному крыльцу. Поднимаясь по ступенькам, споткнулся Борис Петрович. «Ох, не к худу ли сие?» Меншиков шагал широко, перемахивая через ступени. Поспешая за ним, боярин думал с осуждением: «Эк скачет, как жеребец-трехлеток, словно не в царский дворец является, а в конюшню. Никакого трепету и благоговения. Что с него взять – быдло!»
– А-а, привез!.. – воскликнул царь, поднимаясь из-за стола, заваленного бумагами, пронзая боярина пытливым взглядом.
Хотел Борис Петрович пасть на колени, но Петр предупредил его:
– Но-но, без этого. Я не икона. – Повернулся к Меншикову: – Александр, ступай в Посольский приказ, пусть Лев Кириллович {3} подойдет.
Меншиков ушел, царь опять оборотился к столу, на котором дыбились листы бумаги. Перебирая их, спросил:
– Пошто, Борис Петрович, вчерась не изволил быть в Преображенском? Аль злодеев жалко стало?
– Что ты, государь, чего их жалеть, заслужили. А не был я болезни ради. Прости за-ради Христа…
– Чем болел-то?
– Да, видать, застудился где-то. Погода-то вишь какая.
– Ты воин, боярин, закален должон быть.
– Вот то-то и штука, государь, на походе-то, бывало, и на снегу, и в сырости спишь, да на брюхо голодное – и ничего. Не чхнешь. А тут дома, в тепле и в сытости, – и на тебе.
– Стал быть, разнежился шибко. Не к пользе дом-от?
– Эдак, эдак, государь!..
– Где болит-то?
– Да в грудях вот тут доси колит. А вчера сопли ручьем лили, голова как с похмелья трещала.
Шереметев постепенно успокаивался, поняв, что не на казнь зван, раз государь о здоровье справляется.
– Вечером вели баню истопить, – посоветовал Петр, продолжая перебирать листы, – напарься как следует, да хлопни на сон кварту вина покрепче, да закуси медом липовым. Укутайся. Пропотей и утром будешь как новый.
– Спасибо, государь, так я и сделаю, – вздохнул облегченно боярин, веселея сердцем.
А Петр меж тем перекинул несколько листов на столе, нашел искомый. Поднял глаза на боярина, темные, выпуклые. Прищурился:
– А теперь скажи, Шереметев, какие у тебя были отношения с полковником Цыклером?
– С Цыклером? – удивился боярин. – Никаких, государь.
– А он о тебе вспоминал на дыбе-то. Вспоминал.
«Час от часу не легче!..» – насторожился вновь Борис Петрович, но виду не подал, молвил, пожав плечами:
– Что он мог обо мне вспоминать, государь? Он ведь с тобой под Азов ходил, не со мной. И потом, на дыбе-то под кнутом и отца родного оговоришь.
– Он не оговаривал тебя, напротив – хвалил.
– Хвалил? – удивился Шереметев. – Нужна мне его похвала!
– Вот здесь… – Петр щелкнул пальцем по листу, – в допросном листе с его слов написано, что-де стрельцы очень любят боярина Шереметева.
– Ну и что? – нахмурился боярин и даже подбородок вздернул горделиво. – А было бы лучше, если бы воины ненавидели своего воеводу? Да?
– Я так не говорю, но по всему Цыклер на тебя виды имел, думал, сразу после убийства царя ты подымешь стрельцов.
– Прости, государь, но я на службе у тебя, не у Цыклера. И, кажись, служил исправно, – отвечал, бледнея, Шереметев, и уж не от страха, от возмущения. – Вон по Днепру с ходу два города взял, и, между прочим, с нерегулярным войском.
В последних словах боярина невольно царь упрек уловил: мол, ты-то с регулярным войском дважды на Азов ходил и кое-как управился {4} .
Но Петр на правду не обидчив был, засмеялся даже:
– Уел ты меня, Борис Петрович. Уел. А что касается взятия Казыкерменя и Тагана, так за это тебе и Мазепе {5} от меня большое спасибо. Молодцы, ничего не скажешь!
И сразу как-то помягчел Петр, в глазах потеплело.
– Как устроился-то после Белгорода?
– Спасибо, государь, снял двор у жениной родни. Все есть: поварня, мыльня, конюшни.
– Надо свой дом на Москве покупать.
– Надо, конечно, но абы какой не хочется, а хорошие пока не продаются. Да и деньжат подкопить надо.
– А как жена?
– Скрипит пока моя Евдокия Алексеевна.
– Болеет, что ли?
– Не поймешь. Дохлый какой-то род у них, Чириковских, с червоточиной.
– Смотреть надо было, когда брал-то.
– Так ведь, государь, сам знаешь, как у нас женят. Родители вздумали, и все, нас, робят, и не спрашивают.
– Это верно. Меня тоже не спрашивали {6} . Я ведь что тебя позвал-то, Борис Петрович. Ты ведь знаешь, что я с Великим посольством за границу еду {7} .
– Знаю, государь.
– Хотели еще в феврале отчалить, а тут, вишь, заговор объявился. Пока розыск, пока суд, две недели потеряли. Ныне на десятое марта назначили. Я знаю, что окромя военного дела ты и в дипломатии дока.
– Какой там… – отмахнулся смущенно Шереметев.
– Нет, нет, не отвиливай. Ты ж в восемьдесят шестом с поляками переговоры вел.
– Князь Василий Васильевич Голицын {8} , государь. А я так, сбоку припека.
– Знаю я. Но был же? И ты ж ездил за королевской подписью на договоре. Да?
– Мы с Чаадаевым Иван Ивановичем, государь.
– И подпись вырвали-таки у короля. А?
– Вырвали… – усмехнулся Шереметев приятному воспоминанию.
– Ну вот, а говоришь, не дипломат, не дока.
– Так ему уж некуда было деться, Яну-то Собескому {9} . Его турки к стенке приперли, армию в пух и прах разнесли. Он во Львов припорол в отчаянии, а тут мы с договором. Плакал, подписывая-то.
– Что? Серьезно?
– Ну да. Уж очень ему не хотелось Киев нам уступать {10} . Так и молвил: от сердца отрываю.
– А вы что ему?
– Ну что? Я одно молвил ему в утешение: мол, не даром берем, полтораста тысяч платим. И потом, христианам, мол, уступаете, ваше величество, не басурманам каким-то.
– М-да, жаль, помер старик… – вздохнул Петр. – Теперь в Польше бескоролевье, драчка грядет. Кого-то изберут ясновельможные?..
– Но у нас же Вечный мир с ними!
– Э-э… Борис Петрович, в Польше что есть вечное – так это смута. Явится какой француз – плевать ему на наш договор. А нам против султана союзники крайне нужны. Великое посольство наше будет таковых приискивать. А тебе вот что я хочу поручить, Борис Петрович. Мы поедем через Ригу, Пруссию {11} на Голландские штаты {12} . А тебе надлежит приватно ехать в Вену к императору {13} , у него турки тоже костью в горле. Тебе разнюхать надо, тверды ли они в союзе против султана. Оттуда правься на Венецию для того же и далее на Мальту.
– На Мальту? А зачем?
– Мальтийский орден {14} – это гроза на юге для султана. В прошлом веке сорокатысячная армию турок ничего не смогла сделать с орденом, где в крепости сидело около восьми тысяч всего. Турки за четыре месяца половину армии потеряли, так и отступили несолоно хлебавши. Если тебе удастся склонить орден к союзу с нами, это же будет великолепно. Туркам не до Азова станет. Тогда мы сможем и на Керчь замахнуться. И вообще, посмотри там устройство крепостей, зарисуй, если надо. В Венеции, говорят, строят галеры {15} удачно, попробуй чертежи достать. Впрочем, я после Голландии хочу сам туда проехать, может, еще и встретимся. Ты везде почву взрыхлить должен, а я приеду посевом займусь…
– Когда прикажешь выезжать, государь?
– Не спеши. После нас, когда потеплеет, дороги обсохнут. А что, сына с нами не хотел бы послать, Борис Петрович, поучиться там?
– Поздно уж учиться-то Мишке-балбесу, уж двадцать пять стукнуло.
– Мне тоже двадцать пять, однако ж в ученики рвусь.
– Прости, государь, – смутился Шереметев нечаянной оговорке. – Но он под Азовом ранение получил, ты же знаешь. Еще лечится.
– Ну, это другое дело. И самое главное, Борис Петрович, ехать тебе надо инкогнито, можешь даже под другой фамилией.
– Так что? Значит, никаких грамот не будет?
– Письма от меня будут рекомендательные императору, Папе Римскому, дожу венецианскому {16} , ну и великому магистру. Сейчас придет Нарышкин, составим. Но все ты в тайне должен держать, Борис Петрович. Зачем, для чего, ты один знать должен, а свите своей скажи, что едешь, мол, мир посмотреть.
– Охо-хо-хо, – поскреб Шереметев потылицу. – Путь, чай, не дешев будет, государь.
– Понял. Но много дать не могу. Со мной около двухсот человек едет. Беру казну не только для подарков, но и оружие закупать, мастеров нанимать, да и учеба, не думаю, что задарма будет. Дам тебе тысяч десять.
– Достанет ли? Круг-то эвон какой, за тридевять земель бежать.
– Своих добавишь, Борис Петрович, не жмись. А воротишься с успехом, составишь расходный лист, все до копейки получишь.
– А если без успеха ворочусь?
– Ты-то?.. – подмигнул весело царь. – В дипломатии преуспел, на поле ратном тож. И не думай о конфузии. Все получится. Ступай. Осьмого числа у Нарышкина письма возьмешь. Да не кажи никому их, акромя адресатов.
– Я все понял, государь.
Шереметев вышел на Постельное крыльцо и столкнулся с Нарышкиным – дядей Петра, спешившим на вызов царя. От него пахнуло на боярина крепким сивушным духом. Подумал с осуждением: «Этот сейчас напишет письма, как же!»
Направился к Спасским воротам, сердясь на Меншикова: «Явился со своей коляской, сюда довез. А назад?» Но тут от Ивановской площади, на которой толпились держальники боярские {17} с выездами, раздался радостный крик:
– Борис Петрович! Бояри-ин!
Оглянулся Шереметев, а оттуда хлынью {18} едет Алешка, рот до ушей и в поводу ведет заседланного хозяйского Воронка.
«Догадливый, чертушка!» – подумал удовлетворенно Борис Петрович про слугу, но вслух хвалить не стал. Принял повод, поймал ногой стремя, взлетел в седло почти по-молодому, подумал невольно: «Еще ничего. Могу».
Похлопал ласково Воронка по шее, молвил:
– Домой, дружок.
Конь всхрапнул, довольный хозяйским вниманием, и побежал к воротам, не подстегиваемый, не понукаемый. Ничего не скажешь, любили они друг друга – конь и боярин, любили и понимали.
Алешка ехал за хозяином, приотстав на корпус. Уже у дома Шереметев, полуоборотясь, сказал ему:
– Вели мыльню истопить пожарче, веников с квасом приготовь. Буду лечиться… государь велел.
Глава вторая
ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ
От веку не мазанные петли взвизгнули по-поросячьи, и захлопнулась дверь кутузки за спиной Бориса Петровича. Прогремел тяжелый наружный засов, прозвякали ключи, и все стихло. За толстой дверью темницы даже не услышались шаги уходившего тюремщика.
«Наверно, стоит прислушивается, гад», – подумал Шереметев. В ушах звенело, видимо от волнения, вызванного внезапным арестом.
«Вот и приехали», – кисло усмехнулся боярин, присаживаясь на край лавки, залосненной многими сидельцами, пребывавшими до него в этой вонючей темнице. Лавка, накрепко приделанная к стенке, видимо, служила арестантам ложем.
Через крохотное зарешеченное окно под самым потолком едва пробивался дневной свет, не освещавший даже столика, приделанного к стене под окном.
Потянулись долгие, тягостные часы заключения. Устав сидеть, Шереметев встал, решил походить по камере, но вскоре был вынужден отказаться от этой затеи – настолько была мала и тесна темница. Дородный боярин то и дело упирался в стену, ушиб коленку об лавку и решил опять сесть. Потом прилег. Было жестковато, непривычно, но для человека военного терпимо.
Борис Петрович, прикрыв глаза, думал: где же он дал осечку? Указ царя, напутствуя его, сообщал, что-де едет он «ради видения окрестных стран и государств и в них мореходных противу неприятелей Креста Святого военных поведений, которые обретаются во Италии даже до Рима и до Мальтийского острова, где пребывают славные в воинстве кавалеры».
Царь отбыл с Великим посольством 10 марта 1697 года, а вот Шереметев не спешил. Подгонять, поторапливать его было некому, поскольку его грядущая поездка держалась почти в тайне. Помимо царя знал о ней лишь хозяин Посольского приказа Лев Кириллович Нарышкин, изготовлявший вместе с Петром представительские грамоты. Именно он и спросил Шереметева:
– Ну и когда же, Борис Петрович?
– Как потеплеет, – отвечал боярин и добавлял со значением: – Как государь изволил приказать.
– Так ведь май уж на дворе. Куда тебе еще теплее?
– Собираюсь я, Лев Кириллович, собираюсь. Через недельку, може, и тронусь.
Но прошла одна неделя, другая, третья… и наконец 22 июня двинулся в путь-дорогу Шереметев в сопровождении сонмища слуг и лакеев. Но и в дороге не спешил Борис Петрович. Заехал сперва в свою коломенскую вотчину, куда созвал всю родню ближнюю и дальнюю, с которой пил-гулял три дня, выслушивая хвалы в свой адрес:
– Молодец, Борис Петрович, сам прославился и нас прославил перед государем. Твое здоровье!
Гулял бы еще, но дворецкий Алешка Курбатов напомнил своему господину:
– Нас Европа ждет, Борис Петрович.
– Ишь ты, какой дорогой гость для Европы сыскался! – усмехнулся боярин. – Успеем еще.
Однако на следующий день велел трогаться.
В пути, радуясь дороге, Алешка хвастался Савелову – адъютанту Шереметева:
– Видал? Послушался меня, не гляди что боярин.
– А Европа что? На юг, что ли? – спрашивал Савелов. – Она, брат, на западе.
– Ну и что? Стало быть, с заворотом едем.
– На Орел, брат, правимся.
– Почему?
– На кромскую вотчину.
– Неужто заедем?
– А ты как думал!
– Ну, в Кромах ему чего задерживаться, родни никакой.
– Тут ему больше чем родня…
Слушая болтовню своих слуг, доносившуюся до его ушей хотя и в обрывках, но понятную, посмеивался в душе Борис Петрович: «Ишь ты, начальник еще мне сыскался! Ну, ужотко погодь!»
Приехав в свою кромскую вотчину, едва перекусив, боярин сказал управляющему Ильину:
– Ну, Устин, кажи, чего тут нахозяйничали.
Тот знал, чем порадовать хозяина.
– Яблонька ноне опять жеребая.
– Да?! – с удовлетворением молвил Борис Петрович. – Кем покрывали?
– Опять Арапкой, Борис Петрович.
– Это хорошо. Молодцы. Идем посмотрим.
Они отправились на конюшню. Шереметев шагал широко, но с достоинством, неспешно. Устин семенил рядом, ловя взгляды боярина, каждое слово его.
Старик конюх, увидев хозяина, откинул лопату, сорвал с головы шапку, поклонился низко:
– Здравия тебе, дорогой Борис Петрович.
– Здравствуй, Епифан. Где Яблонька? Кажи.
– Яблонька-то? Она вон – в своем деннике, токо что овса ей всыпал.
Кобыла, получившая свое прозвище за «яблоки», рассыпанные по ее серой шерсти, стояла в загородке, уплетая овес. Шереметев вошел к ней в денник, ласково потрепал по загривку. Она покосилась на него огромным глазом.
– Ух ты, умница моя! – молвил почти нежно боярин и, повернувшись к Епифану, спросил: – Когда ожидаете?
– Да недели через две должна ожеребиться.
– Ежели будет жеребчик, назовите Таганом.
– Хорошо, Борис Петрович, – согласился Епифан. – А ну дочку принесет, тоды как?
– Пусть будет Таганка.
Все это вспоминается Борису Петровичу в тесной темнице, греет душу. Особенно воспоминания о лошадях, уж больно любит он их. Оно и понятно: для него, воина, конь на рати – первый помощник. Сейчас, мысленно посчитав дни, думает: «Наверное, ожеребилась Яблонька, третья неделя пошла с того. Таган, поди, взбрыкивает около матери, тычется в пах ей, за соском тянется».
Шереметев прикрывает глаза, хотя в камере и так темно, представляет себе милую картину – жеребеночка, сосущего кобылицу.
«И ведь никто не спросил, почему Таганом назвал. Впрочем, если б спросили, все равно бы не сказал. Пусть будет моим секретом». Хотя какой уж там секрет, Борис Петрович жеребенка в честь татарской крепости назвал на Днепре, которую он взял прошлым летом штурмом, выбив оттуда крымцев.
Хотел взглянуть на Арапку и других верховых лошадей, но оказались они на выпасе в лугах. В конюшне в дальнем конце лишь рабочие были. Зашел и к ним боярин и тут заметил на одном сбитую холку. Подошел ближе, присмотрелся, построжал.
– Эт-та что такое? – обернулся к Епифану.
– Прости, Борис Петрович, недоглядел.
– Кто это натворил?
– Да Минька, стервец, седелку не так затянул.
– Петро, – взглянул боярин на адъютанта, – всыпь этому Миньке двадцать плетей.
– Сейчас? – удивился Савелов.
– Да, да. И здесь же, при конях. Он думает, они не понимают, бессловесные. Они все понимают, сказать не умеют.
И через четверть часа взвыл на конюшне Минька, принимая заслуженную кару.
Утром пригнали с луга Арапку – вороного жеребца, стройного, высокого. По велению боярина заседлали. Епифан сам взнуздывал его.
– Ишь ты, не хочет после воли-то железа в зубы. Ничего, ничего, Арапка, потерпи, не облезешь, – уговаривал конюх дрожащего от волнения и избытка ощущений коня.
Борис Петрович подошел, ласково огладил тугую пружинистую шею животного.
– Ах ты, моя умница! Поди, забыл уж? Забыл. Ну ничего, сейчас вспомним.
Забрав поводья у конюха, ухватился за луку седла, сунул левый носок сапога в стремя и мигом взлетел на коня. Натянул поводья, поднял Арапку в дыбки и тут же пустил внамет {19} по улице села.
Епифан с восторгом глядел вслед, цокал языком восхищенно:
– Ай да молодец Борис Петрович! Орел!
– А ты думаешь зря ему царь конницу под командование отдал? – говорил Устин. – Не абы кому, а ему.
Шереметев проскакал далеко за село, за дальние бугры, потом воротился и уже на въезде в село перевел коня на шаг. Заметил какую-то суету. Подъехав к своему двору, спросил Управляющего:
– Что случилось, Устин?
– Волки корову в поле зарезали.
– Волки? – насторожился Борис Петрович.
– Прям замучили. Мало им летом зверья в лесу, на стада нападают.
И все. Забыл Борис Петрович про командировку, тут же приказал собирать охотников, вооружать всех. На следующий День началась на волков охота, на конях со злой сворой собак.
И гонялись за ними, стреляя, забивая плетьми, почти всю неделю, пока не выбили весь выводок.
Нетерпеливому Алешке Курбатову, опять напоминавшему боярину, что их «ждет Европа», Борис Петрович отвечал:
– Ничего. Пусть поскучает.
Наконец отъехали, и когда приблизились к польским границам, собрал Борис Петрович всех своих спутников и объявил им:
– Запомните, отныне я не боярин, а ротмистр {20} Роман и являюсь вам товарищем равным всем.
– А как нам теперь вас называть, Борис Петрович? – поинтересовался адъютант Савелов.
– Поскольку въезжаем в Польшу, так и зовите меня: пан Роман или пан ротмистр.
Но на первой же заставе попался въедливый войт градский {21} . Ему слишком подозрительной показалась эта команда «равных товарищей», в которой явно выделялся белокурый и голубоглазый ротмистр. И тут один из его «равных товарищей» назвал его боярином.
«Угу. Шпек [1]1
Шпек – шпион, лазутчик.
[Закрыть]», – смекнул догадливый войт и тут же приказал арестовать голубоглазого и запереть в тюрьму.
Борису Петровичу показалось, что его кто-то позвал. «Помстилось», – подумал он. Однако сверху опять донесся громкий шепот:
– Борис-с-с Петрович-ч…
Шереметев сел, спросил:
– Кто там?
– Это я, Савелов, – донеслось из окна.
– А-а, болтун несчастный.
– Но я ж нечаянно, Борис Петрович. Простите. Сорвалось, с кем не бывает.
– У тебя сорвалось, а я в кутузке оказался.
– Нас всех задержали, Борис Петрович. Алешка кое-как вырвался, ускакал.
– Куда? Как ему удалось?
– Да сунул три рубля сторожу, тот и отпустил его. Так что вы не переживайте, мы будем стараться.
– Ну ты уж постарался, Петьша, сунул в клоповник. Спасибо.
– За-ради Бога, простите, Борис Петрович. Спите спокойно. Выручим.
Однако уснуть в эту ночь Шереметеву не скоро удалось. На него дружно насыпались клопы. Не имея огня-света, он ощупью ловил их, давил, как мог, расплющивая то на стене, то на ложе, то на собственной груди. Но их не убывало. Наоборот, казалось, прибывало того более.
Лишь когда забрезжил в оконце новый день, удалось задремать измученному боярину. То ли клопы насытились, то ли свет их разогнал, расползлись твари по щелям, унося во чревах капли русской крови. У-у-у, ненасытные!