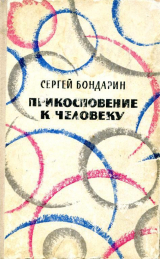
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
– Нет, не приходилось. Но, – начал было Бровченко, – Колодного и сейчас знают все…
Иван Трофимович, как бы не замечая готовности капитана рассказать все, что ему известно о прославленном атлете, приветственно, как на арене, поднял руку.
– Очень рад был познакомиться, дорогой. Очень, очень рад! Ну, поезжай, голубчик.
Дрожки тронулись. Рыжий лохматый песик побежал за ними.
На соборной колокольне пробило полночь. Удары колокола далеко разнеслись над Дунаем.
Бровченко вступил в дежурство по рейду.
Безлунная ночь шла спокойно, но перед рассветом со стороны плавней правого берега послышались ружейные выстрелы. Дежурный сторожевик вышел на стрежень. Через некоторое время Бровченко доложили, что задержана лодка с перебежчиками.
В лодке оказались два молодых человека и девушка. Один из перебежчиков был ранен. Бровченко потребовал к себе второго.
Вошел рыжий гигант. Бровченко ахнул, увидев перед собою человека, портрет которого вчера подарил ему экс-чемпион.
Все рассказанное молодым гигантом было правдоподобно. Он задержался на правом берегу, чтобы вывезти из Тульчи невесту. Девушка с ним. Рыбак с Сулина, согласившийся перевезти их, ранен в тот момент, когда лодка отплывала. Рыжего гиганта звали так же, как отца, Ваней, теперь Бровченко вспомнил, что и отец Кадыкин в молодости был рыжим.
ВОЛНЫ ДУНАЯ
Может быть, в прежние времена вам уже случалось хвалить дунайскую сельдь. Но не только сельдью богато Вилково.
В доме вилковского рыбака перед вами поставят большую глазированную миску с теплой осетровой икрой, да блюдо сахарного лука, да другое, длинное узорчатое блюдо с искусно поджаренной севрюгой, да чашку, наполненную необыкновенно пахучим соусом из кореньев, секрет которого вилковцы берегут с шестнадцатого столетия, да круто замешенный тяжеловатый хлеб и, наконец, высокий кувшин с бессарабским вином, принесенный из ледяного погреба.
К Вилкову лучше всего подъезжать по Дунаю – сверху. После обрывистых берегов Измаила, после просторного Килийского плеса, замедлившего течение реки, Дунай, как бы наверстывая упущенное, становится совершенно бешеным: то тут, то там пузырятся водовороты, напоминающие днище огромных бутылок. А над пенистым потоком реки все больше кружится птиц, у берегов, где струя омывает то иву, то вербу, все больше лохматых парусов, и вот уже на первой соломенной крыше, блеснувшей из-под зелени, темнеет голубятня рядом с круглым, как опрокинутая шляпа, гнездом аиста.
До Черного моря плыть бы еще километров шестнадцать. Но Дунай растекается здесь множеством ериков – так, по-казацки, зовут здесь узкие рукава дельты, – по ерикам до моря гораздо ближе, чем по Килийскому рукаву.
Запахом дыма, разогретой смолы да рыбьих потрохов обдаст тебя, как только ты с осторожностью введешь свое судно в Белгородский канал, застроенный глубокими, темными, холодными лабазами.
К сваям набережной и к мостам, высоко перекинутым над каналом, пришвартованы десятки судов и лодок – особые вилковские лодки, густо просмоленные, одинаково остойчивые на морской волне, поворотливые в тесных водах ерика.
Сюда, в канал, раздвигая рыбацкие лодки, вошел наш катер, доставивший рыбников, а с ними и меня.
Я ступил на берег, не зная еще, какая подстерегает меня удача. Был конец июля. Месяц тому назад Красная Армия вошла в Бессарабию, и мало того, что с часу на час ожидались первые дубки из Одессы со знатными рыбаками Черноморья, солью и снастью, – в Вилкове ждали прославленного земляка, героя гражданской войны, красного генерала Семена Стороженко. Мне предстояло увидеть эту встречу командующего с земляками.
– Да ты, милый, знаком ли с ним? – спросили меня в исполкоме и, выслушав, отвели в дом отца Стороженко.
Восхищенное и почтительное ухаживание за гостем из Москвы началось за глиняной миской, наполненной черно-коралловою икрою. Роман Тимофеевич, отец Семена, был старик сильный, с громким голосом, и, глядя на отца, я видел крупную стриженую голову Семена Романовича, с которым мы встречались не раз, его холодный взгляд и неожиданно широкую, радушную улыбку. Старуха у них померла. У стола прислуживала сестра Семена, Ольга, которая родилась уже после того, как Семен пошел служить в армию. Во внешности девушки решительно ничто не напоминало Семена Романовича.
Она прошла к столу, как будто никого больше в комнате не было, но я любовался каждым ее движением. Она внесла и поставила кувшин. И какая-то чарующая сила и женственность удивительно сказывались в этой манере двигаться и в нежной матовости лица. Такой же яблочной матовости были шея и грудь. И только темная прядь волос, выглянувшая из-под края косынки, была так же неожиданна, как неожиданной казалась улыбка на суровом лице ее брата.
Фотографии генерала, вырезанные из газет, наклеивались на стену рядом с киотом, где мерцал синий огонек лампадки.
Угощая меня, Роман Тимофеевич сам не ел и только прихлебывал мутноватое охлажденное вино. Он высоко поднял голову, видимо гордясь своим сыном, не уставая, однако, угощать, – было бы гостю удобно, вкусно да сытно!
Я сразу почувствовал неловкость, когда между слов похвалил опрятный двор соседа. На соломенной, потемневшей с летами крыше, подобрав ногу, хозяйственно озирался аист, а по двору у самого ерика были развешаны сети, уложена снасть, выставлены бочонки, корзины и такелаж с такой заботливостью, что всякому стало бы весело.
Не все ли мне равно, однако, чей это двор? Я уж и не выглядывал за окно, но беседа была нарушена.
Нахмурившись, хозяин сказал:
– Красного партизана Ерему Прахова, пожалуй, тоже знавали?
Я отвечал, что такого не знаю.
– Ну то-то же! Где всякого знать? Хотя в армию они ушли вдвоем с Семеном. Говорят, убит Еремей на гражданской войне. А этот двор – Еремеева отца, Мстислава Прахова. Первый разбойник, хотя старик. Он и сейчас, наверно, заводит под меня сеть, зевать не приходится.
– Да что так, Роман Тимофеевич?
Но старик сурово встал и, извинясь необходимостью, ушел в исполком: там отбирались лоцманы для встречи первого каравана дубков, идущего из Одессы за рыбой и для смычки с дунайскими рыбаками.
Мы остались в избе с Ольгой.
– У него и дочь кинулась в Дунай, – сказала девушка.
– У кого?
– Да у Прахова.
– С чего же это?
– Любила молдаванина, – ответила Ольга, вдруг по-тупясь. – Как выдать дочь за молдаванина?
Дальше история рисовалась в таком виде. Дочь соседа любила умелого, веселого рыбака, но рыбак этот был молдаванином. У девушки и мысли не могло возникнуть идти поперек отцовской воли. Оставалось одно: умереть. Как решили, так и сделали. Отплыв на стрежень в лодке и связавшись веревкой, они бросились в Дунай. Но, надо полагать, веревка соскользнула или размоталась – парень в полубесчувствии выплыл на берег. По словам Ольги, он видел лицо любимой девушки под водой, стараясь ее спасти; в открытых глазах утопающей была одна жестокость решимости. Так изображала эту смерть Ольга.
– Да откуда же все это известно? – спросил я.
– Известно, – отвечала Ольга. – Мне-то уж известно.
Послушная распоряжениям отца, она прикрыла окна притвором и, наполнив кувшин свежим вином, оставила меня в дневном мраке горницы, перед чистой постелью.
Прошлую ночь, трясясь в теплушке между Кишиневом и Белградом, я совсем не спал. Дунайский зной, не поколебленный ходом катера от Измаила до Вилкова, а потом добрые кварты вина, выпитые с Романом Стороженко, разморили меня, и я даже не пробовал бороться с искушением прилечь.
Проснувшись, я долго не мог понять, где нахожусь, но незабываемое состояние очарованности понемногу нарушилось: доносились смешанные запахи рыбы, лампадного масла, трав, и вот я вспомнил и лабазы, и сети, развешанные по дворам, и темную зелень на берегах.
В горнице тихо. В керосиновой лампе под колпаком едва теплился глазок света, потрескивал фитиль в лампадке.
Мне показалось, что рядом кто-то дышит, и, не желая никого тревожить, не прибавляя огня, я неторопливо собрался и вышел из горницы.
Наружную дверь я угадал по свежей струе воздуха, и на дворе и в сенях было одинаково темно. Небо заволокло. Ветер шумел в деревьях. Он дул с востока, неся с собою сырость морских пространств.
Начиная различать пятна деревьев, кусты, дома и сараи, я подошел к невысокой ограде, ограждающей двор от двора, когда с крыльца скользнула какая-то фигура. Чем-то позванивая, женщина перекинулась через ограду, пошла по чужому двору в сторону ерика.
Прислушавшись, я узнал голос Ольги.
– Заснул, что ли? – спросила она.
И тотчас же с воды ерика ей ответил мужской голос:
– Я жду, а ты все нейдешь, все нейдешь… Уже скучно стало.
– Дай руку, – сказала Ольга. – Протяни сюда. Сюда. Ну вот. Достал?
Раздался смех мужчины.
– Ольга, – сказал он, – ты что же не надеваешь туфли на высоких каблуках? Я все жду, когда наденешь… А?
– Да когда же надеть их? Отец все смотрит, засмеёт.
– Да кто же, ей-богу, теперь смехов на себя захочет? Да кто же теперь станет нам поперек?
– Да кто? Да все отец.
– Отец ждет твоего брата. А придет брат – я к нему и пойду, он коммунист.
– Семен меня и не знает, должно быть.
– Он коммунист, он не может дуралешить, как вилковские. Молдаване теперь на одних паях с другими.
– Коста! – оживилась Ольга, – У них не в церкви венчают – так как же?
Молдаванин не ответил. Он, должно быть, стоял в лодке, в вилковской лодке, похожей на гондолу, подняв руки к Ольгиным коленям, и она грела его ладони. Все громче плескалась вода, ветер дул как раз по ерику, лодка постукивала о глинобитную стенку.
– Ты опять ставишь заговор? – спросил молдаванин.
– Да, – отвечала девушка.
– Нехорошо это, ей-богу. Прахов – первый рыбак. Нехорошо желать ему беды.
– Да я бы и не ставила, все отец велит. Он, захмелев, спит, а на заре, наверное, пойдет проверить… А тебе Прахова все жалко, а?
– Эх! – почти выкрикнул Коста, – Мне тебя жалко. Ну, отпусти, Ольга, меня председатель разыскивает…
Опять стукнула лодка, послышался шорох и легкий всплеск, и трудно было решить, поцелуй это или плеск воды.
– Погоди, Коста, – взволновалась Ольга. – Говорят, завтра уйдут лоцманы… И ты тоже?
– С Праховым, что ли, или с твоим отцом?!
– Да ты не серчай, Костати. Погоди, ну, постой тут.
– И, нет. Прощай.
– Значит, я понимаю так: у тебя другая причина.
– Причина одна: обидно мне все по стенке пластаться. Да и то не дотянусь до тебя.
– Господи! Что же делать? – прошептала Ольга. – Как далеко пойдут лоцманы? До самой Одессы?
– До Бугаза.
– И то бы вся ночь, Коста! – как бы в отчаянии простонала Ольга. – Вся ночь, Костати, когда бы отец пошел лоцманом.
И столько было в этом голосе страстного сожаления, что раздавшийся вслед за этим смех молдаванина, хотя и ласковый, прозвучал как грубость.
Смеясь, молдаванин проговорил:
– Ну, а если отошлют отца, не сробеешь?
– Да у нас гость, Коста, дожидается Семена…
В смущении, стараясь не обнаружить себя, я уже плохо слышал, что сказал Коста, отчаливая.
Потом мои мысли сосредоточились вокруг Мстислава Прахова, которого я еще не видал, но о котором уже успел услышать столько противоречивого. О каком «заговоре» толковал, однако, молдаванин? Почему Ольга, простившись с Костой, направилась не к себе, а к дому соседа?
Уже давно затих скрип весла, лишь у берега продолжала плескаться растревоженная ветром вода, на востоке кое-где уже обозначились очертания облаков. Я вернулся в горницу и вскоре снова заснул под шум акаций.
Утром меня разбудило кудахтанье кур. Ветер по-осеннему задувал в окна, на столе был приготовлен завтрак, но я недаром торопился, боясь упустить что-либо из необычной жизни вокруг меня.
На пороге, перебирая бредень, сидел какой-то мальчик.
– Роман Тимофеевич велели вам обедать, – сказал он.
– А где Роман Тимофеевич?
– Пошли с милиционером.
– А Ольга?
– Все пошли в примарию[1]1
Примария – местное управление.
[Закрыть]; Ольгу изловила Анна Матвеевна.
Не случись того, что случилось, я уже едва ли застал бы рыбаков в исполкоме.
Черные лодки с подобранными парусами покачивались на канале. Ветер продолжал шуметь и хлестать вербой, трепетали ветки акаций, за которыми поднимались церковные купола с толстыми староверческими крестами над полумесяцем. Настойчивый колокол звал к обедне, но толпа не трогалась. Рыбаки стояли полукругом, многие в рубахах, без пояска, почти все – борода по грудь, широкоплечие и слегка сутулые, похожие на Пугачева, тучные и усатые, похожие на гоголевского Тараса. Белели женские косынки, встречались фуражки бойцов погранотряда.
Роман Тимофеевич Стороженко с дочерью выступили вперед, к столу, за которым сидели председатель исполкома, комиссар погранотряда и двое рыбаков. Перед ними были сложены какие-то странные предметы: не то клюка, не то кочерга с навешенным бубенцом, раскрытый мешочек с землею.
Обстановка походила на суд; чинили допрос Стороженко.
– Ведь ты, Роман Тимофеевич, побудил Ольгу? – спрашивал председатель и сам себе отвечал: – Побудил, – потому что Стороженко тяжело дышал, не откликаясь. – Как же ты, Роман Тимофеевич, отец героя, генерала Стороженко, как ты, старый рыбак, осмелился заклинать неудачей Прахова? Задание у вилковцев незаурядное! Мы ждали этого дня двадцать два года, а ты, стало быть, хочешь препятствовать. Неча твоей совести это не тревожит?
– Не Праховым спокойна моя совесть, – угрюмо сказал Роман Тимофеевич.
Покосившись на комиссара, председатель встал и, волнуясь, вышел вперед.
– Не знаю, на какую работу твой мозг поставлен. – И, морщась, покачивая ногою обломок, на котором зазвенел бубенец, продолжал: – Голова! Что пользы от этой рюхи!
И вдруг закричал:
– Не будет больше этого ни на чьем дворе! Попробуй-ка! Кого же это вы пугать желаете? Стало быть, самого Семена Романовича? Вот как выходит дело: не умом решать, а ума лишать. Высыпайте мешочки в ерик! Раздавайте бубенцы детям! Сверху крышка. Стыд-то вон какой! – председатель повел рукою, показывая на комиссара и на бойцов. – За чем нас товарищи застают?
И снова, обращаясь к Роману Тимофеевичу?
– На какую работу мозг поставлен? Нужно – и тебя пошлем лоцманом, а не нужно – никаким заговором не осилишь!
– Бородатый – не я начинал, – проговорил Роман Тимофеевич. – Да и Анна Матвеевна глаз не сводит с моего дома, дурной глаз и во сне сверлит.
– Сверлит?
– Сверлит, – отвечал Стороженко.
– А знаешь ли ты, чего Анна Матвеевна все выглядывает? Думаешь ли ты о том, что вместе с Семеном Романовичем мог бы сегодня приехать Еремей Прахов? Помнишь ли ты, голова, об этом?
– Еремея я помню, – сказал Стороженко.
– Помнишь?
– Помню.
– А коли помнишь, соображай, почему Анна Матвеевна не уходит с крыльца…
– Еремея я помню, – повторил упрямо Стороженко.
– Все помнят Еремея Мстиславича, – в несколько голосов сказали из толпы, и тут же кто-то добавил:
– Вместе они пошли в Красную Армию, да вот порознь вернулись. А Еремей Прахов был бы рыбак в отца.
– Да разве я хуже рыбак, чем Праховы? – воскликнул тут Роман Тимофеевич. – Почему же бородатому атаманить? Не потому ли как раз, что мой сын в Красной Армии дослужился до генерала?
Белобородый, рослый, румяный старик с насупленными бровями и крупным носом – один из судей, – встав, ударил по столу кулаком.
– Ты, за сыном прячась, не стрекай, не приседай! – сердито закричал он. – Сам-то каков? Ишь казак – по соседским дворам казаковать… Семена Романовича мы помним, знаем, у кого голова, а у кого варка… Казак!.. Ольгу оберег бы хотя…
Ольга стояла покачиваясь, заливаясь слезами, прикладывая к глазам концы косынки. Белобородый наступал на отца с дочерью, но председатель оттеснил его, приговаривая:
– Успокойся, Мстислав Родионович.
– Да что же пустопорожниться! – выкрикнул кто-то из толпы. – Арештовать Стороженко надобно.
И тогда, отвечая на вопросительный взгляд председателя, привстал комиссар. Тотчас же головы повернулись к нему.
– Это правильно, что высказываются, – сказал он, – вместе жили, вместе наживали, вместе и судите. Арестовать? Что же. Может, и арестовать придется. Сотворил – получай заслуженное. Но сами знаете – тут есть одна щекотливая сторона…
Он помолчал, сел за спиною председателя, но через плечи соседей в толпе продолжали разглядывать комиссара, который подсказал председателю:
– Заканчивайте, пожалуй.
За это время пришли во двор гончары с гончарным своим товаром, бабы, торгующие пирогами и калачами, окрестные гагаузы в черных широкополых шляпах, в серых жилетках над малиновыми кушаками – продавцы овечьих шкурок, хозяйки, вышедшие на рынок за молоком, помидорами, огурцами. Во дворе сделалось тесно.
Заканчивая допрос, председатель обратился к Мстиславу Родионовичу:
– Так что ж, Родионович? Что скажешь? Пойдешь ли с молдаванином? Третьего, стало быть, нету, кто ведал бы очаковский фарватер, как эти – молдаванин и Роман Тимофеевич… Судим по-запорожски…
– Ты, что ли, тут запорожец? – закричал Роман Тимофеевич, окончательно гибнущий. – Это ты запорожец-то?
Из-за стола снова поднялся Прахов:
– Я и один пошел бы, а ежели между двумя выбирать, так лучше уж с молдаванином.
– Арештовать Стороженко! – сердито повелел председатель.
Подойдя позже ко мне, он сказал, что если я согласен остаться в доме у Стороженко, то Ольга позаботится, чтобы мне было удобно.
Толпа расступилась, открывая вид на канал, и я увидел Мстислава Прахова и молдаванина Косту – молодого, черноволосого, с загорелым веселым лицом. Оба в треухах и брезентовых плащах… В лодках сидело по лейтенанту. Лодки приближались. Под плащом у Косты мелькал шерстяной малиновый кушак, молдаванин ловко на ходу поднимал парус. Мстислав Родионович еще выслушивал наставления комиссара, но в эту минуту лодка Косты с напруживающимся парусом медленно обошла передовую, и старик, покосившись в ее сторону, сердито отмахнулся от комиссара и крикнул со стариковской заносчивостью:
– Товарищ! В челноках хаживали до Константинополя… А дойдем и сегодня, не так ли?
Паруса, набирая ветер, уносились среди плещущей волны, и ветер все крепчал. Облака размело, очень высоко в синеве кружились голуби, и за них было боязно: как эти птицы выдерживают на страшной высоте такой сильный ветер? Обедня давно закончилась, но все же время от времени от порыва ветра на колокольне раздавались звоны.
Приспело время обеда, Вилково обезлюдело.
Дома я застал плачущую Ольгу. Романа Тимофеевича заперли на замо́к в его же сарае, и он не откликался ни на какие призывы дочери.
Колокола звали к вечерне, совершалась суровая староверческая служба. Перед иконами византийского письма затеплились огоньки, но церковь была почти безлюдной.
В сумерках потухали кресты на куполах и золоченая тяжелая вышивка на рушниках, разложенных на площади рынка.
Но торг затих, женщины, дети и старики толпились у говорящего ящика.
Бородачи в устойчивых и свободных позах, скрестив на груди руки, выставляя вперед ногу, стояли – кто опустив глаза долу, кто, напротив, запрокинув голову. Они стояли и час, и другой, и третий, вслушиваясь в русскую речь, передаваемую по радио.
Я призвал Ольгу сюда. Желая, по всей вероятности, оправдать в моих глазах поведение отца, она рассказывала мне историю вражды Стороженко с Праховыми, говорила она проникновенным, певучим шепотом и, сама того не замечая, время от времени трогала мою руку своею…
Думаю, что девушка никогда прежде не жила такою быстрой жизнью.
А история вражды Стороженко к Праховым – это лишь одна из многих историй, связавших вилковские дворы.
Праховы вели свою родословную от времен Алексея Михайловича, в царствование которого они ушли на юг, не смирившись перед Никоном, его наваждением. Стороженко могли точно назвать всех отцов и дедов до самого того страшного года, когда Екатерина рассеяла Запорожскую Сечь. Не желая уступать в родовитости своим соседям, Стороженко измыслили свою родословную выше – довели до какого-то Сторожа-москаля, якобы несшего службу в степных окраинных постах еще при Шуйском. Однако туманным домыслам верили плохо.
Усмешка обижает. Обидела она и Ольгу с отцом.
Как бы припоминая что-то, она провела рукою по лбу.
– Ведь и к воде-то Праховы вышли, оттеснив Стороженко.
Я не знал, что значит «выйти к воде», Ольге пришлось объяснить это. Многие дворы, что лежат сегодня у берега, укреплены трудами людей, которые из поколения в поколение, подобно птицам, сносящим для гнезда пух, ветки, солому, сносили на свои участки ил, песок и камыш, при том же отстаивая силой выгодный участок от покушения со стороны. Вот каким образом уже лет пятьдесят, а может, и все сто Стороженко оттеснены от ерика искусственным двором Праховых. Соседям это удалось сделать потому, что у них всегда было больше мужиков, чем девок. Только сегодня так складывается, что Мстислав Родионович с Анной Матвеевной, наказанные богом, не чают возвращения сына, и, надо полагать, Семен Романович, брат Ольги, красный генерал, восстановит наконец правду. Не так ли?
– Ты поверишь брату? – спросил я.
– А как же не верить? Семен не станет дуралешить, он коммунист. Но беда ведь!
– О чем ты?
– Стыдно: отец в сарае…
И она огляделась, зардевшись.
Ее нежный висок, лицо в профиль с глазом, затененным ресницами, склонилось над плечом, я слышал ее дыхание. За головой Ольги, как на медали, очерчивались прямые, высоколобые профили бородатых мужиков, сухощекие, усатые, со вздернутыми по-казацки бровями. И каждая голова, в которой была своя дума, свое рассуждение, свой суд, была обращена в сторону, откуда текла русская речь – желанное, долгожданное разъяснение, назидание, – речь, снова притягивающая эту плотную многоголовую толпу к потерянной, но возвращенной отчизне.
Ящик, уже невидимый в темноте, как бы заговаривался от утомления, сбивался, хрипел, вдруг уступая человеческие голоса каким-то пронзительным шумам – быть может, все тем же упорным ветрам, носящимся над городком, и опять с полуслова вел дальше разговор с толпою, в которой были и лавочники, и еврей-аптекарь, и краснофлотцы, и учитель, и мальчики, прижавшиеся к волшебному ящику. И когда среди длительного этого соединения с толпой Ольга вдруг отняла руку, было у меня такое чувство, будто опять, проснувшись, я не знаю, где нахожусь.
– Позвольте, я уж пойду, ведь отец не обедал…
А я, как на церковной службе, когда нельзя уходить раньше, чем тронутся взрослые, я простоял вместе со всеми до шумов, донесшихся с Красной площади, до последнего звука «Интернационала», вдогонку которому опять прозвонил на колокольне колокол, тронутый ветром.
После этого люди разошлись с почтительностью и верой, хотя и не было сказано об утреннем суде в Вилкове или о выходе рыбаков в море.
В темноте я не без труда нашел дом Стороженко. Приостановился, заслышав возбужденные женские голоса.
– Постыдились бы на люди показываться! – восклицала женщина, должно быть, оттуда, со двора Прахова. – Тебе перед иконой стоять, а не радио слушать, анчутка. Тебе бы свой двор подместь, а не по чужим дворам разбойничать. Брат приедет, а у вас бредень и тот не зачинен. У тебя куры и те плешивые…
– А вы все глаз не сводите с чужого двора, – отвечал голос Ольги. – Мало, видно, своего. Соглядатай!
– Мало, видно, для добра, для зла много, – откликался голос из-за ограды.
– И вы бы, Анна Матвеевна, лучше богу молились: на море буря. Не за мною вам присматривать… Не сноха я вам.
– Горе мне было бы, кабы ты мне снохою пришлась. Ты уж тяни, как тянешь, за молдаванский ус. Думаешь, люди слепы?
– Эй, Анна Матвеевна! – прогрохотал тут голос из сарая. – Эй, Анна Матвеевна, бога побойся, вспомни свое горе! Чего мелешь-то?
– Не тебя ли мое горе греет?
– Мне горе, а не вам! – вдруг закричала Ольга. – Это на меня чужую, стороннюю обузу взвалили. Не жить мне тут с вами, только Семен приедет. Не выдержу, не вынесу с вами…
Ольга побежала со двора.
Растерявшись, я вошел в дом, а Роман Тимофеевич все еще кричал из сарая:
– Я ли это пошел с молдаванином на дубки? Гляди, запорожцы назвались! Один только есть теперь запорожец, только один, и нет больше! Один лишь Семен Стороженко – вот кто действительный запорожец. Кого по России знают? Прахова? Стороженко?..
– Отец, где ты? Да ты ли это кричишь? – Мужской громкий, веселый голос послышался на дворе, и через минуту, наклонившись под притолоку, ступил в горницу Семен Романович Стороженко и остановился в дверях, оглядывая меня, зажигавшего лампу. – Ищу Романа Тимофеевича, – не узнавая меня, сказал Стороженко.
– Надо бы отыскать Ольгу, – отвечал я.
– Где же Оля? Где она?
Лампа разгорелась, и Стороженко разглядел меня, но, разглядевши, удивился молчаливо и холодно…
Между тем на дворе замолкли крики Романа Тимофеевича, слышался только шум деревьев, потом разнесся голос Анны Матвеевны.
– Ольга! – крикнула она. – Ольга, поди сюда… Гляди, Семен приехал… Ольга!
– Кто это кричит? Я объяснил.
Щеки у Стороженко растянулись неожиданно добродушной улыбкой.
– Ах, Анна Матвеевна! Старуха жива? А Мстислав Романович?
– Жив и он.
– Однако где же отец? Я его голос слыхал.
– Роман Тимофеевич в сарае, – оставалось сообщить генералу.
Не следовало бы мне в эту минуту быть в этом доме!
Адъютант Семена Романовича внес портфель и чемодан. За окном вспыхнули и потухли автомобильные фары. Быстро вбежала на крыльцо Ольга, приостановилась и шагнула дальше. Стороженко обернулся к ней, она присела, опустилась на колени.
– Выйдите, Топорков! – обратился к адъютанту Семей Романович, и мы вышли вместе с адъютантом.
Когда я проходил возле сарая, там было тихо, совершенно тихо, даже не слышно было дыхания, а в горнице уже раздавался такой же, как у отца, громкий, горячий, взволнованный, утешающий голос Семена Романовича. Да на своей половине рыдала Анна Матвеевна…
Я ушел к берегу Дуная и до рассвета, то забываясь, то снова открывая глаза, просидел под плетнем, защитившим меня от ветра.
Беспокойно хлестала идущая против течения волна, но вдруг все успокаивалось, и тотчас же с новой силой и всегда в другом направлении раздавался всплеск, похожий на удар баркаса брюхом по воде. Луна еще не зарождалась, с моря опять набежали облака. Все над Дунаем и по его берегам оставалось во мраке, покуда, как прошлой ночью, не обозначился на востоке рассвет.
Вот зачирикали воробьи, закудахтали за плетнем куры. В большом круглом гнезде, проснувшись, хлопнул крыльями аист. Из отпертых лабазов понесло залежами рыбы.
Еще до ранней обедни все Вилково было на пристани. Семен Романович Стороженко, его земляки и приезжие люди, вроде меня, все мы вышли к Дунаю для встречи дубков, ведомых Мстиславом Родионовичем и молдаванином Костой. Об их приближении Семен Стороженко узнал, когда еще ехал в Вилково из своего штаба, и поторопился соединить две встречи – с семьей и с первым караваном из черноморского порта.
Он выглядел озабоченным. Молчаливая, бледная, но радостная Ольга Романовна плавно ступала за братом и с виноватою улыбкою на губах оглядывала свою круглую, пышную юбку, отводила ее рукой, и тогда открывалась нога, обутая в туфельку на высоком каблуке. Семен Стороженко вел Анну Матвеевну, плечистую, как ее муж, старуху. Романа Тимофеевича не было видно, а комиссар погранотряда и председатель шагали рядом с Семеном Романовичем.
Дубки показались на помутневшем желтом, искрящемся под солнцем плесе в восьмом часу утра. Шли они против течения, но по ветру, взбивая брюхами пену, сильно накренившись. Хорошо знакомые дубки из Одессы, окрашенные в темные краски, шли под одними передними парусами, напоминающим огромные полумесяцы. Они шли один за другим, их было шесть.
Вилковские рыбаки запрудили набережную и низкие зеленые берега. Доносился колокольный звон. Бородачи стояли в добродушном молчании все время, покуда дубки, быстро сбрасывая паруса, один за другим пришвартовывались к пристани.
На переднем судне среди моряков виднелась фигура белобородого Прахова. С высокого борта он озирал набережную и, увидя Семена Стороженко в его золотистой генеральской фуражке, поддерживающего под руку Анну Матвеевну, снял свой треух.
– Здоров, дорогой старик! Ну, сходи быстренько! – прокричал Стороженко, весь охваченный впечатлением этой встречи. Недавнего выражения озабоченности как не бывало.
Фрате-Костати сошел с дубка, ошвартовавшегося вторым. Он быстро сбежал по сходне, почти не прогибая ее, недоверчиво глянул в сторону Ольги и ее брата и замешался в толпе. Семен Стороженко оглядел Ольгу, повел пальцами по бритой губе и улыбнулся из-под ладони, потом, устремляясь навстречу Мстиславу Родионовичу, по-отечески протянул к нему руки.
В это время голубятники выпустили голубей. Птицы кружились под хлопанье стравленных на дубках кливеров. Бородачи приветливо и солидно оглядывали суда, но посматривали и наверх, на птиц, снежно блестевших в синеве. А кто помоложе, те уже толпились под самыми брюхастыми бортами дубков, перекликаясь с матросами, веселыми балагурами из Одессы, с атаманами рыболовецких артелей, сухощавыми, выжженными солнцем дядьками, потомками запорожцев, что-то кидали им. Толпа перемешалась. Я уже не видел ни Ольги, ни Косты, ни Мстислава Родионовича. Лишь на мгновение я опять увидел Семена Романовича; он озирался, вероятно разыскивая меня, потому что, разыскав, крикнул:
– Возвращайтесь в хату обедать! Роман Тимофеевич там заскучал один.
Но мои рыбники собрались в обратный путь. К Стороженко я не пошел.
Думаю, что поступил правильно.
Все вовремя было пресечено. Мы вместе встретили дубки, а то, что случайно приоткрылось мне в семье Стороженко, конечно, должно было только смутить меня, невольного соглядатая… Зачем я там?
К тому же – как оглядеть все? Мог ли я дождаться исполнения того, что только лишь начиналось во дворах старого, полного птицы, рыбы и вербы, зеленого Вилкова, утомленно хранящего следы былых веков?
Нет, я правильно сделал, не убоявшись волны Дуная, тем более что образ сильной, нежной, чужой и приветливой женщины уже вызвал во мне снова боль утраты того, что и не было найдено.







