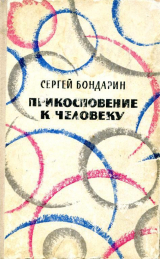
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
Обозревая панораму города, я сразу нашел глазом старый, когда-то окрашенный светлой охрой двухэтажный дом над спуском в порт. Дом на Карантинной был пока цел.
– Вы, кажется, одессит? – опять заговорил штурман. – Есть родственники?
Я попробовал ему в тон небрежно отшутиться:
– Из родственников у меня там остался только старый каштан.
– Как? Какой каштан?
– Дореволюционное дерево каштан. Его посадил мой усатый дедушка в день рождения моей матери.
Дорошенко рассмеялся. Дорофеев помолчал и, хитро поблескивая глазами, как бы соображая, насколько может быть важен человеку старый каштан на старом одесском дворе, проговорил:
– Едва ли к концу войны вы будете помнить этого родственника.
Ершов стоял тут же. Услышав наш разговор, он повел плечом и обернулся ко мне.
– Отчего же? Каштан так каштан, – примирительно сказал он. – А вообще, будет возможность – сходите.
Я взглянул на Ершова с подозрением: нет ли в этой его снисходительности одному мне понятной усмешки? Но решить этот вопрос не успел.
– Та це ж мий дом! – послышался не то изумленный, не то испуганный возглас.
Я оглянулся.
Краснофлотец Фесенко, побледневший, с приоткрытым от изумления ртом смотрел в сторону большого пятиэтажного дома над крутым обрывом. Половина дома, обращенная к морю, была раздавлена. Обнажился громадный, в несколько этажей, простенок с разноцветными квадратами обоев, обломились стропила, торчало железо креплений.
Это было внушительней и печальней, чем осиротевший каштан, с этим я внутренне согласился.
Однако в другой, уцелевшей половине дома продолжалась жизнь: курится дымок над кирпичной трубой, на балконе развешано белье. Вышла на балкон женщина, поставила кастрюлю, перебрала белье.
Фесенко рассматривал дом, стараясь, по-видимому, догадаться, где же квартира его семьи – в разрушенной или уцелевшей части дома? Его товарищи молча следили за ним. Он хотел было что-то сказать, поднял руку, но внезапно ударил колокол громкого боя – сигнал воздушной тревоги.
Два бомбардировщика летели над хорошо мне знакомым куполом аспидного цвета. Это был купол Оперного театра. Тройка бомбардировщиков приближалась со стороны балюстрады Воронцовского дворца.
На мачтах кораблей взвилось «твердо» – желтый с черным флаг: «Самолеты противника в воздухе».
Самолеты, быстро вырастая, шли в нашу сторону.
У Карантинного мола заговорили зенитки крейсера.
Старый крейсер стоял в Одессе с первых дней обороны. На корабле держал флаг контр-адмирал. Моряки с этого корабля были теперь самыми занимательными собеседниками во всех госпиталях от Одессы до Батуми. За бортами корабля жили как в осажденном бастионе. Высокие старомодные трубы и борта крейсера изо дня в день все гуще усеивались пробоинами.
Пристегивая шлемы, бойцы с озабоченными лицами разбегались по палубам, к пушечным установкам. Наводчик у автомата сидел на низком откинутом сиденье, напоминая водителя мирной полевой косилки.
Из приоткрытых дверей башни выглядывали артиллеристы главного калибра.
– Лишних под прикрытия! – распорядился командир.
Щелкнули замки, и залаяли автоматы обоих бортов.
Я поглядывал на Ершова с ревнивым любопытством. Командир корабля отступил от края мостика и, заложив руки в карманы, следил за трассами – красные и голубые струи огня, упругие, как проволока, быстро вытягивались по направлению к самолетам. Ершов – сам артиллерист – выжидал, не меняя позы, только скулы энергично двигались на смуглом лице, как тогда, когда он отчитывал меня за прогулку с письмом.
– Бомбы! – невольно выкрикнул я, увидев, как вдруг от самолетов отделились какие-то точки – и уже свистит.
Ершов покосился на меня. Фу… нехорошо!
Я видел это впервые – до сих пор в Севастополе были только ночные бомбежки, – и мне представлялось, что я один такой догадливый молодец: сброшены, дескать, бомбы.
Почти уверенный, что бомбы летят мне на голову, я следил за их косым падением, и меня знобило от волнения и любопытства.
Бомбы упали вокруг крейсера. Загрохотало. Взметнулась вода. Что-то уже горело.
Самолеты уходили в разные стороны, но к одному из бомбардировщиков пристрелялись. Он вырывался из сети разрывов – и не мог вырваться. На нем что-то вспыхнуло яркой искрой, самолет поскользнулся, снова выпрямился, как бы затанцевал на одном месте, а потом, опрокидываясь на крыло и дымясь, неудержимо потянул книзу.
Воинственно гудя, вдогонку «юнкерсам» понеслись наши «ястребки». Но как только скрылся за линией домов подбитый «юнкерс», интерес к воздушному бою ослабел.
Командир продолжал осматривать небо, распорядился.
– Запросите крейсер: не нуждаются ли они в помощи? Узнайте, где упал самолет. Взяты ли летчики? – И буркнул, оторвавшись от бинокля: – Насчет бомб докладывали напрасно.
В бинокль было хорошо видно: у борта крейсера, на молу, краснофлотцы тушат пожар, не допуская огонь к бочкам с бензином, сложенным неподалеку.
А тут, рядом с нами, мирно покачивались дубки – парусные суда, которые еще два месяца тому назад ходили веселыми караванами между Одессой и Херсоном, в Очаков и Вилково на Дунае с грузом зерна, муки, овощей, рыбы. Сейчас наступало время, когда дубки, отягощенные арбузами и дынями, обычно швартовались скрипучими рядами в одесской арбузной гавани. Но этот ясный августовский день был иным – и в Одессе, и на Дунае, и под Очаковом.
Николаев и Херсон пали. Дальнейшее продвижение врага задерживали наши батареи на Березани и Тендре. Корабли и пехота Дунайской флотилии вели жестокие бои в устье Днепра, отстаивая позиции в камышах и плавнях левого берега реки. Враг вышел к морю на всем побережье от Одессы до Очакова.
Баштаны и кукурузные поля перед Буялком, Дальними мельницами, Хаджибеевским лиманом были измяты танками и иссечены осколками.
В этом городе мне были знакомы все запахи – и запах нагретого солнцем камня, и запах зреющих помидоров и виноградников; были памятны все оттенки уличных голосов – все чувствительные романсы под гитару молодчиков в пиджаках внакидку, торопливые голоса сплетниц в гулких подворотнях, крики уличных торговцев. Казалось, здесь никогда и никто не служил богу войны. И вот именно здесь, на приморских виноградниках и баштанах, день ото дня все тверже обрисовывалась зона упорной и важной битвы.
Необыкновенное смешение исконного быта южного приморского города с новым бытом войны поражало воображение, так же как и резко новое в поведении людей.
Вот дубки. Я никогда не видел их такими опустошенными, такими бездеятельными. Им нечего было делать, мирным милым посудинам, на них никто не играл на гармонике, не жарил бычков, распространяя от горячей сковородки аппетитный запах по всему причалу. Деревянные, незагруженные корпуса дубков уныло поскрипывали, оставшись под присмотром женщин и детей.
Один из краснофлотцев моей боевой части подошел ко мне с просьбой «отпустить на «Маврикия и Константина».
Подумать только! Я помнил дубок с этим названием с детства. Но я прикинулся непонимающим.
– Что это за «Маврикий»? – как бы удивился я.
– Та то ж наш дубок, – весело отвечал краснофлотец. – Вот он. Мне бы приветить деда, а то старый даже не знает, что я стою рядом.
Краснофлотец показал на темно-зеленый дубок с короткими, косовато поставленными мачтами. Старик на палубе чинил корзину. Я узнал и эти мачты, и брюхообразный кузов судна, и облезлую сирену на бугшприте.
– Это и есть ваш дед?
– Точно. Дед Никифор. Никифор Павлович. Мы с ним на дубку всю жизнь плавали.
– О, значит, давненько. А кто там еще, кроме Никифора Павловича?
– Да вот разрешите сходить разведать.
Он не спускал с меня глаз. Я вспомнил Фесенко. Позже я узнал, – что Фесенко – тот даже не просился на берег – угрюмо сидел в кубрике, когда комиссар корабля разыскал его и разрешил ему сойти.
Но матроса мне не удалось отпустить. Ждали аврала: корабль снимался для обстрела неприятельских позиций, и, покуда я переживал необходимость отказать парню, сигнал загремел, корабль отдал швартовы.
– Эй, на дубке! – закричал мой краснофлотец, сложив руки рупором. – Эй, на дубке! Никифор Павлович! Дед!
Старик продолжал работать, не поднимая головы. Лишь на ближайшем суденышке босоногая женщина и с нею две девочки в бабьих косынках молча смотрели то на матросов боевого корабля, то в сторону «Маврикия»…
У нас гремела якорь-цепь; корма корабля медленно отодвигалась от пристани.
Ершов выходил то на одно, то на другое крыло мостика. Миновал маяк и боны с дежурным катером.
Могуче, но сдержанно дыша, корабль, казалось, накапливает нужные для боя силы. Важно поворачиваются готовые к бою башни. Люки задраены. Но почему-то все еще не верилось, что сейчас начнем бой.
Мористее, примерно на траверсе Большого Фонтана, маячили силуэты других кораблей. Они шли на малом ходу, но, как всегда в светлое время суток, пары имели на полный. Над водой катился сердитый гром залпов: корабли держали под огнем позиции противника в районе Дальника. Осаждающие армии подступили вплотную к окраинам города.
С кораблей видны были рыжие невысокие берега, длинными крыльями охватывающие бухту, и в глубине бухты – порт: толстенькая свеча Воронцовского маяка, высокие стены холодильника, угольно-черные краны на причалах, каменные трапы, поднимающиеся в город ступени знаменитой лестницы Боффо с человеческой фигуркой памятника наверху, а над пестротою городских домов – большой купол Оперного театра, несколько колоколен, острая башенка кирки.
Мы видели Одессу такою, какою она открывалась всегда со стороны моря, какою изображалась на открытках, памятных мне с детства.
Противник видел нас с пустынного берега по другую сторону бухты. В последние дни оттуда действовала его шестидюймовая батарея, но позиция батареи все еще не была обнаружена.
Было очень странно. Трезвое, расчетливое чувство войны и опасности уступало чувству фантастического: на виду у врага приходили и уходили корабли, доставляя боезапас, войска, продовольствие, даже воду, давно не подававшуюся в город с днестровской водонапорной станции.
Противник упорно жал на расположение морского полка Осипова на нашем правом фланге, в районе Лузановки, у лиманов.
В батальонах оставалось по семьдесят – восемьдесят человек, но румыны не прошли…
В штаб полка ездили трамваем, подобно тому как наши бабушки ездили на лиманы с дачными корзиночками в руках, и совершенно так же, как в тридцать шестом – тридцать седьмом годах бойцы республиканской Испании в осажденном Мадриде ездили на фронт со своих городских квартир.
«Как проехать в полк Осипова?» – спрашивали вы. И вам отвечали: «Трамваем номер три до «Базарчика». – «Как же дальше?» – спросите вы. «Дальше – по способности». Дальше – по дороге, открытой для обстрела, пешком на санитарной машине, как случится, до самых перешейков лиманом, где наши бабушки принимали теплые морские ванны.
Вон длинная, ровная, с крутыми склонами Джевахова гора, вон желтая полоска пляжа с сохранившимися на нем зонтиками-грибками, разузоренным павильоном ресторана, с белыми куренями рыбаков.
Там все дымилось, продолжался бой, который мы наблюдали еще ночью.
Набирая ход, корабль убегал и убегал от маяка.
Ветер. Шум вентиляторов. Шелест залетного снаряда.
И вдруг метрах в шестидесяти от корабля взметнулись столбы воды – два и еще два… По левому борту – теперь недолетом – легло еще несколько снарядов. Судя по всплескам, калибр не менее шести дюймов.
Сомнений не было – нас обстреливают.
– Да вон вспышки, там батарея! – выкрикнул кто-то.
– Где видите вспышки? – азартно спросил Ершов.
Все, кто стоял на мостике, смотрели туда же, куда теперь смотрел Ершов, но поблизости снова взметнулись многоводные тяжелые фонтаны. Все оглянулись на командира.
– Следите за вспышками. Засечь их! – обращаясь ко мне, произнес Ершов тоном команды.
Невидимая батарея участила огонь, всплески вздымались все ближе, а там, на берегу, я увидел – что-то блеснуло двойной вспышкой среди рыжей поросли. Грозная пауза – и вблизи корабля взметнулись новые всплески… Батарея?
Ершов отвернул и потом снова вышел на боевой курс.
– Посмотрим, кто кого! – зло сказал он и, продолжая мерять глазами дистанцию до всплеска, увеличил ход корабля. – Как далеко до точки? – спросил он у штурмана.
– Двадцать кабельтовых.
– Держаться на курсе! – И обернулся к артиллеристу: – В точке будем только через четыре минуты. Открывайте огонь! Цели прежние. Установите место батареи – огонь из третьей башни.
Я спрашивал у многих, помнят ли они свой первый бой, как помнится первая папироса, первая близость с женщиной, первый полет на самолете. Не все помнят… Это не так уж безобидно, когда видишь, как вспыхивают устремленные на тебя злые глаза вражеской батареи, несколько секунд – и тебя накрывает залп, а корабль продолжает идти вперед, под огонь. Четыре минуты, когда мы шли под залпами, я помню.
Слыша нарастающий свист снаряда, один из моих сигнальщиков пригнулся, другой, кажется Лаушкин, укоризненно крикнул ему:
– Кланяешься фашистскому железу!
Тот сконфуженно поглядел снизу вверх.
– Прижимает, – отвечал он. – Слышишь, снаряд за собою след несет?
– Что за след?
– Разве не слышишь? Шумит.
– А тебе страшно?
– Не то чтобы страшно, так… жутко.
– Хоть кланяйся, хоть нет, если первый не попал, второй точно тяпнет.
– Не тяпнет, – возразил мой Лаушкин. – Не тяпнет: много пространства. Он все сдаля бьет и забирает техникой. Вплотную мы сильнее. Нам бы сойтись! И чего это наши артиллеристы терпят!
– Они сейчас дадут, – успокоили Лаушкина.
И хотя все этого ждали, так же неожиданно, как вдруг вздымалась вода от падающих снарядов, ахнули наши пушки.
Канонада гремела по всему рейду.
Делалось мужественное дело войны. Только огнем, обращенным к захватчику, можно спасти и себя и свою землю. Всюду, где ее топчет враг, земля просит этого избавительного огня, как просят его на себя герои, когда для них нет в бою иного исхода. Она, наша земля, все простит, все залечит, не простит только отказа от борьбы за нее. Это мы поняли уже тогда.
Приборы, управляющие огнем, действовали безупречно.
После того как ряд залпов фугасными снарядами подавил румынские минометы в саду, левее полуразрушенного домика, Ершов начал артиллерийский зигзаг. И так несколько раз: выходя из-под огня батареи, снова приближаясь, мы вели огонь по назначенным целям. На берегу пыль, разбегающиеся человечки, в воздух летят какие-то обломки… Лаушкин торжествовал.
– Пошли! Наши пошли в атаку! – возбужденно заговорили вокруг.
В бинокль был виден пологий сухой скат холма. Из кукурузной посадки выбегали люди, их становилось все больше и больше, цепями они быстро двигались по склону холма вперед, к полуразрушенному домику.
Батарея на берегу неожиданно замолкла. Начало темнеть. Крейсера на ночь остались в море, катера, эсминцы и «Скиф» возвратились в порт.
Командующий поднял сигнал: «Всегда действовать так хорошо, как действовал лидер «Скиф». На корабль он прислал угощение – вкатили две бочки вина. Это не нарушало, однако, той строгой торжественности, с какою совершалось все вокруг. Я не мог успокоиться от необычайного волнения, было тревожно и приятно знать, что связисты не подвели, хотелось хоть с кем-нибудь отвести душу. Я мог бы поговорить с Дорошенко, но мой друг был назначен в десантную операцию, готовился к ней, и я долго, покуда совсем не стемнело, всматривался в двухэтажный дом над обрывом.
Рядом со мной вахтенные сигнальщики вполголоса продолжали обмениваться впечатлениями дня. Матросы не забыли ничего. Они помнили, сколько заеданий случилось в третьей башне, кто опоздал на ревун, кто замешкался на фалах.
– Жуков берет с элеватора снаряд, – слышался голос Лаушкина, – а лицо у него такое, как будто ему сосунка подкинули.
И матросская веселость, смех от всей души покрывает бормотанье сконфуженного Жукова:
– Сначала было как-то странно, будто должно что-то случиться. Ждем, а ничего и все ничего: залп за залпом, а в башне тихо, только моторы гудят.
– Нет, – замечает Лаушкин, – на мостике от залпов прямо подымает.
Действительно, странно все это было. Очень странно.
В кают-компании звенели стаканы.
Еще остывали после стрельбы пушки главного калибра, а в кают-компании поднимали тост за меткость новых залпов по врагу. Пили точные залпы, пили здоровье командира корабля, пили удачу лейтенанту Дорошенко.
Лейтенант Дорошенко был назначен командиром корректировочного поста.
Задумана смелая операция. Корпост с небольшим стрелковым прикрытием получал задачу – высадиться в тылу у противника. По сообщениям рыбаков, полоса берега, куда должен был незаметно подойти баркас, противником не охранялась.
Кстати сказать, Дорошенко был тем самым вахтенным командиром, который отпустил меня на стенку с письмом. Наполеоновский профиль и прядь, спадающая на лоб, не придавали моему добродушному другу воинственного вида. Из флегматичного состояния, его могли вывести только две вещи: он очень любил таинственность и вкусную еду, и эта его слабость, видимо, поощрялась.
Однажды на Интернациональной пристани ко мне подошла худенькая девушка в беретике:
– Вы не со «Скифа» ли?
– Точно.
– Может, вы знаете лейтенанта Дорошенко?
– Как не знать!
– Ну, так передайте ему этот пакет.
От пакета вкусно пахло гастрономическими продуктами. С некоторых пор Дорошенко получал такие пакеты довольно часто. При этом девушка в беретике говаривала:
– Ведь теперь самое важное хорошо кушать, – то есть, хотела она сказать, быть бодрым.
И сейчас Паша Дорошенко плотно поужинал. Товарищи провожали его и долго толпились у борта.
– Удачи лейтенанту Дорошенко! – опять послышались голоса. – Дорошенко! Бери весь расход: приятно кушать!
И подавали пакеты с едой.
– Паша! – коротко выкрикнул я.
Дорошенко улыбнулся, помахал мне рукой, внимательно огляделся, все проверил, еще раз заглянул в планшетку, снова помахал нам рукою – и отвалил. И когда баркас с корректировщиками отошел от корабля, мы еще долго слушали удаляющийся рокот и похлопывание мотора.
Ночью пошел дождь. Было слышно, как стучит он по палубе.
Корабль спал, но я в эту ночь был дежурным по кораблю.
Не страшась дождя, матросы вынесли койки из затемненных и душных кубриков на палубу и улеглись, прикрывшись брезентами. Из-под брезентов слышался храп.
В кормовом кубрике при лиловом свете дежурной лампочки кто-то возился над рундуком. Это был Фесенко. Он не участвовал в бою, но принес свои впечатления с берега. Его семья уцелела в нетронутой части дома.
В салоне «забивали козла». Ершов мастерски «рубил хвосты» противникам. Как всегда, он сидел глубоко в кресле, выжидал своей очереди и, вдруг выбрасываясь всем телом, с силой бил костью по столу. Воротник расстегнут. Чуб над глазом. Во рту смятая золотым зубом папироса. Короткий смешок.
– В общем, я вижу, вы не кончали академию козлогонов… Хо-хо!
Заговорили о Фесенко.
– Вызовите его сюда, если он не спит, – велел Ершов.
– Значит, все в порядке, товарищ Фесенко? Старики целы? – встретили его вопросами.
– Все в порядке. Даже меня порядочно уважать стали.
– Это за что же?
– Моряк! – кратко пояснил Фесенко. – Матрос теперь все. Доказано.
Фесенко успел подметить в городе много интересного. Он рассказал нам о баррикадах, сложенных руками женщин, о том, как его зазывали помыться в баню – бесплатно, потому что пар есть, а в баню никто не идет, все воюют.
Рассказывал он весело. У человека радовалась душа – его миновало несчастье. И всем было радостно за Фесенко.
– А что говорят в городе – как работают корабли? – спросил Ершов, смешивая кости мясистой ладонью.
– Да что говорят, товарищ командир корабля! Ждут нашего огонька.
– А что говорят матросы?
– А что же, товарищ командир корабля! Из кукурузы только на море и смотрят. Там же все наши, каждый видит свой корабль. Кого там нет? Одного меня.
– Туда же клонит, – усмехнулся Ершов. – А что слышал про немцев и румын?
– Мои бойцы куропаток гонят почем зря. Гонят, уморятся, сядут покурить – и опять гонят.
– Горячо воюют краснофлотцы, не считаясь, – строго констатировал вестовой кают-компании.
– Нам нельзя плохо воевать, – вставая, сказал Ершов. – Уж очень нас народ любит.
Фесенко был готов рассказывать до утра, но его отправили спать. Наверно, и во сне Фесенко было легко и весело.
Дождь приутих.
На соседнем молу опять гремели разгрузочные работы, прибыл новый караван с оружием и войсками.
Мотор баркаса с корректировщиками еще, должно быть, рокотал где-то в море, держась подальше от захваченного румынами берега. У берега моряки возьмут весла. Дорошенко, если не спит, передал управление баркасом старшине и уже развернул бутерброды и жует, накрывшись плащ-палаткой.
Я думаю о толстяке и сравниваю его с Ершовым. Сколько разных людей вступило в войну – и каждый воюет по-своему. И всякий раз, когда я вспоминал свой неуместный выкрик «бомбы» и замечание Ершова, мне становилось стыдно. «Неужели я струсил? – думалось мне. – Фу, какая неловкость, какая гадость», И опять видел Ершова на крыле мостика, а в городе над спуском в порт молчаливый двухэтажный дом – и думал о людях, оставшихся в том доме, и о старом каштане.
Вопрос, который занимал меня с первого дня, как ступил я на палубу «Скифа»: слышал ли Ершов обо мне, как слышал я о нем еще до войны? – этот вопрос оставался для меня еще не разрешенным.







