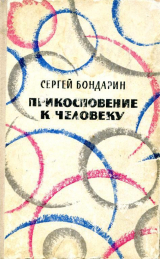
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Странно и приятно было мне с Володей Прутским: я слушал его – и с его рассказами возвращалось то, что совсем недавно казалось постоянным, непременным, но война уже успела заглушить, хотя и в самом деле было оно незаменимо-важным.
Наша основная задача заключалась в искусстве проложить канал – путь для кораблей и мелких суденышек в Керченский пролив, куда стягивало весь лед. Нельзя было медлить, поэтому, подхватив отставшую баржу или сейнер, мы спешили передать их на другой буксир.
В ту ночь, однако, помощь не шла, сколько ни сигналили. Очень запомнилась мне та ночь и тот разговор с Прутским. Вот он опять задумался, огляделся и сказал:
– А ведь существовало кое у кого мнение: мол, «интеллигентики» на войне не выдержат, растеряются. Оком это? Страх на войне свойствен каждому, но страх никогда не был чертой русской интеллигенции. А по-ихнему выходит, что ежели мы терпим неудачи, то причиной тому «перепуганные интеллигентики». Неверно это! Нехорошо! Опасно! С несомненностью! Интеллигентный человек, – волнуясь, продолжал Прутский, – и на войне, и в опасности будет на высоте с несомненностью! Способность в трудную минуту обращаться к нравственным силам – это и есть интеллигентность. Интеллигент будет и хорошим художником, и хорошим генералом, и хорошим солдатом. Словом, сделает все, что от него требуется. Это и есть интеллигентность. В армии много художественной интеллигенции, и каждый, смотрите, делает свое дело – пусть рядом смерть… Не могу об этом говорить спокойно.
И мне нелегко это пересказать, но взволнованную тираду Прутского я хорошо запомнил.
Светало. Вахта заканчивалась.
На «Четверке» прежде всего старались уточнить обстановку. Взяты ли баржи, отбившиеся от каравана, снова на буксир и удалось ли канлодкам довести их до берега? Произведена ли высадка? В операции вместе с артиллерийскими кораблями участвовало много рыбацких сейнеров. Некоторые из них близ берегов были подбиты, иные сели на мель.
С рассветом начинали проступать очертания холмов. Шум боя не доносился, движение на берегу не усматривалось. Мглисто-темный волнистый, местами присыпанный снежком, берег казался безжизненным, но мы знали: это не так. Во многих точках береговой полосы шли бои. Вдруг то тут, то там во мгле что-то загоралось, вспыхивало.
Постепенно – по мере того как день вступал в силу – в бинокль различались селения, отдельные домики на мысе Хрони. Мы знали: там направление главного удара, там под берегом виднелось множество судов.
Увидели мы и свою баржу, ту, что поймали ночью. Теперь она важно шла к берегу под парусом из какой-то дерюги, как и обещал нам бойкий ее шкипер.
Довольно часто Володя получал письма от жены. Письма проскальзывали из блокированного Ленинграда путем, вскоре прозванным Дорогой жизни. Теперь это история, а тогда не у каждого хватало воображения да и сил представить себе эту Дорогу жизни, щель из Ленинграда. И трудно было просто поверить, что у матроса уже накопилось столько писем из дому. Он носил их при себе, читал и перечитывал в свободное время. Но иногда, завидя меня, он стыдливо прятал какие-то листочки. Однажды я все-таки успел подсмотреть, что у него в руках листки нотной бумаги: несомненно, Прутский и сам сочинял музыку. И мне стало еще приятней, еще любопытней дружба с этим застенчивым белобрысым человеком в ушанке не по размеру.
У нас с ним было много общей работы и в кубриках и у прожектора.
Все продолжалось: скрежетание и удары льда в борт; призывы людей, окоченевших, голодных, страдающих от жажды на баржах; беззвучные зарева и пламень взрывов, вдруг озаряющий летающие космы в небе; напряженное ожидание налетов.
Но все это не поглощало душевной силы. Наоборот, далеко где-то в душе бродили зарницы душевного познания, запоминания всего, что было вокруг. Я понял: поэзии – это само чувство жизни, ее бесчисленные голоса и отголоски.
Так было в часы, когда мы с матросом Прутским несли вахту на мостике, где и мне назначили пост по боевому расписанию.
Но вот приближался день, когда я сходил с корабля.
«Четверка» пробивалась в Темрюк, и меня телефонограммой вызывали обратно в штаб.
На войне расставания часты, не все помнишь, но прощание с Володей Прутским в Темрюке я помню.
С баульчиком в руках я вышел на палубу. Володя стоял у трапа. Он смотрел на меня молча, не находя нужного слова. Милый Володя Прутский! Он был таким невоенным, немножко смешным и очень трогательным в этой своей неприкаянности. От волнения у него слегка подергивались губы, побледнело лицо, слишком мирное под флотской ушанкой.
Обычно я величал его по имени-отчеству, как и он меня. Но тут я сказал:
– До свиданья, Володя! Помните наш разговор, когда вы спросили, стрелял ли я уже? Я тогда промолчал, потому что мне было немножко стыдно, что я еще не стрелял. Мне тогда еще казалось, что я даже лишний на «Четверке». Теперь я думаю иначе. И я буду помнить нашу встречу с вами, Володя.
– Я тоже не все сказал, – проговорил Прутский. Он говорил и все поглядывал на меня, как бы спрашивая: можно ли продолжать? Это была его обыкновенная манера. – Я успел сказать вам очень мало. Не сердитесь. Сказал, наверное, много лишнего, не то, что нужно было. И опять, наверно, делаю не то, что нужно. Вот, возьмите, пожалуйста!
Силясь справиться со своим замешательством, он сунул мне в руку два треугольничка, по-фронтовому сложенные письма.
– Вот, возьмите. Опять не то… Это я говорю о своем письме. Тут два письма – мое и «грамотка» от команды. Прощайте!
– Ой, не люблю этого слова. Не лучше ли – до свиданья.
– Да, до свиданья, – улыбнулся Володя. – Конечно. – И повторил свое словечко: – С несомненностью! Я и там написал об этом. Не умею писать. Как всегда, сентиментально и неточно, ну, теперь уже ничего не поделаешь, некогда.
И сейчас среди других самых драгоценных памятников моей жизни я храню два письма на шершавой бумаге, датированные январем 1942 года. На одном листке несколько слов добрых пожеланий и трогательно-корявые подписи матросов и старшин «Четверки». Прутскому поручили передать эту «грамотку» мне. Другое письмо – от самого Володи Прутского.
«Мне припомнилась фраза, когда-то прочитанная у Стерна: «Люди как деньги: есть настоящие, есть фальшивые», – начинает Володя отчетливым старательным почерком. – Вы из тех, кого меньше, но кто дороже, хотя бы потому, что мы теперь навсегда связаны одной веревочкой, – продолжает Прутский (скажу от себя: спустя четверть века, радостно прочесть эти слова), – я всегда хотел сказать вам больше того, что успел. Если еще встретимся, постараюсь новую встречу сделать убедительней, а сейчас хочу сказать, чувство дружбы и любви, подвергавшиеся анализу и писанию, остались по-прежнему необъясненными. Никто (даже Стендаль) не сумел ответить на прямой вопрос: что это такое – любовь? И кажется мне, что необъяснимость этого сверхчувства важнее всего. Важнее того, что на первый взгляд представляется самой любовью, важнее самого горячего и самого нежного, чистого поцелуя, важнее объятий. Вот как важна эта необъяснимость. Почему я заговорил так пышно о любви? Необъяснимо и искусство. Вот какая аналогия. Искусство, как и любовь, достигается через открытие одной души перед другою. Помните: «И звезда с звездою говорит». Почему это случается? А очень просто: не должно быть объясненным, потому и случается. Парадокс? Вот как обстоит дело. Вот что: все хорошее просто суждено человеку, и от этого радостно. И это я говорю из благодарности случаю, приведшему вас на наш кораблик, да еще как раз в тот день, когда погиб Юра Стрельченко и слезы душили всех его товарищей… После победы, может быть, вы захотите вспомнить меня, а может быть, еще до этого вы побываете в расколдованном Ленинграде, на всякий случай сообщаю адрес… Вот бы это случилось! Вот бы вы познакомились с Валентиной Филипповной! К тому времени будет и симфония Дмитрия Дмитриевича. Где он сейчас? А симфонию-то задумал он уже в первые месяцы, когда шли танки… Нет, неправильно говорить: «перепуганные интеллигентики»! Какое счастье, что среди нас во время войны такие люди, как Шостакович или Софроницкий.
Нам нужно победить дважды – и сначала муку разлуки с любимыми людьми, сужденными нам собственной нашей душой. Речь, понятно, идет еще и о наших осиротелых женах, о многих тысячах русских женщин, о тысячах и миллионах плюс еще одна, она сейчас за границей… Знакомо ли вам имя Лизы Пиленко? Это ей почти четверть века тому назад Блок посвятил свое лучезарное стихотворение: «Когда Вы стоите передо мной – такая живая, такая красивая…» Тогда Лизе было, кажется, пятнадцать лет. Теперь Лиза – немолодая женщина, она во Франции. Я так и не успел сказать вам, что мы с Валей знакомы с детства, и тогда же мы уже знали Лизу, подругу Вали, как говорила сама Лиза, хотя и была старше намного. Сейчас она во Франции, и, по слухам, она приняла монашество, это не мешает ей участвовать в нарастающем там движении Сопротивления. Это редкая женщина! И вот ради чего я ее вспомнил: вопреки мнению самого Блока, считавшего, что все неравнодушные отношения между людьми неизбежно трагичны (хотя бы потому, что жизнь все время заменяет одно другим), вопреки этому мнению, Лиза Пиленко продолжает любить Блока. Лиза доказала: бывают чувства и отношения, которые, как творения искусства, перерастают ограниченность времени, условия одной отдельной жизни. Подобные чувства сейчас свойственны многим. Сотни таких судеб ведут сейчас в мире борьбу. Сотни Пиленко, Волконских и Ярославен рыдают, стонут, маются от зари до зари в нашем огромном народе, по всей стране, пока мы слышим тут гул и рев германских пикировщиков, ход танков и отвечаем на это своими залпами. И – что не менее важно – тактами Дмитрия Шостаковича. Наша страна знает это, а наши женщины знают это лучше всех.
Знает это и моя Валя, я вычитываю это между строк в ее цидулках, летящих сюда из задымленного, рухнувшего Ленинграда, которого, посмотришь, будто уже и нет на карте страны. Как так «нет»? Только подумайте, какая там жизнь! Она угадывается между строк, выглядывает в щель, кем-то названную так важно: Дорога жизни. Оттуда идет дыхание измученных женщин. Помните, что Маркс считал главным достоинством женщины? Именно ее слабость. Что он хотел этим сказать? Несомненно, он имел в виду именно то прекрасное и загадочное, что таится до поры именно в этой женственной, таинственной слабости. Непобедимая «слабость», восстающая против железа. Ничего не поделать немцам с этой силой! Та-та-та-та… Та-та-та-та… Вот и все! Идут и сами еще не подозревают, что их здесь ждет. А против этого механизма шагов нарастает и нарастает ответный вздох. Представляете себе, что это за вздох! Неохватное вдохновение жизни. Один такой вздох – и ничего не осталось от этого та-та-та-та…
За окном – через Неву – будет пылать переливчатый, летучий пламень заката в облаках и беспокойных дымах Балтийского завода, а рядом будет Валентина Филипповна, и мы, бог даст, вспомним с вами многое, многое, а Валя обладает удивительной способностью сразу включаться в эту только что еще чужую для нее жизнь; и все, что сейчас так неуютно и фантастично-страшно, станет тогда совсем иным, потому что искусство никогда не пройдет, а все, что мы сейчас видим здесь, на войне, останется в хорошем смысле только искусством.
Обо всем этом я напишу и Вале. И к ней пойдет письмецо краснофлотским треугольничком. Ну, что сказать еще?..»
И в самом деле, что остается сказать еще? Необходимо сказать несколько самых грустных и жестких слов: вскоре после моего отъезда из Темрюка в штабе Азовской флотилии стало известно, что во время ночного налета бомбардировщиков на Темрюк «Четверка» была почти уничтожена: «юнкерсы» шли волна за волной. «Четверка» приняла удар на себя. Ее прожектористы, поймав цель, не выпускали ее, и противник потерял несколько самолетов, но немцы, очевидно, имели все-таки задачей уничтожить «Четверку», единственный корабль ледокольного типа, присутствие которого на театре помогало переброске наших войск с Тамани на Керчь.
Прожекторист Владимир Прутский погиб так же, как и его предшественник Юра Стрельченко.
РАССТАВАНИЕ
Бывало всякое, случалась и поножовщина…
Не забыть, однако, иные сцены расставания на берегу в Находке или в Петропавловске, когда «Урицкий» забирал там рыбаков, отправляющихся к местам промысла в океане.
Промысловые суда, нужно сказать, рыбачат без захода в порты иногда месяцами. Люди сменяются в море.
И кто может знать, как долго не возвращаться рыбаку домой – хотя бы на отгул, хотя бы «пропить пятаки». В океане что можно знать? Бывает – давно пора – собрался и уже готовы бумаги с судовой ролью, остается только перейти с траулера на рефрижератор, забравший с флотилии улов, а тут вдруг опять пошла под килем большая рыба: живое серебро льется из тугого, подхваченного лебедкой трала, кипит на палубе. Крикливая стая чаек, как шутят рыбаки, чаек, приписанных к судну, туча, не отстающая от него ни у берега, ни в океане, опять заслонила самое солнце, и не скажешь, чьи крики громче и отчаяннее – людей или птиц. Добыча. Идет добыча! Хорошая добыча! О-го-го! Сомнений нет, эхолот показывает и пишет: под килем мощный косяк. Поди оставь теперь свой траулер, попробуй! Тот же азарт, та же долгожданная неповторимая минута клева, что у любителя над блесной, над удочкой: упустишь – больше не увидишь.
Только тут – и это надо ясно себе представить – ухватывают удочку сто с лишком человек. Все на судне устремляется к одному. Все закипает, все живое устремлено к тралу…
На корме крики, с мостика трубные в мегафон команды, и вот зло застучала лебедка, по стальной палубе, гремя кухтылями, потянулись стальные ваера – трал спешит за добычей. Корма приседает, в слип бьет волна, но косяк застигнут, схвачен.
Судно в тысячи тонн, подрагивая на волне, как бы от сдержанной страсти, теперь бесшумно скользит вдоль заданной изобаты, однозначной донной глубины, загребая со дна, вытраливая рыбу.
Это искусство – управлять тралом, то подтягивая его, то отпуская, сбавляя ход или ускоривая, – не легкое, опасное искусство. Так в давние годы лихой ямщик вожжами управлял тройкой. Иногда, нужно это помнить, успех улова как раз в чутье: не сбавить ли несколько оборотов? В сложной системе ушедшего под воду трала все напряжено…
Опять застучала лебедка. Трал выбирают. Волна захлестывает слип, окатывает палубу, ветер срывает штормовки.
Чудище всплыло. Продолговатое, блестящее, тугое тело мешка, наполненного рыбой, уже подтянуто к слипу, вошло в его промежность – нетерпеливо, властно. Добыча! Мешок до того тугой, что кажется: не пойдет дальше, лопнет. Но нет, идет, идет – уже не остановить, подтянут, поднят стрелою – и вот, смотрите: добыча уже вываливается. Льется, обдавая палубу серебром трепещущей рыбы, мучительно извиваются маленькие акулы…
Ударила волна. Крики. Завеса птиц, колеблясь за кормой, не отстает. И рыбак в такую минуту уйти не в силах. А новая оказия через океан в порт приписки – когда? Хорошо, если через месяц…
Все это, надо полагать, хорошо знала рыбачка в лаковых туфельках и модной вязаной кофточке. Разрумянясь от волнения, высоко поднимая голову и поправляя прическу, не сводя глаз с рыбака, стоящего у борта, выкрикивала и твердила, твердила:
– Возвращайся поскорей… Возвращайся поскорей.
Подле нее, поглядывая на отца снизу, с причала, довольно равнодушно, вертелся мальчик.
«Урицкий» уже отдавал швартовы, причал с буйной толпой провожающих парней заметно отодвигался. Дядька-рыбак вскарабкался на фальшборт бака. Он тоже не сводил глаз с жены, и она продолжала заклятие:
– Возвращайся… возвращайся.
Расставание. Уходим в океан. Проводы, похожие на войну. Кто-то запустил бутылкой. Парни кричали с палуб, через иллюминаторы, парни кричали с пристани. Иные, собравшись в кружок, уже запевали песни.
Я вспомнил, что мне говорили:
– Плавание будет неинтересное.
Я тогда удивился: почему?
– Море и море, а море везде одинаковое.
Так ли это? Разве неинтересно жить в море, жить по-другому, иное видеть и слышать? Месяц без берегов, но и без прежних привычек. Это же и есть путешествие, перемены! Да вот хотя бы это расставание!
– Возвращайся скорее! – выкрикивала женщина и вдруг в отчаянье наклонилась к мальчику: – Славик, да подойти же ближе, скажи папе…
Что сказать? Однако все равно малыш был чем-то занят, он складывал ладонь лодочкой и что-то вылавливал в луже.
– Сейчас пойду, только рыбку поймаю, поймаю и убью. У меня трал…
– Оставь рыбку, скажи папе. – И, понимая, что мальчик занят только своим делом, несчастная мать в отчаянии заключила: – Уже не слышит!
Она в ужасе оглядывала все увеличивающееся расстояние от края причала до борта отваливающего судна, повторяла:
– Уже не слышит… Уже не слышит… Ну, – и она взяла мальчика за руку, – пошли!
Однако уйти она была не в силах, опять оглянулась, и почему-то только теперь стало видно, что она слегка под хмельком, лицо в слезах. Как живы иногда женские губы! Бедная – она думала, что нам не слышно ее слов, и негромко выкрикивала:
– Может все случиться, ах, может все случиться!
Дядька-рыбак смотрит на нее молча, в глазах тоска и недоумение. А я слышу слова, доносящиеся с причала:
– Я люблю тебя… Я очень тебя… – Женщина не закончила, и рыбак кричит ей:
– Пиши, не делай жизнь труднее!
И женщина не то говорит ему, не то вздыхает, не то кричит, уже не обращая внимания, слышат ее или не слышат:
– Приедем домой, я посмотрю на вещички – и сейчас же обратно сюда. Ей-богу! А тебя нет… ей-богу!
Который раз я замечаю, как удивительно меняется лицо от движения губ. Удивительно! Ее лицо от шевеления губ, от слов отчаянья то трогательно-женственно, то вдруг – и это неприятно видеть – его искажает гримаса страданья: губы скривились, приподнялись брови.
Мальчик снова готовится «еще раз убить рыбку». Теперь он бросает в воду камешек за камешком, но вдруг малыш не выдержал, взревел и тоже начинает повторять быстро-быстро:
– Возвращайся скорее… Папа, ты скорее…
«Урицкий» дал самый малый ход, женщина еще успевает крикнуть:
– Умоляю тебя: не выходи на слип в волну!
Рыбак очнулся, поднял на меня глаза, и я почувствовал, что мне нужно заговорить с ним; я сказал утвердительно:
– Тралмастер!
– Точно, не ошиблись. Знаете меня, что ли?
– Нет, не знаю, догадался.
– Я тралмастер. Четвертый год. И третий раз возвращаюсь на траулер. Привычка. И так трудно, и так трудно, – не совсем вразумительно сказал он, но пояснил: – И в море и без моря. Все мы как сумасшедшие…
Траловый мастер оглянулся на берега. Тот причал, где долго махали разными платочками и косынками, заваливала сопка.
Мне казалось, что траловый мастер хочет еще сказать что-то, я ждал – и не ошибся.
– Неправильно считают, что женщина мельчит жизнь, – сказал он.
– Мельчит? Правильно я вас понял?
– Да, мельчит. Правильно. Так сказал один.
– Кто это сказал?
– Есть кто. Один философ, – с усмешкой отвечал мастер. – Ну нет, не настоящий, не в книге, а так, за коньячком… Не согласны? Я тоже не согласный. Как так – мельчит? Вот признаюсь вам хоть сейчас. Забывает человек, что у него есть душа, а тут вдруг расширяет тебя всего – не то тоска, не то радость. Видали? Это жена моя. А мальчик – сын. За пацана не беспокоюсь, при ней он не собьется. А за нее бывает страшно. Даже жарко – так страшно. Ведь видали ее, а? Видали? Молодая. А какая у нее жизнь, по восемь месяцев скучает. И правильно воскликнула: «Все может случиться!» Как скулит! Я-то ведь знаю. Признаюсь вам, бывает даже неловко. Рыба идет, рукавчиком махнуть некогда, а она шлет по радио телеграмму за телеграммой: «Обними меня». Дескать, обними ее в океане, обними, когда идет рыба. А? Слыхано ли дело. – Тралмастер добродушно улыбнулся, продолжал: – Перед нами извлеченный трал, хочешь – подтягивай колбасу лебедкой, хочешь – гуляй, как по киту, – такой тугой, огромный, черт знает что, чудовищный! А она: «Обними меня». И рад бы – да что… А рыбы нет – и в тебе жизни нет… «Обними»… И откуда шлет!.. Ну ладно, разболтались. Не смейтесь, это я не всякому сказал бы, но я видел, как вы посматривали на нее, поверил вашим глазам. А? Может, и вас так просят? А?
«Урицкий» поворачивал и выходил из бухты в море. Покачивало все заметней.
Очень хорош в Находке выход из бухты в море!
Не забыть мне этих берегов, рассказанной здесь сцены, но – главное – светлого жизнеощущения, чувства отрадной его прочности, неразлучимой с любым прикосновением к добру, к любви.
В наступающих сумерках уже высыпали между сопок огни города, тут и там лучились нарядные портовые огни, маяки и створы, и вода зыбилась, переливаясь золотым отблеском.







