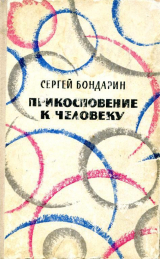
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Детство окончилось, но длинные штаны надеть мне не пришлось.
Вскоре после событий на каменном дворе меня привели в гимназию. Отец опять делал попытку поставить меня на путь, свойственный мальчикам моего круга. Не знаю почему, отец в этот день велел надеть мне розовую рубашку, самую нелюбимую; я предвидел, что из этого ничего хорошего не выйдет.
Покуда отец объяснялся с директором гимназии, я стоял в вестибюле, обернувшись лицом к окну, ничему не рад. Должно быть, шла переменка; над головой у меня слышался топот, крики, визг, мальчишки сбегали по лестнице, окружали меня. Розовая рубашка, как я и ожидал, оказалась отличной приманкой, мало удачным нарядом для появления в нем среди насмешников.
Я терпел, я знал, что дело плохо. Я это предчувствовал.
Отец вышел из приемной, и по его виду я сразу понял, что надежд нет никаких. Он резко окликнул меня, у меня сперло дыхание, но я ни на минуту не забывал, где я, какая толпа вокруг. Сдержанно повернувшись, я неторопливо повел прямым, твердым взглядом по толпе мальчишек; толпа притихла, мальчишки расступились… Я зашагал вслед за отцом.
Опять нас выгнали. Я молча шагал за отцом, держась несколько поодаль. Когда мы пришли домой, отец оскорбил меня во второй раз.
– Не учится, бездельничает! – срывая на мне обиду, проворчал он. – Безродный отпрыск! – сказал он вдруг странно ожесточенным голосом.
Что значит «безродный отпрыск» – это я понял не сразу, а понявши, удивился несправедливости и глубоко уязвился тем, что отец меня обозвал таким же словом, каким обзывал меня зловредный головорез Стивка.
«Какой же я отпрыск? – хотелось мне крикнуть. – Какой я безродный, когда у меня есть ты?», но вспомнил при этом медленные наплывы колоколов, приход священника, уход отца и свои давнишние сомнения: «Может, и в самом деле, папа – не мой отец?» И я смолчал, устрашась истины.
Что, если мальчишки, обзывавшие меня байстрюком, знают обо мне больше, чем я? А я-то хорохорился, какие говорил слова! Интерпретатор! Крестник Пегу!
Вскоре все выяснилось. Прачка Нюшка, принесши однажды белье, сказала мне, что мы с Наташей незаконнорожденные, то есть папа не хотел венчаться с мамой в церкви, а мама не хотела считаться сожительницей, – все это объяснила мне Нюшка, – и потому мама ушла от папы, и потому меня, незаконнорожденного, не принимают в гимназию.
Так! Все разлезалось по швам, как тесные штаны.
У отца, по-видимому, начались какие-то неприятности по службе. Опять по утрам он что-то бормотал, обычно неторопливые движения приобрели несвойственную им резкость. Я очень не любил видеть его таким.
В Москву, к Адаму Эдуардовичу, он уже не собирался. Вставал, сердито заводил часы и уходил из дому, угрюмый и молчаливый. Ему уже было стыдно за слова, которыми он обозвал меня, – я чувствовал это, – но он продолжал быть неприветливым, и я догадывался, что это настроение от неудач.
Так! Время шло малорадостное.
От мимолетного посещения гимназии радости не прибавилось.
Я не забыл шум, крик и топот бегущих на меня мальчиков. «Рубаха! – кричали они. – Эй!.. Фью!..» Холодный восковой блеск паркета… сумрачность вестибюля… длинные ряды вешалок с гимназическими фуражками… Крики и улюлюканье вокруг меня, когда, отвернувшись, сжав зубы, я стоял в розовой рубахе, подвязанной тесемкой, в постыдных штанах выше колен – отпрыск, отставший от своих сверстников: в этом году большинство знакомых мальчиков уже надело форменные фуражки…
С тем большей настороженностью я ожидал хозяйских сыновей, запаздывающих к началу учебного года.
За последнее время мы уже дважды меняли квартиру. Опять я шагал за тачкой, перевозившей наш стол, стулья и этажерку, – шагал с лампой в руках… Отец задалживался каждой квартирохозяйке, и после двухмесячного ожидания нам неизбежно предлагали освободить комнату. Благодаря этому в короткое время я и увидел много новых людей и комнат. Среди хозяев были и полнотелые, седоволосые барыни, сидевшие по целым дням у окна в кресле, читавшие по утрам газеты, и утомленные, жадные к деньгам женщины с осунувшимися лицами и быстрыми движениями, иногда деланно ласковые, а чаще безразличные, злые, надменные.
Комнаты были также разнообразны: тухлые и темные, светлые, но с ободранными обоями; заново отремонтированные, но узкие полуподвальные; с окнами в сад, с одним окном во двор, с тремя под лестницей; с пятнами сырости, с кошачьим запахом, проветриваемые и непроветриваемые.
Почти всегда разговор между отцом и квартирохозяйкой начинался с того, что, дескать, ни за что комнату не сдали бы, когда бы не крайность! Или замечалось, что, дескать, предыдущий жилец был превосходный – вежливый и спокойный – человек, жил в этой комнате много лет – студент или почтовый чиновник – и ни за что не съехал бы, не променял бы эту комнату на другую, но… женился.
– Теперь, – говорила хозяйка со значительной улыбкой, – теперь каждое воскресенье приходят с женою пить чай.
– Так! Сколько же вы просите? – полусмущенно, полунасмешливо приступал к делу отец. – Что будет из меблировки?
И, подобрав свой скарб, мы опять переезжали с квартиры на квартиру.
Прислуги нас презирали всюду.
Новая наша хозяйка была капитанской женой – Варвара Никаноровна, полная дама со строгим взглядом, с часиками на длинной золотой цепочке вокруг закрытого воротника платья.
С первых же дней у нее с отцом начались споры о Льве Толстом. Я понимал так: речь идет о том, что Льву Толстому нельзя ходить в рубахе за плугом и не ходить при этом в церковь. Прислушиваясь к спору, я удивлялся. Я знал, что Лев Толстой недавно умер, а папа не ходит ни в церковь, ни за плугом, – о чем же тогда спорить?
Капитанские дети, гимназисты Володя и Шура, все каникулы плавали с отцом на пароходе Александрийской линии – и со дня на день должны были вернуться из плавания. Варвара Никаноровна если и заговаривала с отцом о сыновьях, то всегда с таким видом, что, дескать, она касается этой темы из снисходительности. Пожалуйста, не вообразите себе чего-нибудь лишнего!
Осень уже пришла. Варвара Никаноровна подумывала о дровах и о калошах для своих мальчиков, а те еще плыли где-то в море Эгейском… Ах, развернуть карту, проследить полноводные проливы и моря, заполненные островами, между Европой и Малой Азией! Там, представлялось мне, вереницами идут фелюги и пароходы. На мачтах кораблей стоят флаги. С берегов салютуют пушки, клубами восходит дым… А у нас… по улицам и мимо нашего дома бежали после уроков драчливые второклассники – «карандаши» и «чернильницы» – и, сторонясь драчунов, степенно несли свои ранцы приготовишки – пузыри с витыми корзиночками для куриных котлеток в руках.
Мне на завтрак отец оставлял аккуратно нарезанные и присыпанные солью ломтики «докторского» хлеба.
Кто знает, может, в эти минуты я плакал.
Уходя из дому, отец задавал мне урок.
– Довольно слоняться без дела! Пора бросить фанаберию! Пора понимать!
А я ведь понимал! Я и не думал улизнуть от закона божьего, а главное «Тарас Бульба» был зачитан до дыр: не может быть, чтоб и я, как Остап, не услыхал в роковую минуту страстно-желанный оклик отца в толпе врагов! И не моей участью была позорная участь сиятельного Андрия, моего тезки…
Ветхий завет с его притчами и историями огненно-грозных пророков мне нравился; не нравился задачник – шершавая его бумага, осушающая кончики пальцев, голодное слово «столбцы» и выражение «вынести за скобки». Все, о чем твердили эти задачники, и все, что требовалось в них доказать, имело свой конец сейчас же, как только закрывался оборванный переплет книжки: ни один лавочник не продавал свой товар так, как это изображалось в скучных задачах на арифметическую пропорцию, ни одно доказательство не применялось в жизни.
Так же не умел я узнавать в жизни новозаветных мытарей и фарисеев. Но притчи-легенды, истории войн евреев с филистимлянами, описание древних египтян и вавилонян – все то, что питало воображение, было интересно: и причудливые осадные башни у зубчатых могучих стен, и частые колонны иерусалимского храма, и тростники Нила, и свободные одежды пророков, и грозный смысл пророческого гнева. Я чувствовал, должно быть, чистую поэзию библейских поучений. Гору Синай я представлял себе синей, а реку – Нил – ленивой, но вспомнил при этом маму, ее имя…
Братья Уваровы плыли из этих стран, и пароход «Иерусалим» ожидался в порту со дня на день.
Осень была холодная. Рано опали листья, и улицы оголились. Уже поторапливались прохожие – в демисезонных пальто с поднятыми воротниками. На перекрестках задувал ветер, но было сухо, шелестел лист сорванной со столба афиши, и у Варвары Никаноровны уже топили печи, когда на дребезжащих дрожках подкатил к воротам капитан Уваров с сыновьями Шурой и Володей: «Иерусалим» пришел из анатолийского рейса.
Капитан Александр Павлович Уваров и его сыновья – все трое загорелые, сверкая белыми костюмами, быстро и шумно взбежали по холодной лестнице в свой дом, за ними несли портпледы, баулы и чемоданы. Позже, со вторым извозчиком, двое матросов доставили большой ящик и поволокли его по ступенькам. В прихожей уже топтался дворник. Он и матросы стали разматывать рогожу, натужно звучали их голоса, взвизгивали гвозди. Прислушиваясь из-за дверей нашей комнаты, я старался уяснить себе, что пробуждает в душе этот шум, взвизгивание гвоздей, проникший сюда запах рогожи. Через смежную комнату доносилось веселое позвякивание стаканов, слышался солидный, счастливый голос Варвары Никаноровны и глухой хриплый бас, должно быть, капитана Уварова, вскрикивание мальчиков.
Я прилег на кровать – и вспомнил все. Я вспомнил себя в узкой, почти младенческой постели: лежу, прислушиваюсь к веселью гостей, как это бывало, когда мы жили с мамой. Я вспомнил ящик с тульскими пряниками.
Где важность отца, господствующего за столом? Где мамин пирог с цукатами? Где тульские пряники? Почему все так изменилось?
Там, слышал я, господствовала Варвара Никаноровна. Я слышал ее счастливые, повелительные интонации:
– Много рому нельзя… Шура! Не греми ложечкой. Передайте Володе пирог.
Потом она сказала – и это опять насторожило меня:
– …кажется, ищет службу.
«Это о папе», – догадался я и притаил дыхание. Варвара Никаноровна холодно разъясняла семье:
– …исповедует некоторые толстовские идеи. Их двое: с ним мальчишка.
Мальчишка! Может быть, язва двора? Теперь я не решился бы даже встать с кровати, скрипнуть ею.
Я просидел взаперти, покуда не убедился, что чай у хозяев кончен и все либо ушли спать, либо переодеваются, и тут, скользнув по коридору, прошел дальше, во двор с черного хода. В коридоре шибанул мне в нос запах рогожи, пряно и тонко пахло там бананами и апельсинами…
Наступала ночь. Я шел по направлению к дому, в котором – знал я – по-прежнему живут мать и сестра, где похоронена Жмурка… Витрины магазинов светились и пестрели разнообразным товаром, бросали свет на тротуар – это по одну сторону моего пути, а по другую – вдоль мостовой качались, освещая плоские камни, круги от уличных фонарей.
Еще не всюду были подвешены электрические фонари-лампы, и нередко вдоль кварталов еще стояли тумбы фонарей газовых. Тихо шипя, газовые огни, прикрытые сверху, отбрасывали куда-то к небу хвосты черных теней, таинственно рассеивающихся в пространстве. С моря наплывал туман.
В последние дни я только и слышал, что «в зените обнаружена комета Галлея». Обнаруженная в зените комета летит к земле, и страшный хвост кометы, отравив воздух, должен отравить всех людей.
Я переходил от одного фонаря к другому, шел дальше и дальше и всюду видел поднимающиеся надо мною конусообразные хвосты теней, чего прежде не замечал. Становилось страшно и сладко. Я шел один в тумане, плавающем вокруг, в туманном холодящем пространстве между планетами, – не шел, а двигался, уже окоченевший, умирающий, расстающийся со всеми земными привязанностями – на этот раз окончательно.
Так я вступил в полосу света, отброшенного откуда-то сбоку, может, из распахнувшихся дверей лавочки. Свет озарил меня, и грубый мальчишеский голос сказал:
– Андрюшка!
Я увидел перед собой Стивку. Что-то жуя, он весело спросил:
– Где запропастился? Ты не живешь уже в четырнадцатом номере? Там, где Лахизиха?
– Нет, я тут.
Стивка продолжал так же дружелюбно:
– Хочешь обрезков? Бери.
И он протянул мне сверток с обрезками из гастрономического магазина.
– Рви! – повторил он.
Это лакомство было мне знакомо: на оберточной бумаге, шершавой и волокнистой, как страница задачника, промаслив ее, лежали обрезки из-под ветчины, сала, колбас и сальтисонов – нежный комок еды, пиршество бедняков.
Да, я был голоден. Но как отнестись к Стивкиному приглашению? Я вспомнил свои обиды, но вспомнил и мысли в купальнях у Дорофея после «куликовского побоища». Вот и наступил он, этот момент выбора! Вспомнил также события и обиды последних дней. Стивка все еще протягивал мне сверток. В его взгляде я видел что-то новое для меня, располагающее к доверию. Мои симпатии склонились на сторону мальчика, протягивающего мне угощение.
– А что это? – спросил я, хотя и было ясно, что это еда: ветчина, сало, ребрышки.
– Что? Обрезки. Тут на пятнадцать копеек. Обыграл Моньку. Идем ко мне – покажу картинки с коробок и бумажки, их у меня куча, есть и «Ласточка», и «Керчь», и бумажки от разных шоколадов… Обыграл весь двор. Закуривай!
Продолжая угощать, Стивка протянул мне коробок папирос «Сальвэ» – десять штук шесть копеек, гильза с фильтрующим мундштуком, – коробок с картинкой почти такой же высокой ценности, как «Ласточка» или «Керчь».
Я взял папиросу. Это была моя первая папироса.
Но, в сущности, встреча с главным моим врагом была мне на руку.
Неясное намерение, приведшее меня в этот старый квартал, квартал прежней жизни, уже сменилось твердым сознанием, что дальше, к маме, я все-таки не пойду. В своем поступке я вдруг увидел измену отцу и свою слабость. Нужно сказать, что сестренка Наташа иногда навещала нас, раскольников. И не раз, когда мы с сестрою оставались наедине, девочка старалась меня разжалобить, вернуть «домой» – и делала это, надо полагать, не без наущения старших своей стороны. Не раз я слышал от нее, что, дескать, Никита Антонович хороший, он совсем хороший, он всегда обо мне спрашивает и любит меня. А мама, мама себе покоя не находит, бедная мама не может без слез слышать моего имени, только и разговоров, что здесь, у папы, я совсем пропаду. Как может один мужчина, да еще такой, как папа, уберечь мальчика?
– Вот же ты сам обижался на розовую рубашку, – аргументировала Наташа, – и на рубашку и на штаны. В домашнем деле от мужской руки пользы мало.
И откуда эти слова у девчонки? А она уже хвастает:
– И новое пальто не сшили тебе и в гимназию не определили. А у меня новые пелеринки и новое пальто.
Я ожесточался. Нет, я ничего не забыл из прежних обид. И главное – ни за какие дары, ни за какие подношения не хотел признать я «Никитку», как называл я Никиту Антоновича, заменившего на Арнаутской папу.
Так вот, по мере приближения к дому на Арнаутской, я остывал. Нет, предательство гоголевского Андрия не станет мне примером! Ни за что!
Недавняя нежность и грусть рассеялись. Блуждая под фонарями, я чувствовал острее страх одиночества. Но и к себе домой, то есть назад к Уваровым, я не хотел идти, и мне опять грезилось что-то об искуплении и возмездии, о новом, очищенном мире, как когда-то в Юнкерском сквере – о тигре, наделенном чувством справедливости…
– Должна упасть комета, – сказал я.
– Что это? – спросил Стивка.
– Комета – это такая звезда, что не стоит, а летит. Летит и рассыпает хвост.
– Куда упасть комета? – устрашаясь, спросил Стивка.
– На землю для всеобщей погибели, – разъяснил я, желая отблагодарить Стивку за его хлеб-соль. – Это будет комета Галлея.
– Что значит «галлея»? – спросил Стивка.
Мы стояли уже у его подворотни – той самой, откуда еще недавно глядело столько опасностей. Осматриваясь, я удивлялся все больше. Мерцает фонарь, мирно двигаются тени. Стивка стоит с опущенными глазами – не то устрашенный, не то задумчивый.
Но вот, прежде чем взять зубами папироску, Стивка жестом опытного курильщика перекручивает мундштук, оживляется и с растущей заинтересованностью повторяет вопрос: что значит «галлея»?
От волнения меня охватывает легкий озноб.
– Идем напротив, в тую парадную, – озабоченно говорит Стивка. – Тебе холодно, простудишься.
Я совсем теряюсь. Как? От Стивки ли я слышу?
Стивка привел меня под лестницу в доме, знакомом мне с первых дней сознания, – роскошный фасад в мраморе и зеркальных стеклах – в эти подъезды никогда прежде я не решался войти.
А тут было мирно, тихо и тепло. Устроившись в глубине, под площадкой мраморной лестницы, у самых радиаторов отопления – модное усовершенствование богатых домов, – мы долго сидели здесь, не видимые для прохожих, доедая свои обрезки, покуривая, развивая беседу.
Я рассказал Стивке все, что знал о кометах и о механике небесных светил. Стивка ни разу не прервал меня.
– Ты об этом прочитал в книжке? – спросил он с грустью.
– Есть разное. То, что в книжках, тоже на самом деле.
И я упомянул о жертвах во имя истины, об одном из «мучеников науки» – великом астрономе Галилее, предполагая, что комета Галлея – это и есть комета имени великого астронома. Все более разохочиваясь, рассказал и о подвиге молодого казака Остапа и о знакомом мальчишке, оставшемся на таинственном Острове Сокровищ и сейчас вместе с нами обреченном на гибель, – Стивка совсем притих, долго молчал и потом сказал так:
– Ладно. Светопреставления еще не будет. Вот что теперь. Все казаки и шайки имеют такого, как ты. Ты будешь жить не в пещере, а живи у себя дома, но мы все равно должны повиноваться тебе, когда важное дело. Ты будешь наш тайный царь.
Глава тринадцатая и эпилогВ доме у Уваровых мы удержались.
Мы пережили здесь зиму, весну, подошло лето. Володя и Шура благополучно сдали экзамены и опять собирались с отцом в плавание.
Даже из зимних рейсов Александр Павлович привозил ящиками бананы и апельсины, финики, кокосы, перец. Прихожая и кладовые всегда были заставлены ящиками с вином в темных загадочно-красивых бутылках с душистыми пробками, с цветистыми нерусскими этикетками. По подоконникам и стеклам окон ползали, меняя окраску, хамелеоны, улавливающие мух стремительными языками. Семейства черепах жили в аквариумах с песчаным дном, а когда их выпускали, черепахи ходили по всему дому.
У мальчиков было немало забавных штук – подарков из Смирны и Константинополя: шкатулки с потаенными ящиками, кораллы, бусы, почтовые карточки, марки, игрушечные пистолеты и фотоаппарат «Кодак».
Все оттуда, из-за горизонта, шли к нам товары Азии и Африки, украшения, фрукты и лакомства и нечто еще, чего бы я объяснить не мог, – воображаемая жизнь тех земель, воображаемая окраска морей, проливов, говор людей, бухты и берега турецкого Босфора. Я полюбил эту страну за ее щедрость и просто за соседство. Вскоре я знал наизусть порты и рейды до самой Александрии. Я удивился тому, что Шуре и Володе хватает терпения готовить свои уроки. Шура был во втором, Володя – уже в четвертом. Зачем думать про четвертные – ну, скажем, выведет латинист пять или не выведет? – если ты был в Галате и летом опять Афины и Пирей!
– Володя! – звала Варвара Никаноровна. – У тебя не приготовлено экстемпорале. Изволь кончить слова!
И Володя послушно смывался из нашей комнаты.
У них, в их комнате, лежали ковры. На подоконнике стояла модель «Иерусалима», на столе – компас и барометр, в углу – под потолком – пальма. И, наконец, в круглой высокой клетке жил попугай.
Все это из прекрасной щедрой Турции, из доброй прекрасной страны!
Но в этом царстве добрых черепаховых вещей и хамелеонов я не предал своего звания, возложенного на меня Стивкой. Нет, я не разоблачил его, не разоблачил своей связи с запорожским куренем на Арнаутской; блюдя этот секрет, я соблюдал пафос собственного достоинства.
Стивка вдохнул в меня уверенность. «Тайный царь»! Это, конечно, смешно, это я понимал. Но что же? Не в этом суть. Если меня признает Стивка вместе со всей оравой мальчишек, гремящей по околотку, то это не шутки: я имею, стало быть, право держаться перед капитанскими детьми как равный; рано или поздно – и капитанские дети узнают, кто я таков!..
Но уже и теперь, на второй же день после приезда, братья начали присматриваться ко мне, заговаривать, а вскоре установились вполне приятельские отношения, и, как ни странно, особенно быстро пошло сближение со старшим братом, Володей. Мы явно симпатизировали друг другу, хотя румяный и загорелый Володя был на три года старше меня, уже учил латынь, имел собственный велосипед.
И вообще как будто все уладилось. Я размышлял: почему Варвара Никаноровна все еще не требует освободить комнату? И решил так: по-видимому, ей понравился лактобациллин.
Чаще, чем о Толстом, теперь спорили о «методах Мечникова». На нашей этажерке отец поставил карточку старичка, снявшегося с собакой, – это был профессор Мечников, – и в компании с врачом по детским болезням Яки затеял изготавливать лактобациллин. Яки был грек, и звали его Кирик Менасович. Я заключил еще, что Варваре Никаноровне понравилось, что Кирик Менасович может лечить детей. Она присоединилась к делу, и вся компания решила пропагандировать молочные продукты, изготовленные по способу Мечникова. Это и называлось «лактобациллин».
В заботах о лактобациллине прошли рождественские каникулы. Пасха. Верба. В апреле расцвела сирень. Настало лето. Открылись кафе, купальни, жизнь передвинулась ближе к морю.
Дымил на внешнем рейде броненосец «Святой Пантелеймон». Могучий броненосец был виден вполоборота, три толстые трубы полузаслонены одна другой, но рельефно оттенены, так же как выпуклости бортов, плоскости бортовых срезов, башни и казематы, похожие на металлические катушки. Трубы дымили. Под трубами стоял лес вентиляторов, и спереди возвышались мостики с боевыми марсами. Можно было рассмотреть двенадцатидюймовые орудия, выставленные из башен. У бортов броненосца было черно от шлюпок, баркасов и катеров. Между броненосцем и берегом установилось беспрерывное движение.
Снова в порту, у трапов, толпились зеваки, но, разумеется, это было поинтересней болгарского крейсеришки – линейный корабль Черноморского флота «Пантелеймон»!
– «Потемкин»! – многозначительно сказал за мною кто-то из зрителей. – Зловещая тень девятьсот пятого года!
Что это? Где слышал я этот голос и эти слова? Я понял это после того, как мне объяснили, что на рейде дымит тот самый корабль, который пугал воображение мамы и Екатерины Алексеевны еще тогда, в первые годы жизни, на Арнаутской. Почему «Потемкин» стал «Пантелеймоном»?
И я старался представить себе, чем страшен был тогда «Потемкин» и чем теперь лучше эта «зловещая тень» его, заимствующая религиозную славу Пантелеймона Целителя. Мне не казалось, что самое наименование «Пантелеймон» лучше «Потемкина», но смутные какие-то толкования, оставшиеся с тех пор, в которых и правда было что-то черно, тревожно, оживлялись в памяти: «Потемкин» стрелял по городу…», «Пожар, подожгли пакгаузы…», «На Молдаванке погром…»
Эти ассоциации сделали то, что я как-то особенно стал чувствовать близость броненосца, стоящего за маяком; взволнованно всматривался в замысловатые, могучие формы хмуро окрашенного броненосца. (Впоследствии с таким же чувством всматривался я в человека, с которым уже связано нечто значительное, м о е, но которого вижу впервые.) Теперь же, казалось мне, буде удалось бы уяснить что-то, не поддающееся еще разуму, я получил бы возможность зажить по-другому. Всего, что случилось плохого, – всего этого как бы не было, все началось бы сначала. Да, да, все обновилось бы – и без ошибок, обид и потерь! Вот как было бы, если бы я понял то, что меня волновало в грозном зрелище. Вот же стоит он, металлический корабль, гигант, не тронутый никакими силами, такой самый, каким он был девять лет тому назад, – трехтрубный, четырнадцать тысяч тонн!.. Но почему же все-таки уже не «Потемкин», а «Пантелеймон»? И почему – тень?
Целые дни я пропадал в порту. Незаконнорожденный, я все-таки не был слепым, я мог вознаградить себя. Я видел тот броненосец, с которым мы начинали жизнь, я наблюдал всё – дымы «Пантелеймона», баркасы, переполненные матросами, пузатые катера с маленькой трубой, начищенной, как самовар. Катера причаливали с офицерами, одетыми в белые кители и при кортиках. Стоял плеск. Баркасы шумно опорожнялись, покрикивали старшины: «Смирно!» И старший из офицеров первым взбегал по трапу.
«Пантелеймон-Потемкин» еще дымил в виду города, и на бульваре было весело: какой-то старик установил штатив с подзорной трубой – и гривенниками наполнял ящик. Обыватели толпились у парапета, обрывающегося над портом, обменивались биноклями, покуривали и грызли семечки. Когда вдруг прошла тревога…
Бежали газетчики, размахивали листом газеты. Они кричали:
– Убийство в Сараеве!.. Кровавое покушение на австрийского фельдмаршала! Экстренный выпуск!..
Я первый принес в дом это известие.
Варвара Никаноровна отложила в сторону толсто переплетенный вольфовский том «Гигиена тела» и, строго глотнув, послала за газетой, а вечером, когда пришли отец и Кирик Менасович, все выяснилось: где-то убили принца.
– Чревато! – сказал отец. – Я полагаю, что Сараево – уже символ.
– Не утверждайте, Александр Петрович, – возражала Варвара Никаноровна. – Как можно? Именно теперь у нас превосходные отношения с Францией: президент посетил Петербург.
– Но война не с Францией.
– Александр Петрович, с вами невозможно!..
Кирик Менасович задумчиво молчал.
В тот же вечер я получил записку от Стивки. Как всегда, под окном раздался условный свист, я вышел, и один из «наших» передал мне «пакет с эмблемой»: череп, меч острием вверх, скрещенные пищали. Все это на щите священном, как у Дмитрия Донского. Эмблему сочинил я. В конверте была записка:
«Уже надо, чтобы запорожцы были на войне раньше. Против турок банабаков. Должен выдумать, как уехать на Иерусалиме. Ты можешь. Мы будем в Арбузной гавани».
«Иерусалим» действительно уходил завтра, и с ним отплывал Володя. Шуру решено было на это лето отправить в Петербург, к тетке.
В тот вечер я, Шура и Володя беседовали в комнате хамелеонов и черепах, тогда как взрослые сидели в столовой – папа, Александр Павлович, Варвара Никаноровна, доктор Кирик Менасович и новый интересный гость. В гостях у Александра Павловича был его друг-приятель, офицер с «Пантелеймона», капитан второго ранга фон Гершель. Миролюбивый вид его и поразительная его молчаливость ничего мне не объяснили, напротив, еще сильнее запутали меня в моих размышлениях о загадочном, страшном броненосце. Я попробовал было спросить расшитого золотом, пахнущего духами моряка, почему не называют его броненосец по-старому – «Потемкин». Офицер удивился не то моему любопытству, не то затейливости вопроса и отвечал мне, что так – «Пантелеймон» – якобы лучше, звучней… С Александром Павловичем фон Гершель плавал на транспортах во время русско-японской войны в эскадре адмирала Рожественского. Моряки об этом и вспоминали, время от времени вставлял словечко папа: Дальний Восток… Цусима… Мадагаскар. И, конечно, интересный разговор исправил впечатление от пустой капитанской отговорки.
Капитан фон Гершель скоро ушел, а остальные все еще пили чай с ромом, курили, – к нам доносились их реплики:
– Германия держит в Средиземном море крейсера…
– Я не стратег, но с нашим флотом, знаете ли, действительно!
– Ну, Александр Петрович, что с вас спросишь?
– Я удивляюсь, Саша, тебе: неужели не ясно, что при первых же ударах лоскутная империя расползется по швам?! Турция будет изолирована, экспансия славян.
И дебаты все нарастали: «Крест на Айя-София… юнаки…», «Милюковские бредни…», «Ах, Александр Петрович, с вами невозможно!..», «Гебен» и «Бреслау»… «Вы и это кладете на весы?..», «Кирик Менасович, по обыкновению, воздерживается…», «Балканы – пороховой погреб…»
– А в самом дворце ты был?
У нас, мальчиков, шел свой разговор – о том, что у султана девяносто девять дворцов и в каждом дворце сто комнат. Володя хотел еще что-то соврать, но не вышло.
– В самом дворце я не был, но у меня там знакомые.
Дворцы имели сады, фонтаны, были они из мрамора, а наш дом был некрасивый: фасад облуплен, с улицы керосиновая лавка. Самые красивые лавки были табачные. На вывесках табачных лавок коричневые турки в чалмах роскошно курили трубки.
С каждым днем Турция становилась прекрасней.
Из-за отъезда Володи я забыл обязанности перед своей шпаной и вспомнил про записочку уже в постели. Я думал о Турции уже по-иному – без древней запорожской вражды. Снова приоткрывались сферы освобождения. Я снова как бы летел, летел и падал, и вместе с тем снова, как тогда, на Арнаутской, когда еще только все началось, стало вокруг загадочно и беспокойно. Отец приоткрыл ставню и позвал меня:
– Андрюша, спишь?
– Нет.
– Посмотри, прожектор.
Я босиком поспешил к окну. По небу метался голубоватый луч, то раскрывающийся, как веер, то стягивающийся в узкую полосу. Тонкий, он уходил высоко в небо, но, продержавшись так, вдруг погасал, и, снова внезапно вспыхнув, он облетал небо и падал где-то далеко за городом.
Так проходила тревожная ночь. На другой день не стало проще или спокойней.
«Иерусалим» отвалил в десять. Часам к двенадцати начался разговор с босотой, ждавшей меня на дубке «Маврикий и Константин». В двенадцать я был развенчан.
– Предался банабакам, – сказал в заключение Стивка. – Ты теперь лучше на Арнаутскую не приходи: береги ряшку!
Я еще видел туго обтянутую железом, выгнутую корму с золотыми буквами: «Иерусалим». Взбаламученная винтом вода плескала и зализывалась кружась. С удаляющейся кормы Володя махал белой фуражкой.
Невзирая на угрозы, я остался верен щедрой, прекрасной стране, в которую только что отошел «Иерусалим».
Не менее значительные события последовали сейчас же.
Пятнадцатого июля[5]5
По старому стилю.
[Закрыть] Австрия объявила Сербии войну. Восемнадцатого в России была объявлена всеобщая мобилизация.
Но воинские присутствия наполнились мобилизуемыми за много дней до официального объявления. К воинскому начальнику был вызван и отец. Он был мобилизован как военный чиновник запаса и назначен по специальности – заведовать хозяйством великолепного госпитального судна «Индия». Если не ошибаюсь, отцу удалось получить назначение на белотрубную «Индию» благодаря связям Варвары Никаноровны. Назначение было ответственное.
Сейчас же отец начал хлопотать о том, что прежде не удавалось: о моем устройстве. Дело пошло через духовную консисторию. Только архиерей мог узаконить меня и утвердить отца в его правах на сына. Прошения и переписка пошли по ведомству. Но, как мобилизованный, отец получил теперь значительное облегчение, и наконец мне было разрешено считаться сыном Александра Петровича Адамова, коллежского асессора.







