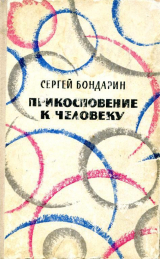
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
В доме номер 19 по Ришельевской улице на углу Жуковского (а в прежние времена Почтовой) на третьем этаже с улицы жил мой приятель, гимназист Доля, сын популярного зубного врача, а над ними этажом выше жила семья Бабель. Они жили дружно.
Для одной стороны было лестно и выгодно дружелюбное соседство первоклассного дантиста, другая сторона ценила верхних жильцов именно за их высокую нравственную репутацию, за то, что глава семьи, старый Эммануил Бабель, достойно нес свои обязанности коммерческого агента заморской фирмы сепараторов до самых последних дней.
В наших с Долей глазах сепараторы – это было что-то вроде велосипедов, тоже поставляемых в Одессу фирмами, они имели неплохой спрос среди хуторян плодоносной Одесской губернии. Но главное заключалось не в этом.
Как раз не это составляло привлекательность близкого соседства.
Долина семья была семьей литературной, то есть здесь выписывались модные журналы с приложением, ходили в литературно-художественный кружок. Кажется, среди пациентов Долиного папы были Бунин и Алексей Толстой, в приемной за журналами я не раз видел Утесова и Клару Юнг.
Разумеется, Доля писал стихи и рассказы и – вопреки обычному – не делал из этого секрета, наоборот, за семейным столом частенько слушали произведения Доли и одобряли их. Вероятно, догадывались, что и моя дружба с Долей – я все-таки был мальчик незаметный, демократический – тоже основана на общности литературных интересов. Иногда вежливо намекали, что не прочь были бы послушать и мои произведения. Я отмалчивался.
А между тем, конечно, я тоже писал. Помню и теперь тетрадки, в которые тщательно записывались эти сочинения. Как правило, сочинения отличались величавостью. В этих вкусах мы резко расходились с Долей, у которого сказывалась наблюдательность, вкус к житейскому и даже смешному: он мог карикатурно описать пациентов отца, дожидавшихся приема, или ухватки размашистой горничной Веры, или гимназического преподавателя, какую-нибудь уличную, а то дворовую сценку. Нет, меня влекли образы вечные. Мои произведения назывались «О том, как это было, или Изгнание из рая», «Огненные языки Апокалипсиса» – и все в таком роде. Я подробно описывал, чего следует ждать грешным людям, и, признаюсь, кроме других причин, это тоже была причина, мешавшая мне спать по ночам. Соблазны дня и вечерних улиц мешались в моем воображении с ужасом возмездия. Разверзается земной шар, как расколовшееся яйцо, и выливается из недр пламя, карающее порок… А в картинах грехопадения праотцев я очень сострадал мною заботливо описанной, нежной, кроткой, беспомощной, золотистой, как у Луки Кранаха, Еве, поддавшейся соблазну и вдруг почувствовавшей свою наготу. Девушка рысцой убегает от преследующего ее свирепого архангела, а вдогонку за ними мужественно шагает Адам, весь в шкурах. Прелестная не знает, куда девать девичьи руки, двух не хватает, чтобы прикрыть стыд. По всему саду с укором падают яблоки и груши…
Нельзя сказать, что я был беспорочный мальчик – увы! Я уже сознался в этом. Вероятно, однако, я инстинктивно чувствовал вечный непреходящий смысл библейских мотивов, образов добра и зла, их мораль и уже начинал понимать преимущество красоты над уродством. Уже тогда мальчику, подростку и юноше, хотелось платить полным рублем за таинственный дар жизни, и мне не нравилась суетность моего товарища, интерес к мелкой разменной монете.
Надо еще сказать, что в Одессе только-только кончилась война. Был первый год утверждения советской власти, война на улицах кончилась, продолжалась война на западной границе страны с белополяками. Мы уже знали о Конной армии Буденного и Ворошилова, о ее победах, и это становилось одной из преобладающих тем в семейных разговорах.
Я не совсем понимал, в чем дело, но, по-видимому, о доблестях Красной Армии и конницы Буденного Доля наслушался не от кого другого, как именно от Бабеля-младшего, сына Эммануила Исааковича, Исаака Эммануиловича, который сравнительно недавно приехал из Петрограда и теперь служил в ГИУ – Государственном издательстве Украины.
Говорили о том, что, вопреки желанию отца видеть сына хорошим коммерсантом, известным юристом или знаменитым скрипачом, сын Исаак стал писателем, его хвалил Максим Горький и он уже печатал свои произведения в Петрограде.
Как-то я застал Бабеля-старшего у Доли, он беседовал с Долиным папой, он говорил:
– У вас высокая клиентура, у вас замечательно талантливая дочь (у Доли была сестра), я понимаю, что девочка должна трудиться – это очень хорошо, что она так долго усердно играет гаммы. Но, знаете, Исаак… мой Исаак… Он, бедный, тоже с утра трудится над чистым листом бумаги. Что поделаешь! Вы извините меня, пожалуйста, я передаю просьбу Исаака, он так хорошо относится к вашему Доле, всегда находит для него время. Исаак говорит, что утром правда яснее.
Просьба Бабеля была уважена беспрекословно. Впрочем, кажется, через некоторое время Бабель-старший опять приходил с просьбой обратной: нельзя ли музыкальные упражнения – гаммы и ганоны Долиной сестры – перенести с вечернего на утреннее время.
Все это присказка. Рассказ идет к тому, что в один прекрасный день Доля решил раскрыться перед Исааком Эммануиловичем и показать ему свой, на его взгляд, самый лучший рассказ.
Этот рассказ я знал. Как все у Доли, он был основан на действительности, описывался один из эпизодов недавней гражданской войны. Возвращаясь из гимназии, Доля все это видел своими глазами.
По длинной безлюдной улице, ведущей к Карантинному спуску в порт, где отступающая белогвардейщина грузилась на пароходы, грохоча и подпрыгивая на булыжниках мостовой, бешено мчались извозчичьи дрожки. Извозчик нещадно хлестал лошаденку, за его спиной лицом к задку с револьвером в руках во весь рост стоял красивый молодой офицер, другой рукой придерживая прильнувшую к нему даму. Как ни странно, в руке у дамы розовое яблоко. Время от времени, подбадривая извозчика, офицер стрелял у него над ухом, но не отводил глаз от перспективы улицы – вдали, наверху уже показалась тачанка, по-видимому, преследующая беглецов. Дрожки промчались, скрылись, промчалась тачанка. Все затихло.
Вот эта эффектная картина жизни и вдохновила Долю. Его можно понять – это действительно было интересно! И мы с Долей не сомневались, что на любого читателя рассказ произведет такое же потрясающее впечатление, какое он произвел в кругу семьи (Долина мама все вскрикивала: «И это ты видел своими глазами!»), а Бабель-младший, писатель из Петрограда, несомненно, признает в Доле своего собрата.
Несколько дней ожидания были мучительны. Милый мой дружок Доля, хорошенький благовоспитанный мальчик, весь в маму, за эти дни подурнел. Мне он сказал:
– Теперь на очереди ты. Не дури – приготовь собрание сочинений.
И я, поддавшись, как первобытный Адам, искушению, проводил ночи за каллиграфической перепиской самых ценных своих произведений.
Бабеля-младшего я видел раз или два на полутемной лестнице, запомнил живой любопытный взгляд из-под круглых очков, неторопливость этого человека. В ожидании мы сдали, не выдержали, решили подтолкнуть дело, приискали какой-то повод и постучались к Бабелям – тока не было, и звонки не действовали.
Нас впустили. В темной передней пахло, как во всех передних приличных квартир того века, обоями, калошами, шубами, но тут пахло еще английским мылом и чуть-чуть – самоварным дымком: неподалеку посвистывал самовар и загадочно светились его темно-красные огоньки.
Эти две особенности бабелевского быта – любовь к хорошему мылу и к чаю из самовара – я встречал не раз и позже. Исаака Эммануиловича, кажется, дома в тотчас не было. Долю пригласили по делу в комнату, я подождал его, но ушли мы ни с чем. Уже следующий мой визит к Доле был счастливее.
Я застал в семье легкий переполох. «Исаак Эммануилович сказал, – сообщил мне Доля, – что сегодня он придет сам, ты явился кстати». – «Как же так, – удивился я, – ни с того ни с сего». – «Почему – ни с того ни с сего? А рассказ? Он встретил Веру и сказал: «Передай, что сегодня я приду к ним пить чай».
С особенной тщательностью готовились к вечернему чаю.
И вот Исаак Эммануилович пришел. С замиранием сердца я услышал его голос в передней. Сели за стол. Конечно, у соседей было о чем поговорить еще, кроме как о литературе: гость спросил об успехах юной пианистки, о том, как обстоит теперь с золотом, необходимым в зубоврачебной практике, о том, как теперь думают преподавать латынь в гимназии у Доли, и тут естественно разговор соскользнул на темы литературные. Поговорили о Леониде Андрееве, о Федоре Сологубе, о Кнуте Гамсуне. Особенно приятно было вспомнить личное знакомство с Буниным, кажется, даже с Куприным.
Я косился на Долю, переживал за него и был счастлив, что я сам мало приметен за столом. И в самом деле, я так пригнулся, что мой подбородок едва возвышался над столом и блюдечком со свежим абрикосовым вареньем. Доля же, наоборот, держался молодцом, смотрел опасности прямо в глаза, как, вероятно, тот самый офицер-герой, которого он описал в рассказе.
Ну, вот Исаак Эммануилович повел бровями, слегка морща лоб, оглядел Долю из-под очков и вынул из внутреннего кармана пиджака тетрадку производства одесской писчебумажной фабрики Франца Маха, то есть ученическую тетрадь высшего сорта. Таких не было и у меня.
Примолкли и взрослые.
Доля сидел рядом со мной, и я слышал, как стучит его сердце.
– Доля, – сказал гость и помолчал. – Доля, ко мне пришел сапожник (я ужаснулся и не в силах был поднять глаза) и принес заказанную работу. На кого я буду смотреть сначала? На сапожника или на башмаки? Я буду смотреть, конечно, на башмаки, а потом, если останусь доволен работой, я ласково посмотрю на сапожника. Сапожник хорошо выполнил заказ (глаза Доли блеснули, но мне все это вступление казалось подозрительным). Сапожник выполнил работу с шиком, давайте, однако, подумаем: ведь он долго этому учился! Сначала он был мальчиком у другого сапожника, потом возвысился до подмастерья и мастером стал далеко не сразу. Нет разницы в учении, чему бы ты ни учился. А зачем же думать, что можно сразу научиться хорошо писать? Быть мальчиком на побегушках горько, в чужой сапожной мастерской неуютно. Ах, Доля, этим мальчикам было гораздо хуже, чем нам с тобой! Мы всегда пили чай с вареньем. Ты учишься в гимназии седьмой год и будешь еще учиться, ты мальчик не глупый, теперь все ясно и теперь можно смелее сказать несколько слов об этом. – Исаак Эммануилович положил Долину тетрадь на стол, осторожно разгладил ее тыльной стороной ладони, снял и протер очки и закончил: – О том, что ты сочинил. Интересно! Интересный случай из жизни! Офицер, дама, извозчик. Бегут. В порту эвакуация! Беглецов настигает большевистская тачанка. Интересно, ничего не скажешь.
– Григорьевская, – робко уточнил Доля, – григорьевская тачанка. Атаман Григорьев.
– Ну, может быть. Это неясно. Но как ты можешь знать, ты, Доля, о чем так много – по твоим словам – в момент погони думает офицер и о чем думала дама? Кто она? Невеста? Похищенная жена? Как ты можешь знать это? А офицер, наверно, думал только об одном: уйти!
– А вот же Толстой пишет, о чем думают и в битве, – опять попробовал защищаться Доля.
Взрослые следили за разговором, затаив дыхание.
– Толстой! – строго воскликнул Бабель. – То, что знает Толстой и что ему можно, разве нам можно? Толстого читаешь, и кажется: вот еще одна страничка – и ты наконец поймешь тайну жизни. Это дано только ему. И Толстой, и Бетховен (при этом Бабель посмотрел в сторону юной пианистки), и Федор Сологуб говорят и о жизни и о смерти, но после того, как ты знаешь, что думает о смерти Толстой, незачем знать, что думает по этому поводу Сологуб…
– Исаак Эммануилович, – решился осторожно вступить в разговор Долин папа, – вам и карты в руки… Но, извините, пожалуйста, может быть, не нужно так ошарашивать Долю. Мне кажется – это ему говорил и учитель в гимназии – у него есть способности. И Федор Сологуб, знаете, все-таки очень оригинальный писатель!..
– Федор Сологуб – оригинальный писатель, – быстро заговорила Долина мама, – но, конечно, Толстой, конечно, Толстой… Исаак Эммануилович прав, и пускай мальчик тоже думает об этом. Судить надо по лучшим образцам.
– Всех нас будут судить последним Страшным судом, – заметил Бабель и попросил налить ему еще стакан чая, – а Долю судить еще не за что. Слушайте! Расскажу вам смешную историю. Вы знаете, что я служу в ГИУ. На днях нам выдавали там паек, все ждали, что будут рубашки, но вместо рубашек выдали манишки, и на другой день многие сидели за столом, несмотря на жару, в накрахмаленных манишках… Доля…
И вдруг на полуслове Бабель обратился ко мне:
– А что же это вы все молчите? Вы мороженое любите? Хотите, заключим с вами конвенцию: я буду водить вас с Долей к Печескому и угощать мороженым, а вы будете мне рассказывать разные случаи из жизни и на Страшном суде.
Не мог Бабель знать мое сочинение о Страшном суде, но я на минуту готов был заподозрить своего друга в предательстве: в сочинении о конце мира и о Страшном суде. Я, кстати сказать, вывел и себя со свитком своих грехов, простертым к Престолу.
Между тем гость, изящно отодвинув стул, встал, прошелся по комнате. В лице этого человека, вдруг обращенном ко мне, я почувствовал веселость и непреклонность, то, что взрослыми словами можно назвать духовным здоровьем, что-то чарующее было в безусловной чистоте и доброжелательстве его мыслей. Он говорил уже примирение, спокойно о том, что на месте Доли он лично уделил бы внимание не тому, что думают в момент опасности офицер и таинственная дама, а состоянию бедного извозчика, над ухом которого стрелял офицер. Бедняк вынужденно загонял свою лошаденку. А что его ждало дальше? Вот уж действительно есть над чем подумать!
– Стар он был? – спросил Бабель у Доли.
Но Доля на этот вопрос ответить не мог.
– Вы убили меня, Исаак Эммануилович! – твердил Доля.
И Бабель на это в свою очередь ответил ему теми словами, которые я запомнил навсегда и справедливость которых впоследствии подтвердил весь опыт моей жизни. Именно это последнее заключение Бабеля-младшего, Долиного соседа из верхней квартиры, эти его слова, порожденный ими образ остались тогда в моем юном представлении как образ человека, к кому и мне суждено было сначала только прикоснуться, а потом узнать больше.
– Так что же, – горько сетовал мой Доля, – значит, мне совсем не писать? Вы убили меня, Исаак Эммануилович.
И Бабель ему на это сказал:
– Доля! Мы на войне. Все мы в эти дни можем оказаться либо на дрожках, либо в тачанке. И вот что скажу я тебе сейчас, а кстати, пусть намотает это на ус и твой молчаливый товарищ: на войне лучше быть убитым, чем числиться без вести пропавшим.
Вскоре – к осени – в ненастный день я узнал от Доли, решившего стать врачом, что накануне, в такую же пасмурную, дождливую ночь, Бабель-младший тоже перестал трудиться над чистым листом бумаги и, собственно говоря, сбежал из дома на польский фронт, как потом выяснилось, хитро заручившись мандатами и призаняв денег у Долиного отца.
В семье Бабеля, говорил Доля, считают, что Исаак Эммануилович – самоубийца. Его коммунистические дружки из Губкома и ГИУ, где Бабель служил главным редактором, эти дружки-приятели подговорили его на безумный шаг. Так думают в семье наверху. В семье отчаяние, а в душе беглеца… Что должно было быть на душе Исаака Бабеля, кому было суждено через два года вернуться с записками о Конной армии?
ИСКУССТВО ВАРИТЬ СУП
Обещание, брошенное в день первого знакомства, Бабель не забыл; и позже, уже после возвращения из польского похода, он не раз угощал меня мороженым в городском саду.
Вознаграждение предполагалось одно: Бабель ждал от меня откровенных признаний о романтических приключениях. Я не щадил – чаще всего воображаемых – своих жертв.
Хорошо ли это? Пожалуй, действительно мое воображение немного развращалось, потому что в надежде получить вторую, а то и третью порцию я врал беззастенчиво.
Думаю, мой собеседник чувствовал это, и все-таки ему была интересна, должно быть, игра юношеского воображения. А мне даже теперь приятно вспомнить, что иногда и на самом деле мне ставили третью порцию.
Исаак Эммануилович был галантен, приветлив, всегда ровен. Его неизменное любопытство к жизни, охотливость ко всякой новинке, крылатому словечку, чем всегда славилась Одесса, анекдоту, безобидной сплетне, готовность заглянуть хоть на одну минутку в уголок, прежде незнакомый, вдруг почувствовать неожиданный оттенок эмоций в своем собеседнике – это влекло его на улицу, к новым знакомствам, в камеры народного суда, на базары, в окраинные или портовые кабачки, в ту пору еще сохранявшиеся кое-где в Одессе. Благожелательность вызывала взаимный интерес, привлекавший собеседников к нему Не простое любопытство, не простое зубоскальство – с этим человеком сразу становилось возвышенно-интересно. Охотно и доверчиво раскрывались души и развязывались языки: ты тоже начинал видеть как бы новые очертания жизни и – главное – самого себя.
Впрочем, поговорить с незаурядным собеседником поучительно всякому – ничего неожиданного, так что же особенного находили здесь?
А как же! Взрослый человек, уже признанный писатель, входящий в славу, познавший войну, полководцев и женщин, столицы и провинцию, вдруг зачем-то назначает свидание и угощает мороженым, собственно говоря, мальчишку – чего ради?
Тут и есть ответ. Его интересовал именно мальчишка, одесский портовый мальчуган со сбитыми коленками, с его приятелями – грузчиками и рыбаками, с его футболом и благоговением перед борцами… Выходы в свежее море под косым парусом, признания, как стащили в порту тюк кокосов или фиников, действительные или вымышленные – все равно – любовные приключения… Если – по молодости лет – не запас жизни, то уж во всяком случае богатая действительность. Вот это и уравнивало отношения.
Для иллюстрации расскажу забавный случай, который мог бы кончиться печально.
Однажды после прогулки по Молдаванке мы засиделись в кабачке. С нами был прекрасный и любопытный человек, слава богу, здравствующий и ныне, – рабочий поэт Алексей Борисов, живая летопись города. Сидели долго. Бабель выпытывал у Борисова подробность за подробностью о знаменитой в первый год революции Тюремной республике и ее президенте Григории Котовском, заключенном в Одесскую тюрьму пожизненно еще при царе. Борисов отлично знал Котовского, встречаясь с пожизненно заключенным на заседаниях первого горсовета. Разве неинтересно?
Вероятно, было уж очень поздно, в кабачке (или обжорке) затихло, за столиками оставались только мы да в другом полутемном углу – пьяная, довольно людная компания. Хозяин Арон, гремя засовами, начинал закрывать помещение, когда вдруг от подозрительной компании отделились двое и подошли к нам. Короткий диалог был примерно такой:
– Сивые, не пора ли нам с вами познакомиться?
– Пожалуйста, с кем имеем честь?
– А то еще не установили! Скажем, так: если еще неясно, не будем больше играть в тепки-навозилки – становитесь, оседлаем сразу. – И при этих словах краснолицый потный дядька вытащил из-за края широких штанов блестящий бамбер, то есть шпалер, то есть револьвер.
– Так вот, курочки, чтобы вас через полминуты здесь не было, пока дверь еще открыта! Арон, подожди закладывать дверь!
По решительным лицам «джентльменов» было видно, что не до шуток, – каждое мгновение может произойти серьезная неприятность.
Тогда поднял голову Борисов:
– Или вы не видите, что это Исаак Бабель, внук Двойры с Градоначальнической? Не знаете меня?
Блеснул луч просветления.
– Ей-богу, говорит Борисов со Степовой, а это Исаак Бабель, внук Двойры! – воскликнул тот самый, что уже приставил револьвер к моему животу! – Узнаю личности.
Что же случилось?
Компания веселых людей, кто их знает, может, урканов, может, налетчиков – в ту пору они еще не перевелись, – приняла нашу мирную компанию за агентов сыска, наблюдающих за ними. Но вот опасность миновала благодаря популярности Алеши Борисова и доброй памяти бабушки Исаака Эммануиловича, в свое время содержательницы постоялого двора на Молдаванке. Узнали и самого Исаака Бабеля.
Конечно, это впечатление может показаться чересчур сильным, хотя все мы, помнится, отнеслись к происшествию довольно спокойно. В веселых, пестрых, лихих, круто перченных, а иногда и драматических происшествиях недостатка не было.
В семье у Багрицких произошло несчастье. Родилась мертвая девочка. Похороны были задуманы и совершились так, как только и могло быть в этой семье. О несчастье знал лишь самый узкий круг людей. В печальной процедуре участвовал и Бабель. Вынесли гробик и направились по Дальницкой в степь. У Эдуарда в чехле было охотничье ружье, а под макинтошем саперная лопатка. В сухо шелестящей степи, за дымящим сахарным заводом Бродского, вырыли могилку, засыпали гробик, Багрицкий произвел салют из охотничьего ружья. Дома нас ждала принесенная Бабелем бутыль, или, как тогда говорили, «комсомолец», красного бессарабского вина.
От квартиры Багрицкого до клуба железнодорожников, в котором разместился литературный кружок «Потоки», было рукой подать. После очередного чтения (приходил сюда и Бабель) мы непременно выискивали какое-нибудь новое направление для изучения окрестностей. На Ближних Мельницах жила юная хорошенькая Таня Тэсс. С бесцеремонностью молодости мы злоупотребляли гостеприимством ее родителей, маленькая «усадьба» была одной из наших «малин».
Были и более серьезные кабинетные встречи.
Заместитель редактора «Известий» Юрий Михайлович Золотарев, работник агитпропа губкома Борис Евстафьевич Стах, кому приписывали романтическое происхождение от литовских королей, и Исаак Эммануилович Бабель вели организационную и редакторскую работу по изданию литературных страниц в «Известиях» и литературно-художественного журнала «Силуэты». Если не ошибаюсь, на страницах этих изданий появились впервые в печати рассказы Бабеля «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова». Там печатались и другие его новеллы, впоследствии забытые, к счастью, восстановленные в последних изданиях его книг.
Нравы были простые и приятные.
До позднего часа в комнате редакции «Силуэтов», помещавшейся в одной и одесских гостиниц на Дерибасовской улице, можно было видеть в зеленом свете абажура склонившегося над рукописями Бабеля, который и тут старался довести и свою и чужую строку до возможного совершенства. Рядом с ним близоруко щурился Стах, человек добрый и внимательный к литературной молодежи. Чаще всего на ходу делал свое дело пылкий и неусидчивый Золотарев. Уместно, кстати, заметить, что Золотарев один из первых предвидел серьезную литературную будущность Эдуарда Багрицкого, в тех же «Силуэтах» печатались его меткие и содержательные критические этюды о Багрицком. В журнале встречались имена известных московских писателей и поэтов, а рядом с ними печатались Семен Кирсанов, Лев Славин, Семен Гехт, Алексей Югов, Осип Колычев, Татьяна Тэсс, Юрий Олеша, Олендер и, конечно, Багрицкий. Тут же покоилась и колыбель моей литературной деятельности.
Период глубокомысленных или экстатических предвидений остался позади. Мое первое, сравнительно крупное стихотворное произведение «Наливное яблоко» вылилось иначе, и оно появилось в журнале на переломе двадцать второго – двадцать третьего годов среди мокрой одесской зимы – с одобрения Бабеля. К счастью, о моей величавой прозе, предшествующей первым циклам стихотворений, Бабель так и не узнал, а некоторые строфы из «Наливного яблока» скрывать незачем, Исааку Эммануиловичу явно нравились:
Ходит океан и брызжет пеной.
Вспыхивают печи, как червонцы,
И по-прежнему красой нетленной
Дождь проносится и светит солнце.
Птицею скрываясь в мире этом,
Полюбил его сердечный отрок, —
И душа поблескивала светом, —
Как вода, качаемая в ведрах…
. . . . . . . . . . . . . . .
Малой мудрости и той довольно,
Чтоб катиться яблоком чудесным.
Было б в мире ясно и привольно,
Да не тяготиться б словом честным.
Правда, при словах «птицею скрываясь в мире этом» Исаак Эммануилович вытягивал губы и задумывался. Допускаю, что, довольно хорошо зная автора, с которым он имел дело, редактор с трудом соглашался с его поэтической фантазией. И в самом деле, не сразу можно было привыкнуть к меняющемуся облику молодого человека, сочетавшему откровенное одесское «босячество» с северорусским архангельским образотворчеством. Сложно это, сложно! К тому же в этот период времени, – я знал это с его же слов, – Бабель и сам слегка изменил своей давней любви к библейским ветхозаветным легендам и притчам ради увлечения мотивами нарождающихся «Одесских рассказов». Такое настроение ума, вероятно, не способствовало симпатии к чрезмерной чувствительности и мифологичности. Но главное не в этом. Главное в том, что понял я значительно позже, в одну из наших последних встреч – тогда, когда я и сам перестал печатать стихи и, приучаясь обозревать будни действительности, стал помышлять о прозе. К этому идет дело.
Много начислилось лет. Многое приключилось. Я упомяну только о том, что и сейчас одна из самых дорогих реликвий среди моих бумаг – это две небольшие записки Бабеля, написанные им в 1923 году и адресованные одна Михаилу Кольцову, другая Владимиру Нарбуту, его московским друзьям. Из текста записок совершенно ясны их причина и цель, они многое подсказывают, и касаются они не только меня, но и моего покойного товарища Семена Гехта.
«Дорогой мой Владимир Иванович.
Вот два бесшабашных парня. Я их люблю, поэтому и пишу им рекомендацию. Они нищи до крайности. Думаю, что могут сгодиться на что-нибудь. Рассмотри их орлиным своим оком. Жду от себя письма с душевным волнением и не дождусь. Если не напишешь, то я сам тебе напишу.
Твой И. Б а б е л ь.
Од. 17.4.23».
Записка вторая:
«От без вести пропавшего Бабеля, заточившего себя добровольно, – Кольцову, прославлену древле от всех.
Вот Гехт и Бондарин. Их актив: юношеская продерзость и талант, который некоторыми оспаривается. В пассиве у них то же, что и в активе. Им, как и пролетариату, нечего терять. Завоевать же они хотят прожиточный минимум. Отдаю их под вашу высокую руку. От сегодня в непродолжительном времени я напишу вам о себе письмо.
Ваш И. Б а б е л ь.
Од. 17.4.23».
Повторяю, долго рассказывать о годах бегства. Какого бегства? Наивно-юношеских бегов то от любви, то, наоборот, к призраку славы. Долго было бы рассказывать, как рифмы и поэтическая мифология сменялись – вместе с тряским ходом реальности – первыми попытками думать и писать прозой.
Но вот пробил час, когда и к Бабелю в первый раз я принес свою прозу.
Исаак Эммануилович жил в одной из квартир небольшого домика по Николо-Воробинскому переулку на Покровском бульваре. Сейчас этот домик, кажется, уже снесен.
Пополневший Бабель встретил меня в дверях.
– С опозданием только на двадцать четыре часа, – взглянув на часы, строго сказал он, и я с ужасом понял, что не напрасно мучился последние дни. Я забыл: то ли Исаак Эммануилович назначил мне на вторник, то ли на среду. Делать, однако, было нечего.
В смущении я позволял себе одну неловкость за другой, наконец рассердился, махнул рукой и, кое-как объяснившись, поторопился уйти, поскользнулся на ступеньках, загрохотал. Из комнат верхнего этажа, где, собственно, и располагалась квартира Бабеля и его жены Антонины Николаевны Пирожковой, выбежала и, строго глядя мне вдогонку, остановилась на площадке лестницы большая собака.
Рукопись, разумеется, осталась у Бабеля. То была рукопись «Повести для моего сына». Повесть рассказывает о детстве мальчика в дореволюционной Одессе. Именно это – прошлое нашего родного города – показалось мне наиболее интересным для Бабеля, этим я и надеялся его задобрить, но и он старался лаской смягчить мою неудачу и обещал прочитать скоро.
Так и было. Повесть прочитана к назначенному времени.
На этот раз я опять увидел бабелевский самовар, только что хозяин дома, может быть стесняясь своей молодой жены, не предлагал мне, как это случалось не только со мной, насладиться купанием и хорошим мылом в ванной комнате. Не нужно заблуждений. Это просто была такая манера угощать. Бабель любил иногда щегольнуть. Кстати сказать, Исаак Эммануилович, безупречный демократ, не чурался комфорта, любил хорошее платье, хорошую кухню. По поводу своей домоуправительницы, строгой и величавой дамы в очках, довольно строптивой и язвительной, он говорил: «Мы держим ее потому, что она необыкновенно хорошо жарит котлеты. В Москве больше никто не умеет так обжаривать их».
На этот раз и я был приглашен к столу, но легко понять, что мне было не до еды. Исаак же Эммануилович за супом, задерживая серебряную ложку, приговаривал:
– Она и суп хорошо заправляет. Но нигде не умеют так хорошо варить суп, как во Франции. Помните, раньше мы с вами ели мороженое. В Пале-Рояле. У Печеского. Теперь пришло время супа. Ешьте! Почему действуете так вяло? Это лицемерие – вон какие у вас щеки!
Антонина Николаевна укоризненно подняла глаза.
После обеда перешли в маленький кабинет с окном в сад. Под письменным столом сидел пес.
И вот опять, как много лет тому назад, в доме у моего гимназического дружка Доли, Исаак Эммануилович сел за стол – пес счастливо зевнул, – и, разложив перед собой рукопись, Бабель погладил ее тыльной стороной ладони.
Пауза. Мука.
– Вещь хорошая, – легко сказал Бабель. – Серьезная вещь. Мне понравилась.
Стало легко и весело. Собственно говоря, я уже услыхал все, что нужно. Бабель подтверждал то, что – нечего скромничать – недавно мне писал Максим Горький. Больше я мог бы и не слушать. Да много Исаак Эммануилович и не говорил. Он сразу заговорил не об общем, а о значении деталей, подробностей. И то, что Бабель говорит со мною на языке профессии, меня глубоко волновало. Я не смел предполагать полного писательского братства, на какое рассчитывал когда-то Доля, но я слышал доверие, если не признание – и это было так!
Мало ли это для автора в тридцать лет?
Поговорив о том, как следует развивать деталь и характер, заметив, что самое губительное для искусства – это бесстрастность, Исаак Эммануилович упомянул и о том, как важно для писателя чувство самокритичности. Он предупредил:
– Ради бога, никогда не думайте, что читатель глупее вас. Пильняк – человек талантливый. Но с ним беда: у него большой ум и ничтожно маленький мозжечок. Это беда, несчастье!
И наконец подошли мы к самому главному, к тому, о чем никогда прежде Бабель со мною не говорил. Он продолжал поглядывать в окно:
– Перед нами самое трудное. Ждут. Требуют. Выданы векселя. Но вот в чем дело: ни один серьезный человек не ждет от меня, чтобы я восхищенно только и говорил: «Революция, революция!» Революция – это алгебра, и мы должны раскрыть ее. Этого и ждут: революция – и я, революция – и ты. И вот что я хочу вам сказать, слушайте внимательно, это очень важно, это очень важно для всех нас. Так вот что: хорошо, когда у человека есть своя засыпка. – Исаак Эммануилович произнес эти слова очень серьезно. – Есть засыпка и у вас. Теперь задача будет состоять в том, слушайте, чтобы засыпку всыпать вовремя в кастрюлю – не раньше и не позже, в нужную минуту кипения, только тогда получится хороший суп. Никто другой не может этого знать, кроме вас самих, знающего, что за засыпка у вас в руках. Но вы пишете о прошлом. Это мне не нравится. Не довольно ли мороженого и птиц? – Бабель многозначительно посмотрел мне в глаза, вспомнивши мою мифологическую поэму. – Слушайте вы, молодой человек, как вокруг вас нагревается и закипает время, и не прозевайте свою минуту… В этом все дело.







