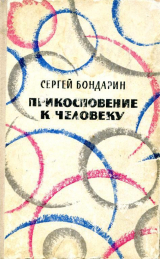
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
ТЕПЛАЯ МАЙСКАЯ НОЧЬ
Весною 1925 года мы были молоды и очень любили романтику революции.
С гордостью и жадностью мы читали новые рассказы, повести или романы о революции. Каждое новое имя молодой советской литературы замечалось немедленно, и неудивительно, что нам понравилась буйная проза Артема Веселого. Мы передавали из рук в руки книгу журнала с новой вещью этого писателя со странным сочетанием имени и фамилии – Артем Веселый – суровость и легкость. Но он был наш, в его произведениях мы находили себя, видели картины того недавнего, что многие из нас сами пережили на военных и трудовых фронтах, во взбудораженных революцией семьях, в комсомоле. И нас не удивило, когда в мощно-широких, несдержанных произведениях Артема Веселого – в них и страницы верстались как-то по-особенному, то пирамидкой, то столбцом, – мы встречали выражения малолитературные, не удивляло, не озадачивало, как наших отцов, напротив, это тоже воспринималось как признак новой литературы, даже нового быта, это даже подкупало, устанавливало какую-то таинственную, только молодым понятную связь, – словом, все это очень нравилось. Одну песенку из только что появившегося романа «Страна родная» мы живо подхватили. Эдуард Багрицкий то и дело напевал глуховатым баском:
На заре каркнет ворона,
Коммунист, взводи курок!
В час последний похорона
Расстреляют под шумок…
Багрицкий начинал, а мы поддерживали его:
Ой, доля,
Неволя,
Глухая тюрьма…
Долина,
Осина,
Могила темна.
Не то краснопартизанская, не то и белобандитская, песенка эта Багрицкому нравилась особенно, потому что как раз в это время он начал работать над своею «Думой про Опанаса», и она звучала в тон новой поэме, ее некоторым мотивам.
Но мы, нужно сказать, не только знали книги Артема Веселого в их законченном виде или в их фрагментах, как любил называть отрывки из своих произведений этот автор, – мы кое-что знали и о самом авторе «Страны родной», «Вольницы», «Похождений Максима Кужеля», и знали мы это со слов одного чекиста-романтика, любителя рыб, птиц и литературы.
Этот товарищ был свидетелем любопытной сцены в севастопольском цирке, сцены не совсем обычной даже для тех времен.
Происходило это на другой день после разгрома и изгнания из Крыма Врангеля.
В помещении цирка прямо на арене, кое-где еще присыпанной песком, размещалась толпа арестованных, многочисленная толпа людей большей частью в офицерской форме, – это были арестованные белогвардейцы-врангелевцы. Можно было увидеть здесь и неловко переодетых людей, и буржуя в дорогом костюме, не успевшего погрузиться на пароход при бегстве. Кое-кто попал сюда и по недоразумению.
В этой своеобразной огромной тюремной камере, охваченной цирковым треком, где люди были собраны для окончательного выяснения личности, естественно, появление каждого нового человека, особенно из лагеря победителей – красных, встречалось с волнением, с живейшим интересом. Вот почему так зашумела эта толпа, задвигалась, расступилась и затихла, когда на арену выехал всадник на отличном коне – в красных галифе, в кавказской бурке на плечах. Всадника сопровождало несколько человек при оружии. На бедрах парабеллумы. Кубанки. Кожанки.
Всадник оглядел толпу и, не сходя с седла, привстал на стременах и произнес речь.
Он говорил о том, что человечество резко разделилось. И не на небесах – на земле начинается страшный суд. Одни встали налево, другие ушли направо. Судит не бог Саваоф, а мать-Революция. Восстал мученический народ, и борется он за коммуну, это люди по одну сторону, по другую, и к ним относятся те, кто останется здесь, на песке цирковой арены, после проверки, – все, кто против Революции, против коммуны, против народа. Пощады таким людям не должно быть!
Оратор был неукротимый боец революции, недавний фронтовик Артем Веселый.
Я всегда вспоминал этот рассказ, как только случалось мне читать Артема Веселого. Образ революционного вожака в красных галифе верхом на коне, в тельняшке, выглядывающей из-под кавказской бурки, вполне согласовался с особенностями его повестей и романов.
Так вот, нужно ли говорить, как я был взволнован однажды в ту весну 1925 года сообщением моих товарищей по редакции одесской газеты «Молодая гвардия»:
– Приехал Артем Веселый. Будет выступать в партклубе. К завтрашнему номеру напиши о нем статейку.
– Да что вы! Я никогда не писал ничего в таком роде. Как писать? С чего начинать?
– Начинай как хочешь, кончай словами приветствия от имени одесского комсомола… Пиши… Пиши… Вот тут кое-что из того, что он сам говорил о своих взглядах в беседе с нами. Возьми, – и мне передали беглые записи сегодняшней беседы товарищей с писателем.
Я и сейчас горжусь тем, что статейка, мой первый опыт критического выступления, была написана своевременно и появилась в номере нашей газеты от 21 мая; называлась она: «О чем пишет Артем Веселый» – и обнадеживающе начиналась словами: «В Одессу приехал Артем Веселый».
Но тогда я с тревогой думал о неизбежной встрече с известным писателем, бойцом революции. Легко ли сказать – признанный автор, участник лучших московских изданий, о ком уже написано немало статей лучшими московскими критиками, а тут ему покажут сто неумелых строк молодого журналиста и поэта в незаметной газетке.
Как раз об этом, бодрясь, я говорил старшему моему другу Эдуарду Багрицкому, который зашел ко мне вместе с четырехлетним сыном Севкой после первой весенней прогулки к морю. Малыш тут же уснул. Эдуард Георгиевич листал дорогое брокгаузовское издание Пушкина, самую большую ценность в студенческой полутемной комнате, и посмеивался над моими страхами, хотя и сам не знал, как повести себя при встрече.
Мало кто из наших товарищей видел гостя, никто не мог сказать, каков же он в общении, где он поселился, надолго ли приехал?
Мы склонялись к мнению, что эта загадочность в порядке вещей, таким и должен быть сей человек. Взглянув на Севку из-под своего чуба, низко начесанного, Багрицкий негромко запел:
На заре каркнет ворона…
В дверь постучали. Багрицкий смолк.
– Наверно, старуха, – проговорил он. – Если спросит, кто я, скажи – Махно.
Но это не была моя милая престарелая хозяйка. Решительно толкнув дверь, кто-то пробасил:
– Можно?
В дверях стоял довольно рослый дядька: стриженая голова, румяное, слегка калмыцкое лицо, блестящие, чуть-чуть косые глаза, солдатские усы. Из-под отложных воротничков выглядывает край тельняшки. При первом же взгляде на этого человека замечалась его мышечная сила.
Мы сразу поняли, кто перед нами.
Артем Веселый шагнул, радушно протянул руку. Разговор завязался сразу легко и дружески, с первых же слов мы говорили друг другу «ты».
Все это было вполне в духе того времени, когда так романтично, так прекрасно ощущалось всеми нами истинное молодое товарищество, соучастие в начавшемся повсюду большом общем деле. Эта разумная непринужденность была, пожалуй, характернейшей чертой революционной молодежи двадцатых годов.
Артем держал листок нашей «Молодой гвардии». Моя статейка и привела его сюда, и он прежде всего сказал, что он входит в этот дом как друг.
Честно говоря, я не мог понять, за что Артем благодарит меня, что могло понравиться в скромной статье новатору словесного искусства, которого в «Лефе» печатал Владимир Маяковский. Но не похоже было, чтобы этот человек придерживался правил любезности из одной только благовоспитанности.
Багрицкий легко сходился с людьми. И хотя он был немножко смущен тем, что гость застал его за песенкой из «Страны родной», он уже напевал другую, нашу, черноморскую песенку в том же жанре.
Севка продолжал сладко спать. Артему нравилась и одесская песенка, и то, что в комнате спит ребенок, и то, что отец, поэт, водит малыша к морю. Артем говорил:
– Верно, Багрицкий! Эти песни – замечательные. Волнуют и рвут душу, а если хочешь, прижимают к земле. Ты, Эдуард, правильно назвал их мрачно-прекрасными… Россия!.. А я шел сюда, на улице весна, и все бормочу про себя стихи Есенина: «Бедна наша родина кроткая. В древесную цветень и сочь и лето такое короткое, как теплая майская ночь…» Читали «Анну Снегину»?
Новая поэма Есенина была нам знакома. Багрицкий даже указал ошибку в интонации: «Бедна наша родина кроткая в древесную цветень и сочь…»
Артем прислушался, подумал, но промолчал и повернулся ко мне:
– У тебя правильно сказано: «Артем – мужик… Ему трудно понять законы города…» Это мне и нравится. Это верно. Не полюбил я города, не полюбил железо и электричество, хотя и присматривался на броненосцах к разной современной механике… Я думаю о себе, что исконная деревенщина мне понятней, больше по нутру… Я люблю писать о мужиках, о солдатах и еще долго буду писать об этих людях, исстрадавшихся в окопах! – Артем даже пристукнул кулаком. – Это вгнездилось в меня. Я человек примитивный и примитивно понимаю свое революционное назначение. Пускай не мудрят…
И хотя Артем еще много говорил, за глаза полемизируя со своими критиками, о том, что стихийность больше говорит его душе, чем дисциплина, нам с Багрицким показались наиболее примечательными чертами его характера именно организованность и деловитость. А действительно, казалось, нельзя ожидать таких свойств от автора «Вольницы» и «Страны родной».
Артем очень ценил время, и всегда было заметно, что труд, работа, дело у него на первом плане; это было заметно даже в те немногие дни его первого гостевания в теплой, по-весеннему расцветающей яркой Одессе, в пору, когда чарующая южная весна в приморском городе с синими и сиреневыми тенями так расслабляет юные души…
В годы нэпа возродился, вернее, пытался восстановиться в прежнем виде прославленный Куприным «Гамбринус» – пивная в подвале на Дерибасовской, переименованной в улицу Лассаля. И как же было не пригласить туда гостя на кружку пива, или в какой-нибудь припортовый кабачок, или в крикливо-шумные, отдающие запахами рыбы, черешен, первых свежих овощей, пестрые, как сама молоденькая редиска, румяные по утрам торговые ряды одесского базара, и мы даже сначала обиделись, когда Артем отклонил приглашение, сославшись на дела. Это было ново и малопонятно. Но потом Багрицкий сказал:
– Мне это нравится: не то, что наши шалопуты… И все-таки, знаешь, от него можно ждать всего – Пугачев.
Когда в дальнейшие годы, случалось, я бывал у Артема в Москве, в доме на Тверской рядом с бывшим Английским клубом, меня не удивлял, а, скорее, даже восхищал необыкновенный вид его большой комнаты: все четыре стены были оклеены – чем бы вы думали? – рукописями. Это были черновики вещи, над которой Артем работал – «Россия, кровью умытая». Он говорил, что ему так удобнее ориентироваться, лучше видны слабые места композиции, легче сопоставлять, не терять из виду многочисленных героев… На столе тщательно отточенные карандаши, стопки бумаги.
Эти признаки упорного, а может быть, и вдохновенного труда сообщали характер всей комнате; это оставалось самым интересным в ней и самым примечательным, и эти же черты были самыми заметными в характере человека, здесь живущего.
Каждое лето его влекло куда-нибудь на Енисей, на большие реки Сибири. И меня зазывал туда Артем. Я помню, с какой обдуманностью, с какой тщательностью он всегда заблаговременно готовился к новому летнему походу, как он внушал мне: «Главное, не забудь в лодку хорошие накомарники, – без этого пропадешь… Как хорошо будет нам! Одна досада: лето промелькнет – не заметишь».
Но вернемся к первой встрече. Мы побывали с Артемом и в «Гамбринусе» и еще кое-где. Успели побывать везде, где было интересно и ново для него. Но опять-таки, поучительно было наблюдать его отношение к этим прогулкам, я бы сказал в шутку, несколько конспиративное, состояние, немножко стыдливое, без обычного для богемы желания бравировать своей резвостью. Я сказал бы даже, что и за общим веселым столом Артем, на мой взгляд, тоже не вполне расставался со свойственной ему сосредоточенностью, угрюмостью.
Большой плакат у входа в городской партклуб крупными, красочными буквами сообщал между тем, что здесь должен состояться авторский вечер Артема Веселого.
Зал партклуба не обязательно предоставлялся только для членов партии. Послушать концерт, посмотреть кинокартину приходили и беспартийные рабочие ближайшего Пересыпского района, охотно бывала здесь и городская интеллигенция. Подозреваю, однако, что афиши и плакаты, возвещавшие о предстоящем вечере Артема Веселого, истолковывались трагически ошибочно. Вероятно, многие не читали дальше слов «Похождения Максима Кужеля». А похождения Максима Кужеля казались им заманчивыми. Впадая в заблуждение, многие пришли послушать нового юмориста.
Зал был полон.
Вот на сцене показался длинноногий, в австрийских солдатских обмотках Эдуард Багрицкий, председатель вечера, а вслед за ним вышел и хмуро присел к столику наголо остриженный, усатый и лобастый человек. Багрицкий, небольшой мастер говорить со сцены, сбивчиво произнес несколько слов, после чего, не глядя в зал, лобастый человек развернул книжку и начал читать:
– «Вольница Буй Крыло из стокрылья Праздничек. Пыл… Ор… Ярь… Поиздили попили. Те – перечко мы поиздимо Товарищи Крой Капиталу нет пощады Долой… Березай… Вылезай…»
Каждый первоначальный жест чтеца, странная эта полудекламация сначала воспринималась как способ смешить – и в зале действительно начали смеяться. Артем продолжал читать отрывок из «Вольницы»:
– «…Ждут станичники. Хотя какое тут оружие, если Васька женится. Отгуляем отпляшем и… Ржет братва на слова не верит Га га га го го го ха ха ха… Васька пузырится… Бабы визжат… Рви ночки Равняй деньки папаша то есть буржуй ихний безусловно пляшет На затылке смятый котелок…»
Ну вот, как и следовало ожидать, недоразумение начало сказываться. В зале зашумели, чего-то требовали. Артем Веселый продолжал читать, но уже не смешил.
Зал начал быстро пустеть. Вечер был испорчен и сорван.
В смущении мы ждали Артема у выхода из клуба. Нам было стыдно за случившееся и больно за нашего гостя. Но вот он показался, как всегда без шапки, с портфелем в руке, из-за воротничков чистой рубашки выглядывал рубец матросской фуфайки. И сразу своим невозмутимым видом он успокоил товарищей. Усмехнувшись, Артем сказал:
– Это – пустяки. И это со мной уже случалось. Нужно будет еще раз повторить. Нужно продолжать наше дело именно затем, чтобы такого больше не случалось. Нелегко это, не просто, потребуются годы, но верю твердо: революция победит, свое дело мы доведем до конца. Писателя будут слушать! – убедительно сказал Артем.
Повеселев при виде этой несокрушимой убежденности, кто-то предложил:
– Хлопцы, в «Гамбринус»!
– Нет, – отвечал Артем, – сейчас не могу.
– Ну-ну, пойдем, не дело!
– Нет, товарищи, не могу: чешется рука. Пока читал на сцене, надумал, как кончить главу, которая не давалась. Я в твою сторону, – обратился Артем ко мне и щелкнул замком портфеля. – Хочешь, пройдемся вместе.
Уже наступили майские сумерки. Но в этот год еще не всегда работала городская электростанция, фонари на улицах не зажигали, темно было в окнах домов. Зато сильнее чувствовалось над городом высокое весеннее небо.
Хорошо в молодости шагать пешком по городу из края в край, радуясь своим силам, своей причастности к жизни, ко всему, что происходит вокруг: спешат люди, смеются девушки, позванивают трамваи, волнующе зацветают сады. И небо, небо, небо! Ни один день не проходит бесследно, с утра – радость, к вечеру – чувство душевной полноты. Все говорит. Много говорило мне и это новое знакомство с Артемом, но не все было мне здесь понятно. Я удивлялся и тихо спрашивал:
– Неужели же тебе все равно – успех или провал? Удивляюсь я, как это ты, такой человек, и вдруг все оставил, занялся книжками?
– А какой такой человек? – сурово пробасил Артем.
– Боец революции. И сейчас кажется, что тебе нужно ходить не с портфелем, а с парабеллумом на бедре.
Артем отвечал:
– Конечно же не все равно. Горько. Не все равна как раз потому, что еще много надо учиться… Всем нам еще учиться и учиться. «Такой человек, беспокойный, боец революции, и с такой усидчивостью взялся за перо, за литературу – странно». Нет, друг, тут удивляться нечему. Как это тебе объяснить? – Артем приумолк, потом продолжал: – Поражать из маузера гораздо проще, чем убивать словом. Даже не так. Пуля убивает врага, а перо, слово – это привлекает друга! Вот почему я хочу быть писателем…
Мы проходили мимо большого серого дома, в котором помещался рабфак. Навстречу нам из дверей здания валила в вечерней темноте звонкая толпа.
– Ух ты, – ухнул Артем. – Сколько еще дела! В действительности по стране еще даже не май, а только едва апрель. И есть еще сторонки и не одна, где только еще ручейки побежали… Но как это хорошо! Какая весна!.. А у тебя разве не дрогнет сердце, когда ты увидишь крестьянского парня, а то мастерового с книгой под мышкой?
Не скрою, Артем угадал. Это чувство мне было знакомо. В сущности, ведь то же самое творилось сейчас в нашем недавнем и очень важном знакомстве.
Говорить больше не хотелось. Артем бормотал про себя:
И лето такое короткое,
Как теплая майская ночь.
У ТРЕХ КОЛОДЦЕВ
В годы моего детства среди мальчиков почитались не только стрелки, рыболовы и чемпионы французской борьбы – мои сверстники собирали гербарий и коллекционировали бабочек. Вот почему на даче у Куяльницкого лимана, под Жаваховой горой, в моем углу рядом с самодельным карабином поразительной правдоподобности стояли и совсем настоящие сачки для ловли бабочек. И трудно сказать, что было сильнее – порывы воинственной отваги или добрые чары миролюбия.
Не одна рама, сокровищница сказочной красоты, была уже заполнена лучшими образцами бабочек – всецветный и гармонический, яркий и мягкий калейдоскоп. Суставчатое, хрупкое строение тельца, похожего то на узкую серьгу, то на бусинки, нанизанные на нитку, пыльно-бархатистые крылышки! – ныне забыты чувства охотников на бабочек. Мне же памятен этот робкий, осторожный восторг перед невиданными узорами, нежное восхищение грациозной добычей… О, я понимал толк в этом деле!
Но так и не удалось мне в те времена изловить редкостный вид бабочки – «осенний лотос». Эта диковина, эта прелесть иногда появлялась в наших местах. Ранней осенью, случалось, ее приносило – то ли на шаландах рыбаков, то ли в цыганских кибитках – из знойной Румынии, с дунайских плавней. Она любит сырые, но жаркие места. Я слышал рассказы о ней, видел ее изображение в дорогих великолепных альбомах. Часами блуждая среди трав и зарослей кустарников сухой приморской степи, я искал «осенний лотос».
Вот почему навеки запомнились мне эти степные лиманные места, солоноватость и пряность их запахов, птицы и насекомые, посвисты и шорохи ощущение мира, блаженной осенней теплыни, незамысловатого, богом данного счастья.
Все это помнилось мне и тогда, в сентябре 1941 года.
Командный пункт батальона находился в ямке, прикрытой кустом. Здесь я вспомнил прошлое, здесь мы разговорились с приехавшим в батальон командиром полка.
Сентябрь шел к концу. Второй месяц полк Осипова удерживал важные позиции на краю правого фланга обороны за Жаваховой горой, на перешейке между лиманом и морем, и в осажденном городе уже были хорошо известны первый полк морской пехоты и его командир, полковник Осипов.
Утром, вставая ото сна, люди прежде всего спрашивали у соседей, что нового случилось за ночь; в полдень становилось известно все, что утром произошло на позициях.
На улицах трамваи задерживались перед артиллерией, с громом проходящей по гладкой мостовой, стайки пешеходов накапливались на панели перед отрядами морской пехоты, только что высадившимися в порту. У прилавков булочных шумели женщины с корзинками и хлебными талонами в руках. С окраинных огородов и баштанов свозились на рынок помидоры, баклажаны, арбузы. Большефонтанские рыбаки выкладывали на не-просыхающие рундуки Привоза свежий улов.
Из низинных районов города, где рыли артезианские колодцы, тяжело тащились старухи и дети с ведрами воды – кто в руках, кто на самодельных коромыслах. Источники питьевой воды на Днестре были у противника. А лето стояло жаркое. Дым и пыль заносили город и окраины.
Я прибыл в Одессу вместе с пополнением морской пехоты и с моряками же добрался до полка Осипова, к Трем колодцам.
В ямке, где мы притаились, слегка привстань – и увидишь по одну сторону низкий туманно-синий горизонт моря с низкими силуэтами боевых кораблей, вышедших на артиллерийскую позицию, по другую – безлюдный простор степи, уже принимающей окраску осени.
Острое, томительное чувство испытывал я, обозревая однообразную желтизну кукурузных посадок. Кое-где возвышалась темная купа дерева. И так далеко-далеко по всей степи, колеблемой волнами нагретого за день воздуха.
Эта знакомая мирная теплынь, кажется, больше всего и взволновала меня. Шелестел куст. Иногда что-то жужжало.
Осторожно раздвинув ветки, я рассматривал в бинокль развалины какого-то кирпичного строения вблизи железнодорожной насыпи. Там в полутора-двух километрах был противник. Кое-где глаз усматривал печальные приметы фронта: мертвое тело румынского солдата, примявшее собой кукурузные стебли, полуобглоданный труп лошади, гребенку окопа – иногда с рожками стереотрубы.
Бои на этом участке становились ожесточенней день ото дня.
– Вот, смотрите, только осторожненько, – говорил полковник, отведя ветви куста. – Видите колодцы?
Да, в узкой балочке-ложбинке, открытой в нашу сторону и невидимой со стороны противника, я увидел три колодца. И я узнал их. Три мирных, обыкновенных колодца, кругло сложенные из потемневшего от времени пористого известняка, с нехитрыми приспособлениями для запуска ведра, с деревянными желобами-корытами для скотины. На Украине это называется криницей.
Разжиженная грязь вокруг колодцев тускло поблескивала. К воде слетались воробьи, рылись куры, и три или четыре бойца, должно быть только что раненные, перевязывали друг другу раны и наполняли водой фляги. Лужи у них под ногами поразили меня розоватым блеском, как будто в воде отразилась закатная заря, тогда как солнце стояло еще высоко.
На внутреннем склоне ложбины расположились автоматчики; можно было угадать замаскированные огневые точки. Это и был передний край знаменитой позиции у Трех колодцев, за обладание которыми нарастали бои.
– Они положат здесь еще не один батальон, – говорил мне Осипов, внимательно осматривая местность. – Я им тут приготовил прием. Тут у меня лучшие взводы, лучшие минеры. Вот поговорите со старшим лейтенантом – и вы не пожалеете, что потрудились сюда приехать. Вы, кстати, как ехали?
– Ну как? Так же, вероятно, как ездили наши бабушки на лиман принимать ванны.
И в самом деле, ездить на позицию первого полка было довольно забавно: сначала трамваем до Базарчика, потом по вполне безлюдным кварталам до рубежа, просматриваемого противником, а дальше?.. Дальше – по способности.
Круглые черные глаза полковника взглянули на меня испытующе-пронзительно. Но, поняв шутку, Осипов улыбнулся; разгладились тоненькие морщинки в углах рта. Он сдвинул пилотку с загорелого лба, отстегнул крючок на вороте гимнастерки, перетянутой ремнями портупеи. Несмотря на теплый день, из-под ворота выглядывал теплый свитер.
– Ничего, – простуженным голосом сказал полковник, – внуки тоже будут ездить, как ездили бабушки. Уверяю вас, что после войны тут только и начнется настоящее освоение. Тут же золотые места! Чувствуете, какой воздух? Небось вам и не приходилось дышать таким воздухом… Но им, – Осипов кивнул в сторону противника, – им не долго дышать этим воздухом, их сожгут солнце и морячки. Они уже сейчас задыхаются без воды, мечутся туда-сюда, а мы их тут и бьем. Тут-то мы их и берем под ноготь! Они только из посадки, а мы их тут и прижигаем.
– Даем жару, – незамысловато подтвердил старший лейтенант, командир батальона.
– Видите – притихли, – продолжал Осипов. – Обескровлены. Сегодня и завтра будет тихо. Вот какое словечко теперь завелось: обескровлены… Ну, а в городе с водой легче?
Я рассказал, как обстоит с водою в городе. Копают. Сверлят. Уже много колодцев дает воду, но все еще трудно, все еще население получает по полведра.
– По талонам?
– По талонам.
Осипов помолчал.
Три человека, сведенные войной, тесно сидели в ямке, дыша друг другу в лицо. Противно квакнула, разорвавшись, мина, за нею – вторая. Я хотел было опять раздвинуть куст, но старший лейтенант остановил меня:
– Подождите. Не надо. Может, приметили шевеление. – И комбат насторожился, стараясь по звуку полета мин определить, откуда мечут.
Задребезжал телефон, и только теперь я увидел в глубине ямки блиндажик. Оттуда послышался женский голос, голос телефонистки:
– Товарищ старший лейтенант, стреляют из минометов за кирпичной будкой, из-под насыпи. У них там новая батарейка. Отвечать?
– Нет, пока не отвечать. Продолжать наблюдение, – приказал комбат, а командир полка, обдавая теплом дыхания мое ухо, сказал ему:
– На ночь выдвинете охранение на линию сортовых посадок. Хорошенько следите за их балочкой в районе второй роты. Смотрите мне! – И Осипов вернулся к нашему с ним разговору: – Сегодня будет тихо. И слава богу, потому что меня вызывают в штаб к микрофону. Должен выступить из осажденного города.
– Как так выступить? – не сразу понял я Осипова. – Куда выступить?
– Перекличка городов. Одесса и Ленинград. А потом буду говорить с семьей. Дочь и жена. Только не знаю, что им сказать. Что бы сказали вы на моем месте? Ваша семья где?
Я сказал Осипову, где моя семья. В это время моя семья была далеко – на Каме.
– А моя – на Волге, в Горьком, – продолжал как бы немного кичливо Осипов. – Хороший город. Знаменитый. Но вы не представляете себе, как дочь скучает по Одессе! Как плакала-рыдала, когда эвакуировалась. Эх, впрочем, сколько народу плакало… И теперь все пишет: «Папа, когда мы будем дома? Папа, не отдавай нашу квартиру». – Полковник ухмыльнулся. – Квартиру! Уже началась война, а у нас с дочкой игра: что будет в Одессе после войны. Она говорит: «На улицах розы», а я должен возразить, придумать что-нибудь получше, например: «Не розы, а фруктовые деревья. Идешь, а мандаринка – стук! – прямо на голову, срывай и ешь». – «Ой, папочка, как хорошо! И мандарины и абрикосы. Я больше люблю абрикосы. Ну хорошо, это на улицах, а что, папа, на море, на Ланжероне? – И сама себе отвечает: – А вот что. Все в лодках под парусом. Парус поворачивает, лодка накренилась, за лодкой волна, люди поют… Правильно?» – «Правильно, отвечаю, ты переиграла меня. Лучшего я не придумаю. Под парусом так под парусом». – «Нет, папа, придумай дальше!» И я все-таки придумываю. Например: «Все прохожие добрые, красивые, в трамвае не толкаются». Дочь смеется: «Правильно! И летом все в белом, юбочки аккуратно выглаженные…»
Полковник, увлекшись, и сам смеялся. Сурово-загорелое лицо помолодело, глаза весело, живо заблестели. Не сомневаюсь, что в эту минуту полковник слышал голос дочери, видел мечты исполненными. Не за это ли воевал человек?
Война требовала смелых, талантливых людей, она безжалостно требовала человеческого сердца – и быстро находила нужных.
Многих встречаешь во время войны, многое узнаешь. Но самое лучшее и незабываемое – те встречи, хотя бы и короткие, при которых вдруг приоткрывается сердце человеческое, объясняя все: и великое народное долготерпение, и страсти, казалось бы, бесстрастной души, и бесстрашие, казалось бы, робкого человека, и нечувствительность к убийству, и жадное чувство жизни, и страх, и скуку, и безотрадную жесткость настоящего, и мечты о будущем.
Вот что, должно быть, почувствовал я в тот день, сидя с полковником в ямке.
– Сколько вашей девочке? – спросил я.
– Девочке? Как девочке? Она у меня уже барышня, студентка.
– Да вы говорите о ней, как о ребенке.
Осипов замялся.
– Она медик. Но она у меня хрупкая, маленькая – и правда, что девочка. Котенок. Нина зовут ее. Как мать. А тут… Вот видите ту дальнюю посадку? – спросил полковник, возвращаясь вдруг от мечтаний к действительности. – На днях батальон Шестакова, вот этого самого, – Осипов кивнул в сторону комбата, – прижал румын к лиману за этой посадкой, уничтожил два эскадрона в пух и прах, остатки взял в плен. В атаку ходили все, даже телефонистки… Скоро опять устроим им кордебалет… У нас уже все обдумано. Не пить им из наших колодцев! У-у, мерзопакостники!..
Отведя душу, Осипов затих. Вздохнул лейтенант Шестаков. Осипов, поворачиваясь, прижал меня плечом.
– Ну, товарищ корреспондент, насмотрелись. Вам, вероятно, здесь дюже скучно. Что вам тут! Зачем?.. Так и скажу дочке: я живу хорошо и вы живите – не тужите. Скоро будем дома… Минуточку!
Зачем-то Осипов всунулся в блиндаж. Старший лейтенант Шестаков заговорил вполголоса:
– Он не только будет выступать из осажденной Одессы. Ему сегодня вручают орден Красного Знамени. Вызван самим членом Военного совета. Но зачем все-таки он не бережет себя? Все ходит, ездит, прыгает… Птичка, что ли?
И вдруг – я не сразу сообразил, что случилось, – Шестаков замолк, замер, обомлел, уперся, не сводя зачарованных глаз с куста. Я посмотрел туда же – и мгновенно свело дыханье и у меня: на ветке сидела большая, в пол-ладони, бледно-бирюзовая, почти голубая бабочка с золотистой головкой. Она трепетно сжимала, разжимала прозрачные крылышки с непрозрачной золотистой же полоской по краю, поводила усиками. Я узнал ее. Передо мною была бабочка «осенний лотос».
Я дернулся, как от укола, потянулся к чуду, но Шестаков успел схватить меня за плечо.
Бабочка судорожно повела крылышками и вспорхнула.
– Красивая, что и говорить, – сказал Шестаков. – Как яблоневый цвет. И лучше. Но вы… того… Что это вы?
Полковник выползал из землянки, поправляя на голове пилотку.
– Ну пошли. Прижимайтесь, прижимайтесь хорошенько! Это не стыдно. Глупее подставляться им. Был человек – и нет. Почему? – почти крикнул Осипов, как будто и в самом деле меня уже не стало. – И эти колодцы запомните. Может, когда-нибудь опять…
– Как вы смешно сказали, товарищ командир полка: «Был человек – и нет», – задумчиво заметил Шестаков, – а бабочка так хороша была – не забыть!
И я тоже все еще думал о бабочке. И может быть, только сейчас я постиг вполне, совершенно понял и красоту бабочки, и чувства, влекущие к ней и мальчика и солдата.
Старший лейтенант провожал нас вдоль по балочке к тому месту, где, замаскировавшись, ждала нас машина Осипова, простреленная и, как старая кубышка, помятая.
Начинало смеркаться. В непроглядной, сильно посиневшей дали моря вспыхивали зарницы. Кораблей уже было не разглядеть, и едва слышался гул далекой канонады.
Свободно озираясь, мы расправляли кости после незатейливого сидения в ямке вблизи Трех колодцев, памятных мне с детства.







