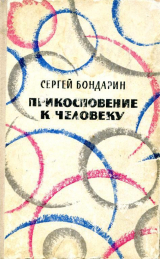
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
Сейчас, оглядываясь, мы видим, что энергия эта определяла и образ жизни Багрицкого, и его внутренний образ. Она влекла к нему людей. Она разжигала в нем жажду и любовь ко всему мудро-прекрасному, она дала ему верное ощущение красоты, способность видеть ее и там, где другие уже не хотели ее видеть, – не хотели и не умели из-за вольной или невольной предвзятости или ограниченности.
Вот почему с равным упоением и художественной убедительностью Багрицкий читал и «Слово о полку Игореве», и Ломоносова, и Пушкина, и Блока, и таких неравноценных, но безусловных поэтов, как Константин Случевский и Иннокентий Анненский, Валерий Брюсов и Михаил Кузмин.
На литературном вечере в Москве, посвященном памяти Багрицкого, я слышал утверждение одного поэта, считающего себя в какой-то мере учеником Багрицкого, уважающего его память, что Багрицкий, по словам этого поэта, не любил печальных стихов.
Что это значит – печальные стихи?
Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем…
Это печальные стихи? Может быть, печальные стихи – это те стихи, в которых говорится о печали? Например:
Но, как вино, печаль минувших дней
В душе моей чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл.
А следующие стихи – позволительно ли назвать их печальными?
Увы, мой друг, мы рано постарели
И счастьем не насытились вполне.
Припомним же попойки и дуэли.
Любовные прогулки при луне.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Женаты мы. Любовь нас не волнует.
Домашней лирике приходит срок.
Пора! Пора! Уже нам в лица дует
Воспоминаний слабый ветерок.
И у сосновой струганой постели
Мы вспомним вновь в предсмертной тишине
Веселые попойки и дуэли.
Любовные прогулки при луне.
Это стихи самого Багрицкого, одно из посвящений к «Трактиру».
Багрицкий любил это стихотворение до последних дней, и трудно не любить эти стихи, их трогательный смысл, их светлую, прозрачную музыку. Если Багрицкий умел прикрыть усмешкой свое настоящее чувство, то мы не умели в ту пору распознать истину. Не один раз и не одно стихотворение, к великому сожалению, забывалось надолго самим автором под влиянием долговременных ошибок и заблуждений, свойственных острополемическому духу двадцатых – начала тридцатых годов. Так, например, вместе с Багрицким мы надолго забыли одно из лучших его юношеских стихотворений – «Суворов». И этому стихотворению были возвращены права гражданства только после того, как взгляды на историю России и русского народа были избавлены от всех искажений… Но это – замечание вскользь.
Багрицкий любил и радостные и печальные стихи. Он любил хорошие стихи. Он любил поэзию. Он любил и Державина и Ахматову. Больше того! Он любил стихи Есенина и Киплинга. Больше того! Возможно, мое утверждение прозвучит дерзновенно, но он любил Шиллера или Байрона не меньше, чем Маяковского или Николая Тихонова. Любил их такой же любовью.
И могло ли быть иначе?
В течение жизни он испытал силу и боль всех соприкосновений, отталкиваний, сомнений и находок. В этом была динамика его жизни, его биографии. И в этой биографии мы видели себя. Горький говорил об истории молодого человека девятнадцатого столетия. Молодой человек двадцатых годов почувствовал себя в Багрицком. Тут была выражена духовная работа целого поколения. Поэтому-то лирика Багрицкого и стала лирикой на грани эпоса.
Известно, что из-за поспешности, даже при самых лучших побуждениях, могут произойти серьезные недоразумения. Так случилось с поэтом, противником печальных стихов. Он забыл, что в печали, свойственной песням русского, народа, Аксаков видел признак его силы.
Был однажды случай такого рода: пригласили Багрицкого в оперу. Сейчас уже не вспомню, что ставили. Эдуард Георгиевич молчаливо и хмуро просидел первый акт и вдруг спрашивает:
– А пожар будет?
– Какой пожар?
– На сцене… Ну, как в «Дубровском».
По ходу этого спектакля пожара не предвиделось.
– Ну, тогда давай пойдем: скучновато.
Дает ли этот эпизод повод сказать, что Багрицкий не любил музыку? Нет, было понятно, что Багрицкому трудно сидеть в духоте по той же причине, по какой, к его несчастью, он вынужденно лишался других удовольствий и впечатлений. И тут, как нередко, он поспешил шуткой заслонить свое истинное отношение к делу. Не сомневаюсь, что в случае с декларацией о печальных стихах было что-нибудь в таком же роде.
Тревожит возможность развития такой склонности к чрезмерно вольному пониманию поэта и его судьбы – от кого бы это ни исходило. Записки Сторицына в этом смысле очень располагают к себе, понятно внимание, какое проявил к ним Михаил Кузмин.
Приближалась весна 1934 года. Среди товарищей Багрицкого по-деловому заговорили о том, что Эдуард Георгиевич нуждается в курсе лечения в Германии, что ему будет устроена эта поездка. Ожидание этого действительно большого и важного события волновало всю семью, а Эдуарда Георгиевича, разумеется, особенно: родина поэтов-романтиков, поэтов эпохи «бури и натиска» издавна занимала воображение Багрицкого. Ожидали потепления, о поездке говорили, как о деле решенном.
14 февраля Лидия Густавовна собралась в Кунцево навестить добрых знакомых. Эдуард Георгиевич проводил ее обычной фразой: «Смотри не опоздай на поезд» – и напомнил жене время последнего дачного поезда из Кунцева.
Непонятная тревога ускорила возвращение Лидии Густавовны. Переступив порог дома, Лида, по ее же словам, почувствовала, что эта тревога входит за нею в дом.
В полутемной комнате в деревянном кресле сидел перед Эдуардом Николай Иванович Харджиев, уважаемый и давнишний друг дома. Он временно обитал в квартире этажом ниже. Эдуард вызвал его стуком в пол, почувствовав себя нехорошо. Его одолевал жар, озноб. Лиду испугал его вид – как-то особенно посеревшее, отяжелевшее лицо, а главным образом – посиневшие концы тонких пальцев.
В ту же ночь из ближайшей больницы пришел врач, оказавшийся любителем поэзии и поклонником Багрицкого. Больному сделали укол камфары. Наутро подтвердилось опасение – Багрицкий заболел двусторонним крупозным воспалением легких. Это случилось вторично через много лет после первого такого же заболевания. Более десяти лет тому назад молодой Багрицкий совладал с этим весьма опасным для астматиков заболеванием, но уже тогда ему сказали, что повториться это не должно.
На следующий день решено было перевести больного в филиал Кремлевской больницы на Пироговской улице.
Больной уже не в силах был держаться на ногах, его снесли на носилках. Дома на столе осталась тетрадь с недописанной строкой поэмы «Февраль», широкого и мощного произведения, над которым Багрицкий тогда трудился. Он словно напророчил себе. Помните заключительные слова из стихотворения «Последняя ночь»?
Но если, строчки не дописав,
Бессильно падет рука…
Пусть юноша (вузовец или поэт,
Иль слесарь – мне все равно)
Придет и встанет на караул,
Не вытирая слезы.
Так и совершилось.
Широкое, долгое, свободное дыхание новой поэмы оборвалось. С необыкновенной отчетливостью Багрицкий опять заговорил в этом произведении о том, что волновало его всегда, всегда требовало выражения.
Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа…
Я много дал бы, чтобы мой пращур,
В длиннополом халате и лисьей шапке,
Из-под которой седой спиралью
Спадают пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной…
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь…
Стихи оборвались… Струна лопнула…
Грузное большое тело, отдающее жаром, стащили с шестого этажа на носилках в больничную карету-автомобиль.
Ни прозрачности безмолвных аквариумов, ни утренней под лучами солнца веселой суетливости птиц в клетках, ни частых телефонных звонков из редакции или рабочего литкружка, – и днем и ночью полумрак, лекарственные склянки, шприцы для впрыскивания камфары и морфия, жар, исходящий от крупного больного тела, бормотанье в полубреду-полусне, косынка больничной сестры, напряженная тревога в глазах жены, уже не отходящей от больничной койки мужа, быстро теряющего силы. Но по странному капризному свойству болезни его перестала мучить астма. Дома забыли английскую курительную трубочку, которую Багрицкий набивал не табаком, а астматолом. Бросились за нею, но поспешность оказалась лишней. Эдуард ни разу не вспомнил о любимой трубочке.
О чем же он вспоминал, о чем говорил?
– Кто кормит птиц? – спросил он жену, когда та пробовала покормить его творогом со сметаной.
Известны его ласковые слова, обращенные к медсестре:
– Какое у вас славное лицо. Наверно, у вас было хорошее детство.
При своих воспоминаниях о детстве Багрицкий говорил обычно, что «тут радоваться нечему».
Об этом он иногда думал в стихах, как думал и о смерти. Но на этот раз, умирая, он о смерти, кажется, не думал. В минуты прояснения он мечтательно говорил о том, что откладывать поездку в Германию не следует, поездка своевременна, как никогда.
Но для врачей и для жены надежды уже не было. Кто-то намекнул Лидии Густавовне, что следовало бы позвать сына. Сева был вызван по телефону. Однако в последнюю минуту мать передумала и не решилась впустить мальчика к умирающему отцу: «А вдруг он разрыдается – и Эдуарду станет понятно значение сцены?»
Утром 16-го у постели умирающего оставалось несколько человек. После долгого забытья Багрицкий медленно открыл глаза. Перед ним у койки стоял в халате румяный широколобый мужчина в очках, глядел внимательно и тревожно. Багрицкий узнал посетителя.
– Исаак Эммануилович, – проговорил он приветливо, пробуя улыбнуться, и опять забылся.
В тишине простучали тяжелые ботинки Гриши Гаузнера, очень молодого, очень талантливого человека, – он ушел из палаты вместе с Верой Михайловной Инбер, и так случилось, что он немногим пережил нашего старшего друга…
Исаак Эммануилович Бабель был одним из последних, кто видел Багрицкого перед самой смертью, кроме жены, сестер и врачей. Бабель говорил, что мучительно-воспаленное, лицо умирающего напомнило ему маску Бетховена.
Эдуарда тревожило, если он не находил глазами Лиду. «Ты, Лида, не бойся», – это, кажется, были его последние слова, сказанные очень просто.
За несколько минут до полудня врач и сестра приготовились вливать ему глюкозу. Врач приклонил ухо, слушая сердцебиение, и поднял руку, чтобы отдать сестре сигнал… Но вот рука врача, не отдавши ожидаемого сигнала, опустилась, и врач сказал:
– Не надо.
Багрицкий умер.
Удивились перемене, какая произошла в нем, когда его опять увидели – уже в гробу. Лицо очень помолодело. Вернулась спокойная ироническая усмешка на тонкие, прежде слегка влажные, сейчас сухие подкрашенные губы.
И почти все совершилось так, как было сказано им при жизни.
Вокруг много цветов, цветов московской зимы, особенно много гиацинтов, хризантем и левкоев. Яркие, утепляющие, даже слегка душные лучи «юпитера», сдержанное гудение. По мягкому коврику шаги сменяющегося караула, слезы в глазах и признанных и негласных друзей.
Одного Эдуард не предвидел – эскадрон красной кавалерии, прибывший в Клуб писателей по приказу Наркомвоенмора, последовал, цокая копытами коней, за гробом Багрицкого.
«Копытом и камнем испытаны годы…»
Багрицкий умер через год после описанной Сторицыным встречи.
Свои записки Сторицын назвал «Рассказ о том, как умирал Багрицкий». Но в попытке предвидеть характер этой смерти Сторицын ошибся. Не ошибался Сторицын в другом, зная Эдуарда в юные его годы: свою любовь к жизни, ко всему живому – первый признак поэта – Багрицкий до последнего вздоха норовил прикрыть чем угодно – ужимкой, лихим словцом, иронией. Так же не любил он никакой наготы. Так же старался он замаскировать долголетнее страдание болезни, и нужно сказать, это ему удавалось. Грустное признание…
Но особенно грустно признать сейчас, что Багрицкий не успел, уже поднявшись до этого, в меру и достаточно полно выразить то ощущение единства чувства и мысли, какое могло увенчать его ощущение, к которому пришел он под конец.
Багрицкий! Дух Тиля Уленшпигеля признал тебя!
Только теперь мог бы ты весело пойти по дорогам, пересвистываясь с птицами, на ходу улыбаясь и складывая песни, чтобы вечером пропеть их у ближайшего очага… Был бы уже стариком? Что ж! Ты, наверно, отрастил бы окладистую бородку моряка и с трубкой во рту рассказывал бы внукам сказки Андерсена…
Так оно и было бы, если бы болезнь не сожрала певца, а вражеская бомба не убила его сына, Всеволода, молодого поэта и журналиста-фронтовика.
Все это теперь ясно видно.
ВСТРЕЧИ С ЗЕМЛЯКАМИ
1. ПризнаниеНе скажу с уверенностью, где, в чьем доме было это. Почему-то кажется мне, что чтение было назначено в служебных комнатах театра Вахтангова. В этот вечер, впервые после долгого молчания, Бабель обещал новые рассказы. Театру же он обещал пьесу, и этим, должно быть, объясняется особенная заинтересованность и гостеприимство театра.
Охотников послушать прославленного новеллиста собралось много. Здесь же я встретился с Ильфом, и мы вместе ждали появления земляка.
Бабель поднимался по лестнице, окруженный друзьями. Мы увидели в толпе покатые плечи и лохматую, начинающую седеть голову Багрицкого.
Бабель поднимался не торопясь, от ступеньки к ступеньке, переводя дух. Озираясь через круглые очки, закидывал голову; при этом его румяное лицо, как всегда, казалось веселым, взгляд – любопытным. С толпой вошел оживленный говор. Но веселость Исаака Эммануиловича была обманчивой. Предстоящее дело чтеца, очевидно, заботило его.
Начали без запоздания.
Создатель трагических рассказов всегда любил шутку и шутить умел. Помнится, и тут тоже, проверяя нашу готовность слушать его, он начал шуткой. Но конечно же на этот раз он не подозревал точного пророческого смысла случайных слов, сказанных игриво из-за столика:
– Предвижу, что именно меня погубит. Мой скверный характер. Это он и мое любопытство нанесут меня на рифы… – И он был не в силах договорить то, что начал, и только усмехнулся лукаво и немного сконфуженно промолвил: – Ну, подумайте, зачем я опять согласился испытывать ваше терпение?
Затем, сразу став серьезным, Бабель поправил очки и, заново наливаясь румянцем, приступил к чтению. Он сказал:
– «Ги де Мопассан».
Бабель читал в манере, знакомой нам еще по встречам в его квартире на Ришельевской улице, – неторопливо, внятно, хорошо выражая ощущение каждого слова.
Вторым был прочитан рассказ «Улица Данте».
Не замечая легкого шороха внимания, возникающего то здесь, то там, я вслушивался в звуки чтения, следил за развитием сюжета, ожидая разгадки: «К чему же все это?» – и чувствовал недоумение. Больше! Я был озадачен: то, о чем повествовал Бабель, казалось мне не заслуживающим серьезного рассказа. Я не узнавал автора «Смерти Долгушова». Особенно озадачил меня рассказ о том, как бедствующий, нищий автор заодно с богатой петроградской дамой переводили «Признание» Ги де Мопассана. Выразительность эротической сцены обожгла воображение, но как и чем это достигалось? Я не задумался над этим, не оценил ни тонкого заимствования из мопассановской новеллы, ни всего чудно-музыкального строения рассказа Бабеля.
Чтение кончилось. Чувство недоумения не оставляло меня, но вместе с тем не оставило меня и то, мне непонятное, что слово за словом, как ступенька за ступенькой, откладывалось и накапливалось во мне во время чтения.
Публика расходилась. Ильф, счастливо блестя улыбкой и крылышками пенсне на глазах, поставленных слегка вкось, вздохнул, сказал застенчиво:
– Вон как! Хорошо темперированная проза. Действует, как музыка, а как оно просто! Вот вам еще одно свидетельство, что дело не в эпитетах. С этим нужно обращаться экономно и осторожно – два-три хороших эпитета на страницу – не больше, это не главное, главное – жизнь в слове…
Я промолчал.
Повторяю признание: в этот вечер я не понял рассказов Бабеля, как не понимал я в ту пору духовного мученичества долгих многолетних или недолгих, но всегда честных молчальников искусства, как не понял важного значения слов, сказанных однажды Бабелем об одном из нас: «Едва ли ему что-нибудь удастся в нашем деле – у него небрежная, торопливая и ленивая душа. Он не любит сомневаться, но притом строить, – он любит литпродукцию, а не литературу».
Как всегда в, казалось бы, непоправимых грубых ошибках молодости, она же, наша молодость, служит нам единственным, но счастливо-убедительным оправданием. Видимо, и на сей раз молодость еще не умела в негромком услышать важное, в малозаметном – увидеть истину. Ильф был старше меня лет на пять-шесть, он был уже зрелым, его душа уже была в движении…
Прошли, однако, и мои дополнительные пять-шесть лет, может быть, даже меньший срок, – и вот – дивное дело, – отыскивая и сочетая слова, фразы и строчки, прислушиваясь к их звукам и смыслу, к ритмам пауз, означенных запятой или точкой, я то и дело слышал среди интонаций, идущих из каких-то светлых запасов памяти, музыку речи, радостно узнавал знакомые созвучия – и я сразу же поверил им и подчинился.
Вероятно, это справедливо. Вероятно, так и должны говорить друг с другом поэты… Но не довольно ли признаний? «Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя».
2. О назначении поэтаВсе чаще хочется мне послать земляку письмо, в котором говорилось бы об ожидании: о страстном ожидании удачи в новых предстоящих ему вещах – о новом мире. В этом звучит, должно быть, не только голос одной души, но голос всех вступивших в круговую поруку: мы, многолетние, ответственны перед эпохой все в равной степени.
«В эпоху быстрых темпов писатель должен думать медленно».
Не однажды Олеша подтвердил верность этому своему афоризму.
Душа поэта пуглива и капризна. Нелегко поэту вступать в беседу, не всякая встреча ему по душе. Но, по-видимому, мне при встречах с Юрием Карловичем везет. А может быть, неспроста эти встречи, всегда интересные и искренние. И вот опять он доверяет мне свою постоянную, долгую и любимую думу. Это рассказ о том, что хотел бы Олеша написать.
Я знаю это. Давно знаю. Но и спустя годы мне снова интересно слышать этот рассказ.
Это повесть о жизни и смерти. Я слышал ее, когда серый, седой и как бы нечесаный, но все с тем же взглядом, блеснувшим из-под бровей, Олеша был все-таки моложе. Но почему же он не умер? Ведь он мог умереть. Он умирал, был обречен. Рассказ начинается с того, что он вспоминает, как ему делают очень опасную хирургическую операцию. Отощавшее тело взрезано, раскрыто. Хирург в белом халате, склоняется над вскрытой брюшиной. Там все ало или лилово…
– Рассказ должен быть совершенно точен, – утверждает Юрий Карлович. – С точным сообщением фактов, имен и последствий. Теперь известно, что я легко мог умереть. Но я остался жить – зачем? Что увидел хирург, вскрывший мое тело, что он увидел во мне? Лицо врача строго, внимательно, важно. И удивительней всего, что глаза розовые. Да, розовые глаза! Я вижу это лицо, и мне становится ясно: этот человек имеет задачу спасти меня. Но зачем?
– Вы будете жить, – слышен голос, – вас не убьют. Вас велели щадить…
Вероятно, это уже бред.
Конечно, судить меня может только один: Бетховен! Это я знал, это так. Но зачем мне оставляют жизнь? Я обнищал. Мое прибежище на чердаке. Хлам, осенний холод. Лист, кружась, влетает в чердачное окно. Желанная бедность! Я никогда не страшился репутации сумасшедшего. Я к этому приучен, это мне приятно. Может быть, именно это дает мне или сохраняет чувство свободы. Не правда ли? Давно сказали мне: «Юрий, тебя хотят держать при РАПП как своего сумасшедшего». Это так. Это навсегда определило мое общественное положение. Но там, внизу, на улицах большого города, по всей стране, должно быть, немало еще людей, которые чувствуют меня иначе. И вот оттуда приходят ко мне двое влюбленных молодых людей – девушка и юноша. Еще сохраняется глухое воспоминание о том, что я когда-то издавал книги, – и они пришли ко мне, зная, что я поэт. Юноша говорит: «Валя, покажи ему свои руки».
И девушка протягивает руки ко мне. Я все понимаю. Я понимаю, зачем влюбленные пришли ко мне, зачем я живу: я должен им сказать, какие у девушки руки. И я говорю им это. Одно слово.
«Вот видишь, Валя, я говорил тебе, что он все знает, – обрадованно восклицает юноша. – Я тоже видел, что у тебя необыкновенные руки, но я не умел назвать это. Спасибо. Пойдем, Валя».
Вот вам повесть о назначении поэта. Я знаю эти руки, но я не скажу вам тех слов, какие нужны для того, чтобы повесть писать. Я могу вам ее показать.
– Что? – спрашиваю я. – Что показать? Повесть?
– Эту девушку. Валю. Вот она. Смотрите. Она сейчас войдет.
– Кто? – спрашиваю я.
– Валя. А может быть, у нее другое имя. Такое, как у гамсуновской героини. Помните – Иллояли? Впрочем, не утверждаю. Может, просто Гертруда. Несомненно, она была королевой.
– Кто?
– Валя. Вот она выходит из пещеры. Смотрите. Смотрите.
Из-за буфетной стойки выходит и приближается к соседнему столику девушка-официантка. Она протянула руку, подавая блюдо, и я увидел чудные руки. Да, это рука королевы. Увидел бы я это, если бы не рассказ, только что услышанный? Согласен. Девушке пристало бы, как сказочной королеве, появиться из пещеры…
Забавная игра? Конечно. Но самое интересное вот в чем: вдруг я чувствую, что эта игра подготовлена во мне всей моей жизнью, всеми знаниями. Да! Своею жизнью подготовлен я к пониманию сложных впечатлений и потому верю: Валя должна выйти не из-за буфетной стойки, а из глубины скалистой пещеры, с легким венцом-короной над головой, – эта несильная, юная, гибкая девушка с профилем, какие бывают на цветных витражах в средневековых соборах; а главное в ней – прелестные, гибкие, как все ее тело, матовые руки, с легким звоном умело убирающие посуду.
Благодаря всему, что случилось в жизни со мною самим, и мне доступно это видение. Этим же объясняется чувство взаимного доверия – у меня и Олеши. И он видит здесь одни и те же, общие для нас родовые признаки…
– Что вы можете сказать об этих руках? – спрашивает он.
Но здесь, увы, я сдаюсь. О руках Вали я не умею сказать больше того, что сказал. Поэт в еще не существующей повести, наверно, видит больше и говорит лучше меня.
– Но об этом никому, – придвинувшись ко мне, таинственно шепчет Олеша.
– О чем?
– О том, что вы узнали. Слышите – больше никому. Слышите?
Не посвящать больше никого в нашу тайну… А правильно ли это?
Как любовь есть тайна двух, так мечта поэта есть тайна только его одного. Но тайна эта постигается затем, чтобы приобщить к ней всех. Не в этом ли назначение поэта? И потому не вернее ли рассказать, ничего не утаивая, с точным обозначением имен, не опасаясь последствий?







