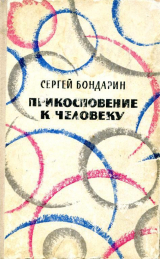
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
Но вопрос Стивки продолжал мучить Андрюшу, и он сказал самому себе в утешение:
– Я уже летал. Почти как на аэроплане. Тренировка!
– Вот заливает! Вот финтит! Летал на гигантских шагах!.. Это что? Вот если на воздушном шаре, другое дело – на тебя может налететь комета. Ты сам рассказывал.
– Ты это нарочно, что ли? Я рассказывал не так. Туда, где кометы, никто не летает – закон Ньютона.
– Подумаешь! Кто его установил?
– Ну, Стивка, с тобой и говорить нельзя. Наука, а он: «кто его установил», – это невежественно. Надо знать закон притяжения, а ты попираешь.
– Куда я попираю?
– Не куда, а реальность попираешь – вот что!
– А я тебе скажу, что это даже хуже – все знать. Скучища! Ты сам мне рассказывал: раньше тоже считали, что все уже знают, а Коперник доказал, что всё наоборот.
Андрюше стало слегка совестно. Того и гляди Стивка уличит его в хвастовстве. Он примирительно сказал:
– Постой, возьмем семечек, у меня есть деньги.
Купили у старушки семечек.
– Бери с фисташками, – посоветовал Стивка. – А может, еще пряников? Мало взял пирожков.
Купили ржаных пряников с медом – на копейку пара. Услащенный Стивка, от которого сегодня пахло чесноком, спросил:
– А кто величее: Коперник или Галилей? Кто самый великий?
– Такого еще нет. Самый великий будет тот, кто обнаружит, откуда взялась земля, или откроет новую землю.
Стивка не сразу пришел в себя после этого сообщения, потом тихо спросил:
– Ты говоришь, тяжелый закон Ньютона… Ну хорошо, это на земле, а воздух совсем не тяжелый, так как же там?
– Ну, ты опять понес чушь. Как раз наоборот. В этом все дело. Это как раз и хорошо, что воздух не тяжелый, поэтому авиаторы и летают: поднимутся, становится легко, и они могут что хотят.
Эту теорию Стивка одобрил:
– Да. Это здорово! А кто самый великий авиатор?
– Пегу. Почему? Он три раза перелетел через Ла-Манш. Он – француз.
– А Чаркин перелетит через все море. Он – всероссийский известный авиатор. Вот тебе и будет ломанж!..
И вдруг, дожевывая пряник, Стивка ляпнул:
– А тая Фина, скажу я тебе, и пятака не стоит, чтобы ее брали.
– Ну да, скажешь. Она дочь вице-президента.
– Я видел, она целовалась.
Андрюша даже приостановился. Он свел брови и в упор пронзительно посмотрел в глаза собеседника.
– Врешь!
– Видел, – упрямо повторил Стивка, – с тем самым офицером: в белом кителе. Он стал на колени и поцеловал ее сюда. – Стивка завернул край своих коротких штанов, обнажил ссадины на крепком загорелом колене и показал: вот сюда.
– Ну, – облегченно вздохнул Андрюша, – это не значит целоваться. Это – средневековье, как делали раньше: рыцарь преклоняется.
– Э, – не унимался Стивка, – я видел, ей это нравится.
Однако мальчики уже миновали студента-контролера со значком юридического факультета, обогнули пятиэтажный самовар, вокруг которого, как лилипуты вокруг Гулливера, суетились повара и судомойки, и вышли из глубины парка к свету дня, к морю, к павильону «Лактобациллин»…
Под обрывом на солнце ярко краснели кирпичные пакгаузы порта, пролегала железнодорожная эстакада с коробочками товарных вагонов, а дальше за эстакадой возвышались смолянистые борта и белые спардеки пароходов, шумно принимающих в трюмы потоки зерна. Еще дальше в блестящем море белая полоска волнолома заканчивалась белой свечкой маяка, – все это было давно знакомо, но тут, вблизи обрыва, стояла в солнечном сиянии эта штука.
Мальчики сразу забыли о своем споре.
Легкое сооружение из полотняного материала на бамбуковых шестах почти не имело металлических деталей, две плоскости с установленным на нижней плоскости двигателем. Сиденье напоминало большую раковину.
Тени бегали по всей этажерке, поставленной на высокие дутики.
– Это тебе не шарабан! – воскликнул Андрюша.
Несколько человек возились вокруг: то взлезали, то прятались под нижние плоскости. С ними был и Андрей Ефимович – в светлом кепи, в рабочем комбинезоне. Некоторая сутуловатость не мешала чемпиону быть в движениях быстрым. Клок рыжих волос спадал на упрямые белесоватые, как бы наклеенные брови, и он то и дело отбрасывал волосы веснушчатой рукой. Чаркин услыхал Андрюшин возглас, живо обернулся, заикаясь, но весело сказал:
– А! Мо-ло-ло-дой друг, мо-ой тезка. Сюда, сюда, поскорее! Помогайте… если ваши мамы не протестуют. Но работать так, чтобы доилось молоко, а не молозиво.
И тут же приступил к делу.
– Пробный ход мотору, дайте газ! – скомандовал он.
Кто-то из его помощников заметил:
– Мальчики – подальше!
И тотчас же что-то выстрелило, зафыркало, откуда ни возьмись, туча пыли обволокла всех. Плоскости аэроплана ожили, затрепетали, как паруса на ветру. Чаркин ухватил одну из стоек, хорошенько потряс ее, потом – другую, подобрал рупор и снова скомандовал:
– Майна! Выключить!
Дел было много и для Андрюши со Стивкой.
Площадку окружали длинные садовые скамейки в два ряда, и солдаты продолжали приносить их. Для почетных гостей устанавливались кресла. Из разговоров стало известно, что ожидается сам председатель Одесского авиационного общества, генерал, командующий войсками округа. А Мавро Ангелиди действительно был вице-президентом, это в его мастерских строили моторы и аэропланы. Что же удивительного, что в самый первый полет Андрей Ефимович берет дочь вице-президента?
Андрюша слыхал своими ушами, как Чаркин сказал:
– Позаботьтесь, чтобы обязательно были белые и красные розы, возьмите на Екатерининской: со мною сядет молодая женщина.
Приготовления заканчивались. Чаркин стоял на крыле и теперь, как казалось Андрюше, походил на пирата: он сбросил кепи и повязал голову ярко-красным платком, он давил ногою на проволочный трос, от натуги наливаясь кровью. От усилий Чаркина весь аэроплан покачивался. Монтеры выжидали с инструментом в руках. Чемпион недовольно кричал:
– Балаболки! Разве это работа? Вдвое туже!
Полет был назначен на шесть часов.
К четырем уже начали заполняться аллеи.
Андрюшу лихорадило, он не мог мириться с будничным меланхолическим плеском фонтана, запущенного садовником, – все вокруг было в другом ритме, в другом движении.
Промаршировал еще один взвод солдат в бескозырках, с погонами морского батальона, а вскоре показался и военный оркестр.
Чаркин больше не горячился, спокойно оглядел площадку, аэроплан и вдруг подозвал Андрюшу: «Пройдемся, тезка» – и, отсчитывая шаги, повел к самому обрыву.
– Теперь говори мне – это пакгаузы?
– П-пакгаузы, – отвечал Андрюша, неожиданно для себя заикаясь от волнения и счастья.
– О! Ты заика?
– Нет, – отвечал Андрюша, – это так себе.
– А, так себе? – рассмеялся Чаркин. – Ну, мальчуган, подержи шланг: будем умываться. К крану, дружок, к крану!
– Прямо тут?
– А где же? Стесняешься, зайдем за кусты.
– Пойдем лучше к нам, – решился предложить Андрюша.
– Куда это?
– В «Лактобациллин».
– Куда?
– Это простокваша профессора Мечникова, папин павильон, там есть буфетная с умывальником. Да вот он.
В мареве приморского зноя красовался небольшой павильон, и буквы, вертикально насаженные на неподвижный флюгер, составляли слово: «Лактобациллин».
Чаркин прочитал это слово, повел головой: «О-го-го», спросил:
– А все-таки, что оно означает – такое красивое слово?
Андрюша отвечал:
– Я же говорю, простокваша профессора Мечникова для общего оздоровления.
– Чудесно, – улыбаясь, сказал Чаркин, – мне это начинает нравиться. Но я, малыш, люблю умываться под сильной струей, это тоже полезно для оздоровления. Мы здесь умоемся, а ты беги в свой «Лактобациллин», спроси, позволительно ли зайти переодеться?
– Конечно, можно. Папы нет, одна Маруся.
– А папа сердитый?
– Не думаю. На самом деле он очень добрый.
– Это хорошо, что ты так думаешь о папе. А мама?
– Мы, – и вдруг Андрюша опять неожиданно для самого себя заикнулся, – мы с папой вдвоем.
– А-а, вот как! Раз вы с папой одни, значит, он должен быть горд сыном… А Маруся – это кто?
– Маруся – официантка.
– Блондинка? Рыжая?
Что-то, как облачко, пробежало по счастливому сознанию мальчика, но он рассудительно отвечал:
– Нет, она черная, брюнетка. Маруся – малороска.
– А-а, это для нашего Володи. С Володей познакомился? Монтер. – И Чаркин, сбрасывая за кустами комбинезон, стал зычно звать монтера Володю.
Услышав и от Володи, что они с Андреем Ефимовичем непременно придут в «Лактобациллин», Андрюша, подражая Чаркину, во все горло кликнул Стивку, и мальчики побежали к себе: в павильоне со вчерашнего вечера оставалась немытой вся посуда.
Маруся встретила их упреками, но при сообщении, что, дескать, сейчас придет сюда Чаркин, вдохновенно заметалась между столиками.
Чаркин не обманул. С еще мокрыми рыжими космами он появился на веранде, утирая короткую шею сырым полотенцем. Володя нес чемодан. Они весело спросили у Маруси разрешения переодеться и еще через несколько минут вышли тщательно причесанные. Чаркин – на прямой пробор, в брюках-бриджах и коричневых лакированных крагах. Его развитой торс гонщика обтягивался красно-рыжим джемпером. Таким образом, он весь пылал, как человек перед печью.
– Теперь мы попросим живительного лактобациллина, – сказал чемпион, застегивая браслет с ручными часами – один из бесчисленных призов и, еще не отведав баночки, уже хвалил: – Прекрасный лактобациллин! Прекрасный! А это что?
Он увидел на столике стопку рекламных салфеток.
– Это у них реклама, – объяснил Стивка назначение бумажных листков-салфеток с отпечатанным изречением: «Лактобациллин по способу профессора Мечникова – лучшая гарантия долголетия».
Чаркин сделал комически-длинное лицо.
– Смотрите, что делается! – И вдруг какая-то озорная мысль остановила его, он что-то соображал. – Но это прекрасно! Лучше не придумаешь. Как раз то, что надо не только вам, но и нам. Не правда ли, Володя: реклама так реклама. Что может быть лучше: реклама с аэроплана! Оригинально! Я на это падкий. Послушайте, девушка Маруся! Дайте нам побольше этих проспектов. А? Прекрасно.
– Я не знаю, – невразумительно пробормотала Маруся. – Вы же, наверно, их вернете?
Со стороны площадки уже слышалась увертюра к опере «Фра-Диаволо». Уже с трудом протолкались через толпу. Андрюшка и Стивка тащили стопки салфеток, как блюда с блинами.
К удивлению Андрюши, его приятель совсем оторопел. Впрочем, было от чего. Сверкая медью труб, гремел военный оркестр. Толпа шумела. То и дело подъезжали экипажи, высаживались расфранченные дамы, элегантные мужчины. Много было нарядных детей. Цепью стояли солдаты, все более густела толпа. Все было ярко, пестро, сверкали канотье, на военных – погоны, в руках дам – лорнеты.
И вот на мачте, воздвигнутой прошлой ночью, взвился русский национальный флаг.
Андрюша боялся, что Чаркин забудет про салфетки, и старался держаться на видном месте, но это было нелегко: Чаркин сразу занялся последними распоряжениями, Андрюшу оттерли от него. У Андрюши у самого разбегались глаза. И вдруг он услышал голос Фины.
То, что он увидел, оглядевшись, не сразу дошло до его сознания: лицом к лицу с Чаркиным, такая же рыжая, как он, со стеком в руке и в тех же бриджах, в каких она была прошлый раз, стояла Фина и рядом с нею – в модном канотье, тщательно выглаженный Мавро Ангелиди. Отец и дочь, молчаливо выслушивали то, что продолжал говорить им Андрей Ефимович. А Чаркин не говорил – кипел, и ярость подавляла в нем порок, речи.
– В этом можно было бы усмотреть насмешку, – отчеканивал Андрей Ефимович, – если бы я не был уверен в ваших дружеских чувствах. Не могу видеть вас, Фина! Что вы сделали с собой, как вы нарядились! Вы же летите на аэроплане, а не скачете на лошади. Я – авиатор, а не циркач. А вы, вы только пассажир… пассажирка! – заикнувшись, подчеркнул Чаркин. – И наконец, что за спесь при этом? Вы, Мавро, ухватились за салфетки. Почему это унижает? Это нужно мне самому. Я не могу терять контакта с людьми, пришедшими на мой полет. Вот этому и послужит разбрасывание салфеток. Это оригинально, и я… я сделаю это, хотя бы и без вас…
Так утверждал Андрей Ефимович. Ангелиди, в растерянности постукивая папиросой о портсигар, только и успевал приговаривать:
– Андрей Ефимович! Андрей Ефимович!
– Я понял, – успокаиваясь, заметил Чаркин. – Я понял вас. И я считаю, что действительно вашей дочери лучше отказаться от полета.
– Ну, Афина, как? Надо решать, – сказал Ангелиди и отбросил незажженную папиросу.
Трудно было поверить, что здесь та самая Фина Ангелиди, какую знал Андрюша, – такая бледная и подавленная стояла девушка. Она бессильно опустила руку со стеком, длинные черные ресницы легли на щеки, девушка проговорила громко и внятно:
– Вы угадали, Андрей Ефимович: я переоценила себя, я боюсь.
Андрюше показалось, что Чаркин даже отшатнулся. Но Ангелиди облегченно вздохнул, тоже опустил глаза и спросил виновато:
– Что же делать?
– А вот что! – Андрей Ефимович резко взмахнул пачкой салфеток и круто обернулся к Андрюше: – Вот что! – Он внимательно вгляделся в Андрюшу, перевел глаза на Стивку, опять на Андрюшу. Он смотрел тем же взглядом, каким незадолго до этого осматривал местность в порту, над которой задумал лететь. Спросил – неторопливо и строго: – Андрюша… полетим? А? Обратно из Дофиновки доставлю на машине.
Теперь увидела Андрюшу и Фина, она всплеснула руками:
– Ах, это ты! Как стыдно, боже мой, как, однако, стыдно!
Всю свою пока еще недолгую жизнь Андрюша любил находить в книгах особенных людей, иной мир, мир доблести и добра, и очень ему хотелось встретиться с таким человеком на самом деле. И вдруг он почувствовал в Андрее Ефимовиче не только своего тезку, снисходительного чемпиона, – он почувствовал единомышленника, благосклонного пособника детских мечтаний, а главное – себя мальчиком, которому предстоит сейчас сделать что-то важное, достойное необыкновенных людей, таких, как Чаркин.
А во взгляде Чаркина из-под прямых рыжих бровей все еще были и пытливость и неуверенность. Во всей его позе, в жесте, с каким он склонился над мальчиком, были и приглашение к подвигу, и сознание большой ответственности.
Но вот Чаркин и Андрюша улыбнулись.
– Ба-лаболки! – во все горло закричал Чаркин. – Готовиться к старту. Без молозива!.. Пассажиром летит… как твоя фамилия? – обратился он к Андрюше и опять закричал в рупор, чтобы все слышали: – В полет идет Андрюша Повейко, дитя лактобациллина. Сейчас все узнают, что это такое. Разбрасывай! – хитро подмигнул он, откинул рупор и сам метнул в толпу пачку салфеток. – Давайте сюда розы!
Володя передал Чаркину огромный букет красных и белых роз, и тот протянул его Андрюше:
– Оставь себе или, если хочешь, поднеси вон той… рыжей… Да, да, Ангелиди, дочери вице-президента. Прекрасно! Твой папа может тобою гордиться, скажем без лести. Ну, быстро! Пора!
Андрюша сохранял только одну способность – повиноваться. А Стивка растерянно кричал ему вдогонку:
– Ну, ты приходи, Андрейка, ты вернись…
Дальше Андрюша увидел себя в сиденье-раковине. Его ноги легли прямо и врозь, охватывая переднее сиденье. По сторонам топорщились стойки. Все оплеталось проволокой, как решеткой.
Чаркин закрепил ремни с ласковой деловитостью.
– Главное – дыши глубже. Главное – не пугайся, когда заработает двигатель. Дыханье у тебя хорошее? Видишь вон то облако? Мы, Андрюша, полетим к нему. Прекрасно! Чудно! А я сам поговорю с папой, к ночи будем обратно.
В высокой сияющей голубизне Андрюша увидел чистое безмятежное облачко, оно медленно шло, пересеченное проволокой.
Чаркин уже сидел впереди между ногами мальчика.
Но вот крылья аэроплана почему-то начали поворачиваться, подрагивать. Чаркин тоже повернулся в профиль, скосил глаза на Андрюшу, в зубах у него торчала сигара. Он взмахнул рукой, за спиной у Андрюши что-то взвыло, в шею и голову дунуло ветром. Все подпрыгнуло, понесло пылью, закружились какие-то лоскутки – это опять Чаркин метнул салфетки, его рыжая шевелюра стояла дыбом.
Сиденье под Андрюшей начало вдруг давить и поднимать его. Напряженность ужасающего воя упала, слышался свист, дрожала проволока.
Откуда-то сбоку замахнулась на Андрюшу земля, а прямо перед глазами напрягалась мощная спина Чаркина, одетая красно-рыжей шерстью, ходили сильные лопатки, плечи.
Аэроплан стал клониться на одну сторону все больше и больше, и опять милая незаменимая земля понеслась как-то странно, сбоку – с деревьями и дорогами, увиденными с высоты, с трепещущим флагом, с множеством лилипутов на желтых прямых дорогах. А из-за деревьев выглянул и покачнулся самовар, как будто его вытряхнули. Мелькнула маленькая Сараджевская коса. Все стало лилипутским.
И вдруг Андрюша увидел море. Он узнал его. Море было молчаливое, неподвижное, очень прозрачное. Тут и там оранжево просвечивали большие пятна отмелей. Узкая белая полоска изгибалась по стеклянной синеве, торчал столбик маяка. А в порт входил, дымя, пароход. На безлюдной палубе чернели квадратики трюмов. А затем не стало ни парохода, ни деревьев – вокруг себя Андрюша увидел только одно: небо. Все, куда ни глянь, все было только небо, воздух. Лишь на какое-то мгновение сверкнула на солнце стая птиц, и Андрюша вспомнил стрельбище и Фину. Она в это мгновение была прекрасной по-прежнему, и еще на мгновение Андрюша вспомнил, как неловко сунул он ей в руки букет.
Всё это было только одно мгновение. Опять вдруг не стало ни людей, ни воспоминаний, ни цветов, ни твердого, ни мягкого, ни деревьев, ни камней. Не стало даже папы, вернее, того чувства о нем, которое все время не покидало Андрюшу.
Зато Андрюша узнал облако, которое ему показывали с земли: оно было близко и начинало таять.
Андрюша продолжал взлетать к нему, и так же, как прежде, когда Андрюше читали первые сказки, ему стало страшно как-то по-особенному: в животе и страх и восторг, и больше всего хочется узнать, что же произойдет дальше.
Все отступило, шел полет, перед глазами был иной свет божий.
На другой день папа Александр Петрович, надо полагать, слукавил: он наказал сына не за вольность, не за полет, а за то, что Андрюша все-таки ослушался и не постригся. А может быть, Александр Петрович был так неласков, ворчливо вел себя и наказал сына потому, что был глубоко несчастен и собою недоволен. Он, видимо, сожалел, что уступил дяде Арону и теперь павильон лактобациллина – уже не ихний павильон: при посредничестве благожелательного Арона удается продать павильон и все предприятие даже с некоторой выгодой. И все-таки сам Александр Петрович этого не сделал бы, если бы на сделке не настаивала Вера Кирилловна и Кирик Менасович.
Сердитый папа ушел, а наказанный Андрюша весь день сидел дома. Ему запретили являться в павильон, несмотря ни на что.
Грустная жалость охватывала Андрюшу при мысли о том, что все так случается в жизни. В детском теле еще слышались ритмы, страхи и звуки происшествия вчерашнего, и это было для Андрюши главным, приятно было думать о самом себе уже как-то по-другому. Что ни говори, а ведь он совершил полет, ведь он почти авиатор, престидижитатор, Пегу! Зачем же это несчастье с лактобациллином? А может быть, все станет по-прежнему: добрый папа, веселое море, Фина, счастливые утра, сладко-утомленные вечера. Выглаживая на скользком ремне бритву, папа улыбнется своею чуть-чуть горькой улыбкой, тихо скажет: «Ну ладно, не горюй, мой мальчик, довольно огорчений, войн, несогласий. Надо признаться, ты, Андрей, все-таки герой. Я горжусь тобою. Андрей Ефимович прав. А признание, знаешь ли, приходит не сразу: воля нужна, дружок, воля! Ладно! Завтра пойдем в иллюзион или в самовар есть мороженое».
И хотя даже самовар-гигант стал теперь каким-то чужим, лишним и пробуждал такое чувство, какое может пробудить торжествующий враг, Андрюше очень хотелось этого умиротворения, сохранности всего дорогого. Ведь все они хорошие! Ведь Фина честно призналась, что ей страшно. Страшно – что тут поделаешь. А признаться в этом не легко, этого признания она не испугалась, значит, она не такая уж трусиха…
Наступал вечер. Андрюша успел решить задачу о двух бассейнах разной емкости и пристроился у окна, склонившись над любимой книгой «Мученики науки». На этот раз он с особенной жадностью перечитывал главу о несправедливом притеснении еще не признанного, но уже несомненно великого Галилея, когда за окном послышался шум.
Андрюша выглянул и ахнул: не шарабан Арона Моисеевича на новых стальных шинах, а громадный сверкающий бенц Мавро Ангелиди вкатил во двор. Автомобиль с устрашающими гудками и фырканьем затормозил перед самой цветочной клумбой. Это мог сделать только Чаркин. И в самом деле, за рулем с сигарой во рту сидел рыжий Чаркин, вдоль лакированного борта красовался плакат: «Ешьте лактобациллин – гарантия долголетия!» Мгновение – и из кузова – вся в белом – выпрыгнула с букетом роз по-прежнему веселая, смеющаяся Фина, а с нею – ловкач Стивка. Но что удивительнее всего, вслед за ними мешковато вылез папа – добрый, застенчивый и смущенный Александр Петрович.
Было чем смутиться.
Как будто он всегда мечтал о таком случае, Чаркин со всем пылом вмешался в сделку о продаже павильона «Лактобациллин» и остановил ее. Он и Ангелиди вступили пайщиками в предприятие, а Александра Петровича просили остаться руководителем.
…И не стало с того времени на Всероссийской выставке более преуспевающего и популярного павильона, чем тот – над обрывом с высоким шпилем-флюгером: «Лактобациллин». На шпиль теперь была посажена великолепная модель биплана «фарман». Она-то и показывала теперь направление ветра. Люди засматривались на великолепную модель. А многие из посетителей павильона засиживались за столиками в надежде увидеть здесь самого Андрюшу Чаркина, как называли его и мальчики, и офицеры, и господа в канотье. Это случалось довольно часто: Андрей Ефимович любил приходить в гости к Андрюше-младшему.







