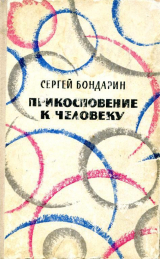
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Людей подняли по авралу, едва рассвело.
Миноносцы и катера уже выходили из порта. То и дело вспыхивал ратьер на старом крейсере.
В голубеющем рассвете уже проступил силуэт этого корабля: высокие трубы, высокий полуют, поднятый над темной полосой мола.
Посветлели вода и небо, еще не очищенное от сырых облаков, – приближалось время, когда корпост должен дать первое сообщение. «Скиф» шел навстречу событиям, моим связистам назначалась важная роль.
Светлели холмы Одессы, массивы домов медленно, нехотя выдавали свои формы, где-то светилось окно, единственный и дерзкий огонек в огромном затемненном городе; но вот потух и этот неосторожный свет, а в небе над краем облаков блеснули и успели померцать несколько звезд.
К приемнику, настроенному на волну, я назначил самого опытного радиста корабля старшину Верещагина. С корпостом отправился Онипко. Оба радиста были хорошо натренированы, и – что в этом случае особенно важно – каждый из них знал об особенности другого. Затяжное тире Онипко его партнер Верещагин умел уловить среди хаоса других тире и точек, пущенных в эфир десятками станций.
Пока что Верещагин только и слышал эти чужие, посторонние шумы, злое подвывание, потрескивание, переговоры на земле и в воздухе.
А Ершов уже запрашивал, не поступает ли сигнал. Верещагин терпеливо, упорно ждал. Я держал таблицу кода перед собою, и вот Верещагин повел головой, пригнулся, вслушиваясь, и я, стоя рядом, услыхал, или, вернее, сам почувствовал голос, который мы ждали.
– Наша станция настраивается, – негромко сообщает Верещагин. – Дает позывные.
– Станция настраивается, – повторяю я для Ершова.
– Поймали! – обрадованно восклицает он. – Смотрите же не отпускайте.
Ну, ну, как теперь выпустить! Все отчетливей в слух Верещагина вкрадываются знакомые интонации, позывные слышны ясно.
Это еще не полный, звучный голос человека, Верещагин и не услышит Онипко так, как прозвучал бы знакомый голос по телефону, но все-таки это уже не путаный, безразличный шум.
«Девятка… тройка… пятерка… раздел, семерка… пятерка… единица…» – слышит Верещагин среди враждебного треска и пощелкивания.
Еще серия цифр – и условный сигнал принят. Связь установлена. Корпост приступил к наблюдениям. Батарея хорошо видна.
– Корпост на месте. Приступил к наблюдениям. Батарею хорошо видят, – передаю я на мостик.
– Соединяйтесь с управляющим огнем, – приказывает Ершов.
Уже совсем светло.
Катера выходят вперед.
Между «Скифом» и берегом противника нарастает клубами и поднимается к небу темная и наверху резко озаренная солнцем дымовая завеса – как облако на восходе.
Первый пристрелочный залп вышибает из слуха Верещагина голос Онипко, а я, волнуясь, жду указаний для артиллеристов.
После залпа – тишина. Буйный, разбойный шум эфира, выпущенный из мембраны, отзывается в углах рубки, но вот голос Онипко снова одолевает его:
– Вынос влево, перелет. Меньше пятнадцать, правее…
Передаю результаты первого залпа.
Батарею нужно разгромить как можно быстрее, не давши противнику времени обнаружить корпост. И успешность завершения плана, и участь самого корпоста зависят от его командира Дорошенко, от самообладания, находчивости, точности наблюдателей, наконец, от их способности к мимикрии.
Толстяк лежит где-то в кустах или, зарывшись в стог соломы, хладнокровно наблюдает падение наших снарядов, быстро производит расчет, передает поправки Онипко, тот – нам, на корабль. Артиллерист Боровик обрабатывает их.
Залп. Снова ожидание.
Снова голос Онипко:
– Мыслете шесть. Люди четыре. – То есть меньше шесть, лево четыре.
Залп.
Противник, застигнутый врасплох, сбитый с толку, не зная, каким образом корректируется эта стрельба, начинает отвечать уже после того, как наш очередной залп ложится угрожающе близко к цели.
Несколько всплесков показалось в прорывах между дымзавесой, подобно тому как при полете над облаками вдруг видны через их прорывы где-то внизу деревья или крыши. Потом всплески вырастают по эту сторону завесы – снаряды противника ложатся перелетом.
В голову «Скифа» снова выходит эсминец, он снова оставляет за собой тугой, нарастающий клубами хвост. Радостная белизна отражена в воде, сияет, клубится; и мы, прикрытые этой живой стеною, медленно продвигаемся вдоль ее, продолжая стрельбу.
Залп, быстрая, как молния, вспышка озаряет завесу. Залп.
– Накрытие. На батарее паника. Прислуга оставляет орудия.
Боровик переходит на поражение.
Удары залпов становятся так часты, что их гром и содрогание корабля уже не замечаются нами, и в это время я опять слышу голос Онипко.
Забывая строгий язык цифр, он передает словами:
– Батарея накрыта, больше не стреляет.
А в щель приоткрывшейся двери рубки вдруг заносит свист, точно среди бурного оперного представления пронзительно засвистели с галерки, и слышу торопливо-резкую команду Ершова:
– Право руля!
– Больше не стреляют, – снова радостно повторяет голос Онипко.
– Бомбы! Все под прикрытие, – снова слышен голос Ершова.
Лидер вздрогнул грозно, его как бы подбросило, потянуло книзу, совсем откинулась дверь рубки, посыпались незакрепленные предметы.
Падение обманчиво казалось долгим. Верещагин ухватился за край стола, встревоженно косясь на меня, но, очевидно услыхав опять голос Онипко, принял прежнюю позу – с карандашом в руке.
Бомбы? Торпеда?
Из дымовых труб с шумом выносило пар.
В восемь пятьдесят три лидер был атакован с воздуха. Это произошло так неожиданно, что многим показалось, будто корабль поражен торпедой или набежал на мину.
Самолеты сбросили бомбы с большой высоты по площади. Брызги воды и грязи густо метнулись вдоль по кораблю.
Зенитки открыли ответный огонь, когда бомбардировщики уже удалялись. Конечно, это был грубый недосмотр, но сказалась и сила сопротивления удару, тем более чувствительному и опасному, что был он неожиданным.
Трудно поверить, как просто и хладнокровно моряки перешли от условностей боевых учений к действительности войны.
Корабль вернулся на курс. Башни возобновили стрельбу. А у Верещагина связь с Онипко, собственно, и не прерывалась.
Пробоина и разрыв обшивки образовались в районе кормовых шпангоутов с правого борта. Бомба упала чрезвычайно удачно для нас. Немного ближе к корме – и корабль лишился бы руля; ближе к носу помещался погреб с боезапасом.
В пробоину хлынула вода, затопляя сначала пятый кубрик, потом смежный четвертый. Поплыли рамки со стенгазетами, и плакатами, постельное белье, личные вещи бойцов.
Вода начала проникать в кормовой погреб.
Командир погреба задраил стеллажи и медленно, спокойно, шаг за шагом отступал к верхнему люку по мере того, как поднималась вода. Отсюда, сверху, он продолжал внимательно наблюдать за состоянием погреба, как этого требовала боевая инструкция.
Сверх ожиданий, больше все растерялся старший механик Сыркин, наш ППС.
Уже немолодой, с большим опытом инженер, он хорошо знал корабль, принятый им, так сказать, «на корню», но его раздражительность мешала ему и прежде, и сейчас опять он взял неверный тон: окриком и нервозностью не помог ни себе, ни другим.
Напротив, молодой щеголеватый командир аварийной партии Усышкин показал на деле верность своим взглядам.
– Моряку все равно где видеть море, – подшучивал Усышкин, – за бортом или в отсеке. Даже хорошо, – добавлял он, – если появилась возможность изучать море у себя в каюте лабораторным путем.
И вот Усышкин получил воду в большом количестве, вероятно даже больше, чем ему хотелось. Но и тут решил он пошутить.
К командиру корабля поступило донесение:
– Есть опасность, товарищ командир корабля, сесть на мель.
– Кто говорит? В чем дело?
– Докладывает инженер старший лейтенант Усышкин…
Оказалось, что Сыркин в растерянности дал согласие применить эжекторы для откачки воды непосредственно из помещений, затопленных через пробоину. Разумеется, Сыркину не позволили «осушать море». Неправильное распоряжение было отменено, и водоотливные средства заработали, выкачивая воду из помещений, уже изолированных от поврежденного отсека. Усышкин продолжал действовать если не совсем так, как в лаборатории, то все же с превосходным академическим спокойствием.
То же самое можно сказать и о Верещагине.
Бомбардировщики удалились – и вскоре Верещагин и Онипко перешли на морзянку: корпост, сделав свое дело, свертывался.
Уже вечерело. Катера двинулись к берегу, чтобы забрать корректировщиков.
И уже на отходе десант попал под огонь румынского кавалерийского отряда.
Лейтенанта Дорошенко бойцы вынесли на берег из несжатой пшеницы на черной флотской шинели: он был тяжело ранен.
Исчез Фесенко. Позже выяснилось, что его вымыло за борт через широкую щель, вымыло водоворотом. Успев вынырнуть и отдышавшись, он разделся на плаву, оставил только противогаз и вложил туда свой комсомольский билет. Его подобрал тот же катер, что шел с раненым Дорошенко.
С катера их обоих отправили в город, в госпиталь.
Онипко вернулся на корабль.
Из состава корпоста мы недосчитались только его командира, отлично выполнившего задачу.
Перед рассветом «Скиф» в сопровождении двух эсминцев своим ходом вышел в Севастополь.
Я так и не побывал на старом дворе с темным каштаном.
На этот раз в городе, раскинутом на холмах, не светилось ни одного огонька. Лишь блестела под звездами какая-то стеклянная крыша. Хорошо был виден купол театра. Дальше, в низинной части города, в районе пересыпских заводов, в самой глубине бухты, было глухо, ничего не разглядеть, но за продолговатым пятном Джеваховой горы по-прежнему метался огонь, розовели клубы дыма, и слышно было – в той стороне бомбят.
С этим впечатлением я уходил из Одессы, из города, где я рос и учился, где еще оставались дорогие мне люди.
В море я думал с беспокойством: завтра же могу встретить на Интернациональной худенькую девушку, которая спросит о Дорошенко. Она обязательно будет ждать кого-нибудь из нас, придерживая толстый, пахнущий колбасой пакет.
Проходя по кубрику, я услыхал вздох, которого не забыть. «Вот и у нас уже есть покойнички», – сурово, с чувством неотвратимости факта, сказал один из старшин.
Очень горевал краснофлотец Светлов. В затопленном кубрике у него поплыли форма номер три и форма номер пять. А он только что получил новое обмундирование.
Повреждения корабля требовали его постановки в док. Кроме пробоины, был перебит киль. Корма заметно проседала и держалась на креплениях верхней палубы и на гребных валах.
Теперь картина аварии была ясной. В момент падения бомб корабль совершал поворот вправо, корма катилась влево. Бомба, разорвавшаяся у первой машины, легла с левого борта, а бомба, повредившая корму, – справа, под самым бортом. Не будь поворота, бомбы легли бы на корабль по его длине.
Моряки вели корабль, как ведут дорогого, внезапно заболевшего человека – то и дело пробуя его горячий лоб, бережно поддерживая его под руки.
В море уже остро чувствовалась осень: острые осенние запахи, осенние крики птиц, свежесть.
Опять я перебирал в памяти недавние события, опять вспоминался мне мой выкрик «бомбы» и такой же недавний выкрик Ершова, и я понимал разные побуждения: возглас Ершова тем отличался от моего, что это был возглас, призывающий к действию…
И все-таки я чувствовал какое-то недоброе удовлетворение, вспоминая взволнованный крик Ершова…
На другой день после разгрома батареи, беспокоившей Одессу, державшей под огнем шестидюймовых орудий бухту и самый город, «Скиф» был за бонами главной базы и в ожидании постановки в док бросил якорь на рейде.
2В Севастополе меня ждали письма, среди них – из Одессы, от Юлии Львовны.
Юлию Львовну я знал еще девочкой Юлкой. Наши семьи полстолетия были соседями. После смерти отца Юлия Львовна жила со старухой матерью в той же квартире, где родилась, дверь в дверь с нашей квартирой, а перед окнами обеих квартир разрастался старый каштан, действительно посаженный еще моим дедом. Что же, я готов пожелать каждому, чтобы чувства, которые могут зародиться под сенью старых каштанов, не уничтожались даже войной!
Узнавши о моем назначении на «Скиф» из моих писем, Юлия Львовна теперь спрашивала о Ершове и добавляла: «Если ваши отношения позволяют это, то передай ему привет…» Но, должен признаться, я все еще не мог решить, позволяют или не позволяют мои отношения с командиром корабля выполнить это поручение. Больше того – не все было спокойно на сердце.
Тем временем на лидере прошел слух, что Ершов оставляет корабль. Командир пока ничего об этом не говорил, но он стал напоминать человека, которого сжигает какая-то неотвязная, мучительная забота. Из своей каюты он почти не выходил. Бывал иногда на берегу.
Однажды по какому-то поводу мне понадобилось зайти к Ершову в каюту.
На столе перед ним были выложены пистолеты ТТ, парабеллум, еще какое-то огнестрельное оружие. Ершов разбирал и чистил его. Видимо, он только что принимал душ – на креслах белели сырые полотенца, китель был полурасстегнут, волосы влажны.
В углу стоял ящик с мандаринами – любимое лакомство Ершова.
– Ешьте мандарины, – предложил он мне. – Говорят, это очень полезно…
Слово за слово, от мандаринов, полезного для мужчины угощения, перешли к другим мужским пристрастиям, заговорили об оружии.
– У вас много оружия, – заметил я. – Не стол, а ремонтная мастерская. И все ваше?
– Все мое. Люблю оружие. Но мне сейчас оружия не хватает.
Я не сразу понял его. Ершов усмехнулся.
– Не могу же я завтра выйти на «Скифе». А это только Визе считает, что мне все равно – командовать ли кораблем, выступать ли на ринге, – и при этом Ершов выставил перед собою оба кулака.
Визе – старший помощник командира – любил иногда пустить шпильку в Ершова, хотя дружили они довольно коротко и искренне.
Как-то уже по приходе в Севастополь я заговорил с Визе о Ершове, о его энергичном, настойчивом стиле борьбы. Визе усмехнулся:
– О чем бы говорите? Какой там стиль! Вы, кажется, склонны приукрашивать. Я вам раскрою секрет: дело в том, что у Ершова в Одессе есть симпатия, старая, так сказать, любовь. Ершов выходил на обстрел и был уверен, что эти глазки наблюдают за действиями «Скифа» с бульвара… Мы с Назаром Васильевичем хорошо знаем друг друга. Он по призванию боксер, но притом неврастеник в высшей степени. Человек, однако, для войны нужный. Такие нужны, очень нужны! У него есть злость, чего пока еще многим не хватает. А что касается стиля, так, повторяю, все это от потребности петушиться.
Визе как будто собирался развивать эту тему, но я поспешил замять разговор. Случайное замечание Визе, однако, долго меня занимало.
«Как же все это так, – думал я, – казак… мотоциклист… боксер… неврастеник… А моряк? И насколько прав Визе?»
Ершов продолжал сидеть передо мной, выставив кулаки, как академик Павлов на известном портрете.
Перехватывая мой взгляд, Ершов сказал:
– Был бы я боксером, может быть, мне и хватило бы кулаков, а на флоте единственное стоящее дело – командовать кораблем. Если не рассчитываете быть командиром корабля, то лучше и не служите. Как ваши нервы?
– Ничего, нервы в порядке.
– Очень важно иметь крепкие нервы. Крепкие нервы на мостике нужны не меньше, чем на ринге… Вот! Холодные обтирания. Мандарины и обтирания – помогает…
Я уже собирался было заговорить о Юлии Львовне, передать ее привет, когда это неожиданное признание, неприятное своею несколько циничной откровенностью, остановило меня.
Больше никогда Ершов со мною так не разговаривал.
«Человек, нужный для войны…» – это была интересная мысль, но она еще не объясняла всего. Вскоре, однако, представилась возможность яснее почувствовать в характере Ершова то, что Визе пробовал объяснить так резво и что матросам корабля удалось понять и выразить раньше других.
Обнажив днище, корабль стоял в Южном сухом доке.
Ремонтные работы не прекращались и ночью. И днем и ночью загорались над доком длительные молнии электросварки, гремели молотки клепальщиков.
Первые столкновения с воздушным противником показали, что огонь автоматических пушек недостаточен, нужна артиллерия, способная действовать на большие дистанции. Было решено снять противозенитную установку с одного из эскадренных миноносцев и установить ее на лидере.
Бойцы «Скифа» тоже взялись за молоты и кувалды.
Но что же командир? Мрачная сосредоточенность вдруг оставила Ершова, и в тот же вечер за ужином командир с нами распрощался. Как выяснилось, он подавал рапорт с просьбой на время, пока «Скиф» чинится, назначить его на какой-нибудь другой действующий корабль. И он получил назначение на эсминец, действующий в составе Одесского отряда поддержки.
Ершов снова имел в руках оружие по плечу и снова мог воодушевляться надеждой, что за его действиями наблюдают с бульвара, как съязвил Визе.
Командование кораблем было временно возложено на Визе.
Утром мой сожитель по каюте и поклонник Ершова, минер Либман, еще сквозь сон спрашивает:
– Вешнев, верно, что вместо Ершова Визе?
– Верно.
– Гм! А верно, что в сводке было названо Ленинградское направление? Что-то слышалось сквозь сон.
– Нет, не слыхал.
– Ну, слава богу! Можно еще поспать.
И в самом деле – все чувствительней закрадывалась в сердце тревога за Ленинград. Мы знали о драме перехода флота из Таллина в Кронштадт. Неужели о н и войдут туда? Еще никогда враг не ступал на эти проспекты и площади. Не может быть! Ленинград не может не победить.
В Ленинграде много друзей и родственников наших командиров. У Либмана там остался отец, и Либман говорит:
– В эти дни страшно оставаться одному.
Он это сказал за завтраком, и наш батальонный комиссар ему на это отвечает:
– Не может быть страшно среди народа. Наш народ громаден. Рождаемость увеличивается, и все живут для общей цели. Значит, не может быть страха. Не будет страшно и вашему отцу.
Интересно!
Удалось побывать на берегу и заглянуть в Музей Севастопольской обороны, где я рассчитывал застать начальника музея, моего приятеля. Его я не застал, но зато познакомился со сторожем музея, старичком, который в в прежние годы работал, как он объяснил мне, в «высочайше утвержденной фирме коммерческим корреспондентом», имел сто семьдесят рублей оклада и пользовался правом через день употреблять «горячие напитки» – коньяк, водку.
У старичка винтовка, но он боится ее, держится от нее подальше.
Для посещения музей закрыт. Вывозят.
С каким-то новым, особенным чувством я заглянул в залы.
Манекены – фигуры солдат Севастопольской обороны – раздеты. Усатые, смуглые, голые, они стоят в вестибюле с забинтованными ногами.
Вывезены знамена и флаги, вывезена шпага Нахимова. В залах еще возвышаются модели линейных кораблей «Силистрия», «Три святителя» – великолепные модели трехдечных кораблей, каждая величиной с телегу.
Старичок сторож и дворничиха развесили на реях стираные подштанники и юбки.
– А старший политрук скоро будет? – спросил я.
– Уехал на Фиолент договариваться о перевозке туда имущества.
Пришлось к слову – и дворничиха стала рассказывать мне, что из их псковской деревни с приближением немцев мужики угнали весь скот, и каждому человеку, будь то мужик, баба или ребенок, было что-нибудь поручено: этот отвечал за корову, другой за овцу. И благополучно перегнали весь скот.
Так, от случая к случаю, представляются нам картины сегодняшней жизни страны, взбудораженной войною: псковские колхозники с их мирными коровами, и этот воинственный, но быстро пустеющий дом-музей с манекенами солдат – прадедов псковитян, москвичей, украинцев.
Первое время среди горячих забот по ремонту корабля отсутствие Ершова не замечалось и, насколько помню, самый его поступок не одобрялся, скорее неприятно удивил всех, а некоторым даже очень не понравился.
– Нехорошо, невежливо, – ворчал, например, Сыркин. – Оставил корабль в такое время. Конечно, я понимаю, ходить по морю и стрелять – это веселее, чем стучать молотком по железу. Однако же это не я прозевал самолеты. Только и скажу: скиф!
По всему – наш ППС не мог забыть одесские неприятности.
Кстати сказать, оправдалось мое опасение встречи с девушкой Дорошенко. Я как в воду смотрел. Все так и случилось, как я представлял себе: именно мне суждено было первому из наших офицеров на ступенях Интернациональной у одной из колонн увидеть милую худенькую девушку с большим пакетом… Как долго она ждала здесь? Может, с раннего утра? Увильнуть невозможно, и эти минуты были, пожалуй, труднее, чем приближение к неприятельской батарее. Девушка шагнула ко мне навстречу с застенчивой, тревожной улыбкой:
– Здравствуйте, товарищ Вешнев!
– А… здравствуйте, здравствуйте!
Должно быть, и мой вид и это глуповатое ответное приветствие были достаточно красноречивы – девушка побледнела, ее глаза расширились.
– Ну, как вам плавалось? Как Павлик?
Сказать все у меня не хватило сил. Пакет перешел от нее в мои руки, и женщина удалилась с надеждой, что легко раненный Павлуша полакомится свежекопченой рыбкой и московской колбасой. Нет, это угощение не повредит ему. Ведь теперь самое главное – хорошо кушать.
Об этом случае я рассказал тезке покойного Паши Дорошенко – командиру электромоторной группы Павлу Петровичу Батюшкову. С первых дней моего плавания на «Скифе» Батюшков расположил меня к себе своим спокойным видом, благовоспитанностью и доброжелательством, светившимся в его взоре. И теперь он мне ответил:
– Да, это удивительное чудо – женщины! Читали в «Литературной газете»? Одна журналистка пишет: «Сделал ли ты все, что от тебя требуется? Оклеил ли оконные стекла полосками бумаги? Выбросил ли с чердака чердачный хлам?..» Не всякий начальник ПВО вспомнит эти мелочи. Милая женская заботливость! Да, мы должны быть благодарны им уже за одно то, что они в такие дни ходят по улице.
Заделка пробоин между тем заканчивалась.
Все ремонтные работы предполагалось закончить в первых числах октября.
Противник форсировал Днепр. Бои шли у Перегноя, на Тендре, на подступах к Перекопу, и не было уверенности, что части Приморской армии удержат перекопские позиции до прибытия резервов.
Ускорялась эвакуация Севастополя. Часть кораблей уже перебазировалась на Новороссийск. Свободные бочки сиротливо покачивались в опустевшей бухте.
И в один из таких дней пришло известие о гибели эсминца, которым командовал Ершов.
Эсминец конвоировал транспортные суда. Немецкие бомбардировщики, свирепствовавшие на коммуникациях, настигли караван, и эсминец, упорно защищавший транспорт, получил несколько прямых попаданий.
Раненого Ершова выбросило в воду. Не зная, кем занят ближайший участок берега, Ершов плыл с пистолетом в руке. Его и нескольких других моряков с эсминца подобрали наши посты. В Севастополь Ершов был доставлен на самолете. Все эти подробности моряки узнали, когда их командир уже лежал в госпитале.
На другой же день комендатура сообщила на корабль, что ею задержано несколько краснофлотцев со «Скифа».
Не добившись пропуска в госпиталь, матросы сиганули через забор, но тут были задержаны – и только потому, что не имели при себе противогазов.
Неудача не смутила моряков. Когда мне с несколькими командирами удалось посетить Ершова, то его палата была похожа на большой цветочный магазин.
Из-за цветов звучал его голос так же грубовато, как, бывало, из его каюты:
– Входите и рассаживайтесь.
Он казался смущенным.
Осунулся. Черный чуб лежал на побледневшем лбу.
– Раз-бум-били, – прогудел он, повторяя словечко Дорофеева. – Не везет. Один капитан третьего ранга мне уже сказал: «С тобою не плавал бы: подводишь хуже, чем под монастырь, – под самые бомбы». Может, теперь и вы не захотите меня. В общем, не везет…
А когда мы прощались, Ершов сказал, как бы утешая самого себя:
– Нет, далеко не уйдете. Все равно догоню в Новороссийске. У меня были матросы, я спрашиваю: «Зачем носите цветы? Разве это для моряка – носить цветочки и обкладывать ими командира? За что же это вы меня так?» – «А вот за что, – отвечают они. – Мы вам носим цветы не так, как барышням. Мы уважаем вас, товарищ командир корабля, за ваше беспокойство, за вашу злость».
И Ершов от удовольствия даже прихихикнул.
– Передаю, как было. Слышите: злость. После матросов я решил: с капитаном третьего ранга не соглашусь.
Этот визит в госпиталь произошел за день или за два до того, как «Скифу» предстояло вслед за другими кораблями эскадры менять базу.
Своими путями складывается у моряков мнение о командире. Не последнюю роль здесь играет ощущение боевого азарта, то, что матросы назвали беспокойством, злостью Ершова, и ощущение его удачливости.
Об этом обычно говорят мало, а это очень интересно: у матросов создалось, несомненно, выгодное для командира толкование его удачливости, хотя сам Ершов на этот счет держался как будто другого мнения.
Его прямота, и справедливость, неторопливая, несколько ленивая и сумрачная, но всегда неподкупная, тоже не могла не найти пути к матросским сердцам.
Наконец и под Одессой и у Тендры Ершов раз и навсегда утвердил в глазах моряков свою репутацию смелого человека.
Еще в те дни, когда краснофлотцы носили в госпиталь букеты, один из них, вернувшись, сказал мне, сверкая широкой улыбкой:
– Ничего не скажешь, могучий человек! Львиная кровь!
Такие слова лестно было бы услышать каждому. Сарказм Визе тут отступал. Признаюсь, мне хотелось бы безоговорочно согласиться с краснофлотцами, я чувствовал: так было бы для меня лучше. Но все еще что-то мешало мне, противоречило…







