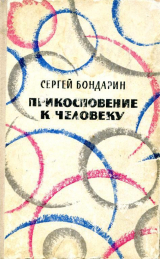
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
С ведрами в руках я все-таки попытался было пройти к пакгаузам, где когда-то помещалась квартира Стивки, – меня встретили выстрелы и матерщина.
Тут больше нечего было делать, а мне о многом нужно было переговорить со Стивкой. Многого я не мог забыть, и прежде всего – чувства вины перед ним. Всякий раз, когда я думал о Стивке, оживлялось это чувство. Все-таки было что-то нехорошее в том, как тогда – прошлой осенью – уклонился я от приглашения на серьезное и, должно быть, опасное революционное собрание.
Вероятно, поэтому, думалось мне, так недружелюбно отнесся Стивка к приглашению в наш кружок, так грубо обошелся с Зикой: зуб за зуб!
Но – Зика, Зика! Зинаида Константиновна Шишова! Вот какова она! Вот каковы мы все! И я снова слышу ее певучий голосок: «Мы никогда не изменим революции. Правда, львенок?»
В ту весну мы надолго расстались с Шишовой.
Как-то позже Боря прочитал мне письмо, полученное им от Зики, в письме было стихотворение, названное «Послание к друзьям»:
Город милый, город южный,
Слезы капают с пера.
Здесь ли мы семьею дружной
Проводили вечера,
Здесь ли мы на зов акаций
Выходили из ворот,
На манящий шелест платья,
На головки поворот…
Здесь мы пили и гуляли,
Ночью плакали тайком
И любовные печали
Утоляли коньяком…
Ты, Олеша вдохновенный,
Рыцарь маленьких актрис,
Почитатель неизменный
Золотых Фиордализ!
Эмигрант страны персидской,
Обрусевший в этот раз,
Милый Эдуард Багрицкий,
Как же я покину вас!
Все стихи и всех поэтов
Знающий наперечет,
О, объехавший полсвета
Этикетов звездочет!
Или со стрелой Эроса
Ты, всех женщин впереди
Розу нежную Пафоса
Возрастившая в груди;
Знаменитая певунья
И – за правду не сердись —
Ослепительная лгунья
Аделина Адалис…
У себя, на светлом юге,
Память к прошлому храня,
Вы бокал последний, други,
Подымайте за меня.
Осенью этого же года, заодно со стаями озябших галок, я стал носиться на тачанке по сырым степям Одесщины. Шла борьба за хлеб, за середняка, за незаможника. В этих тревожных сиротливых разъездах юному борцу против кулацкого засилья больше всего хотелось горячего борща и вареников. На селе все это было, и нужно только было уметь веселым бойцам продотряда расположить к себе хозяйку того или другого хутора.
За бескрайней черноморской степью, пахнущей разрытым черноземом паров и холодным ветром, за оврагами, поросшими будяками, за оврагами-ярами синел бандитский в ту пору Савранский лес. Там, в какой-то Лесной коммуне; на окраине большого полумолдаванского села, жила со своим мужем комиссаром Зика Шишова. В письмах к Боре она приглашала и меня навестить ее, но мне так и не удалось побывать за тем лесом: наш отряд отсекло начавшееся в районе кулацкое восстание, поддержанное немцами-колонистами. Полумолдаванское, полунемецкое село с длинным смешным названием Валегоцулово, как ни приманивало к себе, оставалось недосягаемым. Стыдно сказать, но мы и в самом деле едва унесли свои шкуры. Мы едва поспевали кормить коней.
На одной из коротких и беглых ночевок в степи, под вонючим кожухом, общим с чубатым молдаванином Костой, недавним бойцом отряда Котовского, я узнал то, что давно не давало мне покоя, – судьбу Стивки Локоткова.
Все началось с того, что измученный, усталый, сонный Коста Сахно вдруг пробормотал у меня над ухом:
– Ото повстання… повстання… а ей-бо, е разны повстання. А шо – не так? Вот ты грамотный…
Сахно был сам из Валегоцулова – каково же было ему чуять дым своего селения и не сметь войти туда! И он стал вспоминать о том, как в Одессе котовцам помогал повстанческий отряд в самом городе; он восхищался бесстрашием хлопцев этого отряда. Оказывается, там были и фабричные и грамотные – вроде меня.
Меня как обожгло.
– Коста, а не видел ли ты там такого хлопца? – И я описал Стивку: долговязый, но ловкий, белобрысый и веснушчатый, настырный, а главное – грамотно говорит.
– Помню, – лениво ответил Сахно. – Був такий: пегий и цыкавый.
– А как звали его, не помнишь ли?
– Степкой.
– Может, Стивкой, а не Степкой?
– А то ж! Точно, – даже обрадовался Коста, – Стивка! Помню его: длинный, а вставал во весь рост – хочь под пулеметом. Дюже грамотный. Как зачнет доказывать – все докажет.
– А в какой одежке? Сахно подумал:
– Шинелька юнкерска, что ли, тилько с обрезанными пуговицами.
Сомнений не оставалось. Волнение перехватило горло, но я собрался с духом и спросил:
– И что же с тем хлопцем?
– Та я ж казав: дрыгался, как скоморох. Перерезали его ингуши из пулемета.
– Где то было? – глухо спросил я.
– А когда брали офицерское собрание.
Я вылез из-под кожуха.
В небывалой тишине ночь равнодушно пахнула на меня дымком и промерзшими травами. Сахно тут же захрапел. Храпели на все голоса и другие бойцы. Всюду передо мной была неподвижная степь, а в небе неутомимо куда-то торопилась мутная луна. То и дело обдавало холодом глубокой осени. Но я не чувствовал холода и предложил караульному заменить его: дескать, поспи, а я покараулю.
Из лап кулаков мы вырвались.
Через год я опять был в этих степях. Но и на сей раз, когда по уездам стало спокойней и я уже в качестве землемера участвовал в распределении десятин в трудовое пользование между хлеборобами, – и на этот раз, хотя по-прежнему мечтал я побывать в Валегоцулове, в Лесной коммуне, в гостях у Зины Шишовой, – я туда не попал.
И вот прошла жизнь.
Я не пошел туда, куда звал меня однажды Стивка Локотков, я не побывал в Лесной коммуне, в первобытной коммуне начала двадцатых годов, зато в жизни случилось многое другое.
Может быть, и не стоит сожалеть о том, что в жизни случилось одно и не случилось другое? Умно ли это?
Может быть, и не умно. А все-таки воспоминание обо всем, что казалось возможным, заманчивым, стояло на твоем пороге – и не вошло, не свершилось, всегда отдается в душе человеческой болью.
Но что же делать, как быть, если, как нарочно, не только мимолетное, а случается и такое, что нельзя не вздрогнуть от силы воспоминания.
Вот передо мною легла только что прочитанная толстенькая книжка – повесть о трех мальчиках, таких разных и таких знакомых. Зовется повесть «Год вступления 1918». О чем книга? Почему такое странное название, что оно значит?
Передо мною рассказ о молодости моего поколения.
Тут я узнал всех – и детей и взрослых. Я узнал дачу с верандой над обрывом к морю, узнал хутора в синей новороссийской степи, прибрежный известняк и запахи песка и моря, говор птиц и людей, а главное – я узнал наши чувства… Зику Шишову – вот кого я узнал в этой книге.
Как я рад встрече! Может быть, к лучшему, что она состоялась не тогда, не в Лесной коммуне, а только теперь, после того как Шишова написала хорошие книги – о Колумбе, о Джеке-соломинке, мальчике английской революции четырнадцатого века. Встретились мы уже после того, как – в блокированном гитлеровцами Ленинграде – голодающая Зика создала поэму об осиротевшем в тридцать восьмом году сыне, которому мать желает отдать все лучшее, пробужденное войной и страданиями, все, чем владеет сама.
Хорошо, что мы встретились только теперь.
Это хорошо потому, что теперь на самом деле мы знаем поэтическую силу жизни и силу точного и доброго слова, знаем, чем сильны мы сами. С нами третий, незримый собеседник – память души, самая радостная, самая человеческая, – память о ее же собственной самой счастливой вспышке. Нет, мы не изменили тому, что посчастливилось душевно узнать нам в годы молодости!
Пускай наши дети знакомятся с молодостью отцов и дедов: перед ними не одна книга.
А вот чары этой книги для меня: я слышу сердечно-беспокойную Зику Шишову и точного и скептического Стивку Локоткова, первого героя моей жизни. Встретился я и с Борей Петером, о судьбе которого я так ничего и не знаю, но я помню, как любил Боря Зику – робко и почтительно; помню, как, едва дыша, повторял он стихи Пушкина о любви… Я-то знаю это!
Воспоминания еще раз подтверждают, как прекрасна была наша молодость, в какое неповторимое, как извержение, время она клубилась.
Я вижу: именно тогда – кроме всего, о чем я уже сказал, – мы приобщались еще и к мирозданию – приобщались ежедневно, еженощно.
Убежден, что тогда же, в ту пору, посватались души и воображение будущих писателей с их будущими героями. Уже тогда лопнула почка будущих произведений. Тогда началась повести о Гаврике из романа «Белеет парус одинокий», тогда началась сказка Олеши о трех толстяках, Багрицкий почувствовал первые звуки, первые слова Опанаса и комиссара Когана и девочки Валентины из «Смерти пионерки», а Зинаида Шишова раз навсегда согласилась со справедливостью замечания друга: пора, дескать, снять с головы золотую байду – сняла и улыбнулась первой мысли о Стивке – мальчике русской революции двадцатого века…
Помните ли вы, Зика, что сказал однажды наш общий друг, соучастник нашей общей юности – Юрий Олеша?
«Ведь это же и есть сила искусства – превратить материал одной жизни в видение, доступное всем и всех волнующее».
ЛАКТОБАЦИЛЛИН
Очень заманчиво еще раз пережить то, что случилось с мальчиком Андрюшей полвека тому назад.
Что же это было?
Был папа – малоразговорчивый, печальный, скорее даже хмурый, педантично-чистоплотный папа.
Был лактобациллин.
Была в большом и веселом южном приморском городе большая новость – сельскохозяйственная выставка, то есть на аллеях знаменитого парка с клумбами роз и на пустырях, оставшихся невозделанными, вдруг, как в опере-сказке, однажды возникли нарядные павильоны, кафе, кондитерские, фонтаны.
На выставочных стендах было роскошно представлено изобилие самых разнообразных товаров, как выражался Андрюшин папа, «все изделия рук человеческих». Всё, всё, чего только пожелаешь: и конфеты Абрикосова, и консервные изделия фирмы Фальцфейн, и орудия рыболовства, и сельскохозяйственные машины на тяжелых колесах с красными спицами. Люди узнавали, а вместе с ними и Андрюша, что чай – это не только стакан, обжигающий губы, а целый цветистый мир: пачки всевозможных чаев в упаковках с изображением верблюжьих караванов и золотистых китайцев в халатах наполняли легкие, как тот же китайский зонтик, изысканные павильоны. Смешиваясь с запахом роз и табаков фабрики Месаксуди, распространялся по аллеям чайный аромат.
Гирлянды золотых медалей, символ Гран-При, украшали вывески колбасника Дубинина и пивовара Санценбахера, а их витрины соблазняли розоватым младенческим жирком окороков, пушистой пеной свежего холодного пива. Но особенно выделялся павильон, воздвигнутый в виде утеса с длиннорогой горной козой на вершине. Это была марка коньячной фирмы. Русское общество пароходства и торговли – РОПИТ – выставило всем напоказ целый пароходный нос с золоченым бушпритом.
Андрюшка часами простаивал перед точными моделями новейших пароходов и рельефными картами Греческого архипелага.
В вагоне-кинематографе стрекочущий аппарат показывал видовую картину, а в это же время под ногами что-то рокотало, как поезд на ходу.
Можно ли было не отведать очаковских раков и херсонских баклажанов в пятиэтажном ресторане-самоваре! Отсюда, с верхней площадки, изображающей самоварную конфорку, открывался вид на море.
Было, было что посмотреть в витринах, кого послушать на летних эстрадах, чем насладиться в кафе Квисисана, щеголяющем последней новинкой – автоматом, выбрасывающим готовые пирожки.
И Андрюшке не хватало дня обежать все бесчисленное множество здешних чудес и приманок.
После знойного дня с моря тянул легкий бриз, а от оркестровой раковины неслась упоительная увертюра Россини. Толпы счастливых людей, фланируя по гравию аллей, все еще радовались, удивлялись, блистали нарядами и остроумием.
Радовался и Андрюша. Выставка сломала прежнюю незамысловатую мальчишескую жизнь. Но мог ли он поверить, что еще не такие события ожидают его. Недаром, видимо, еще в ту пору, когда в доме у Андрюши все было в порядке, была и мама, иные льстивые дамы любили восхищаться «складненьким» черноглазым мальчиком, говорили, что Андрюшу ждет необыкновенная судьба. Андрюша никогда этого не понимал, хотя и желал быть полководцем, адмиралом или таким гонщиком и авиатором, как его тезка, кумир городских мальчишек – Андрей Ефимович Чаркин.
Теперь Андрюша и его друг Стивка ежедневно дышали воздухом необыкновенных свершений.
Дело в том, что на выставке, кроме всего главного, был папин павильончик – «Лактобациллин». Андрюша сразу подружился со студентами, исполняющими роль контролеров. Стивка же, Андрюшин закадычный друг, был мальчиком из Крепости и поэтому вообще не нуждался в постоянном пропуске – его и так знали. Стивка давно был знаменит в этом районе парка, где территория выставки граничила с Крепостью, поселком, выросшим в стенах старой турецкой крепости. Толстые почерневшие стены с круглыми башнями сбегали по обрыву чуть ли не до самых портовых пакгаузов. Из полузасыпанных оползнями казематов веяло таинственной сыростью. Где-то здесь же были входы в лабиринт подземных катакомб, и, разумеется, нельзя было представить себе более привлекательных мест для игры в казаки-разбойники, для воображаемых похождений Ната Пинкертона и Ника Картера.
Романтическая просвещенность Андрюши Повейко была признана здесь самим Стивкой, и Повейко считался тайным атаманом всех мальчиков из Крепости. Его идеи всегда охотно и беспрекословно исполнялись. Но в делах, требующих дерзости, силы, практической смекалки, действия, а не размышления, неизменно главенствовал Стивка, от которого всегда разило либо чесноком, либо луком.
Крепость была известна даже среди аристократов и богачей. В стенах турецкой старины пристроилось новейшее голубиное стрельбище. Это стрельбище считалось такой же примечательностью города, как яхт-клуб или ресторан Квисисана с автоматом, выбрасывающим пирожки. Сюда съезжались на пролетках, верхами, на велосипедах, а то и на автомобилях элегантные мужчины и дамы в охотничьих костюмах, шумели, смеялись, пили пиво, ели мороженое и стреляли по голубям. Стивка и был, между прочим, как раз тем бесстрашным мальчиком, который откидывал крышки клеток и прутиком шевелил птиц. Голуби, сверкая, взлетали, гремел выстрел, другой, третий, и подстреленная птица падала, а Стивка успевал ловко подставить кепочку. Это очень нравилось охотникам.
Мало того, что Стивка таким образом собирал битую птицу для своей мамки, белозубые и веселые молодые люди после охоты щедро угощали Стивку то мороженым, то сельтерской водой с сиропом. Иногда перепадал и серебряный пятачок.
Бывал на стрельбище и Андрюша. Но это дело ему не нравилось. Он не соглашался стать рядом со Стивкой к клеткам. Почему? Он никогда толком не объяснял этого Стивке, и Стивка считал, что его приятель боится попасть под выстрел, однако эту слабость он дружески прощал. Андрюшка не спорил и предпочитал бегать со Стивкой в порт или на скалы ловить бычков. Но в последнее время, на удивление Стивки, Андрюшка что-то зачастил в Крепость и всегда пристраивался к той компании стрелков, в которой безраздельно царила маленькая гречанка Фина. Было известно, что она дочь покровителя спортсменов, банкира Ангелиди. Случалось, с молодыми людьми приезжал и сам банкир на громадном сверкающем бенце.
Фина была любима не только отцом, не только подругами, она была желанной и на теннисных кортах, и в яхт-клубе, и даже в цирке Чинизелли, где дружила с укротительницами и воздушными гимнастами.
Скажем тут же и прямо: ради встреч с этой легкой, быстрой и приветливой девушкой зачастил в Крепость Андрюшка. Чуть ли не каждый вечер он сбегал теперь от чар выставки из своего павильона «Лактобациллин». Вопреки обыкновению, он не зазывал Стивку на камешки или в порт, куда прибыли новые грузы кокоса, но оставался на стрельбище даже после того, как раздавался истошный крик Стивкиной мамаши: «Стивка, скоро ли ты, олух царя небесного, придешь кушать борщ? Сколько ждать тебя?» – и Стивка убегал домой.
Было необыкновенно приятно вблизи Фины. Тонко и нежно пахло от нее духами. Приятно было услужить ей, напомнить, где она оставила свой стек или маленькое ружье. Она стреляла вместе с другими, но, – это не без удовольствия заметил Андрюша, – стреляла всегда не по цели, а куда-то в сторону и сейчас же после выстрела быстро-быстро, не оглядываясь на испуганную стаю птиц, подхватывала Андрюшку и, смеясь, бежала с ним в буфет. Что особенно волновало Андрюшу, это кружение с нею на гигантских шагах. Это было упоительно. В полуседле, в полупетле, прикрепленной к высокому столбу на кружащемся диске, вы, разогнавшись, теряли под ногами землю, взлетали, неслись и опять, едва коснувшись ногами земли, с замиранием сердца снова кружились и взлетали. Во время этих полетов Андрюша воображал себя то Чаркиным, то царевичем, уносящим на сером волке царевну. Девушка, вся зардевшись, резвилась, закатывалась смехом и не раз говорила, что если бы ей предложили выбор – летать на воздушном шаре с Чаркиным или снова кружиться на гигантских шагах, то она предпочла бы Андрюшу.
Вся в белом, развевающемся, в розоватых ажурных чулках на стройных ножках – девушка летала не только на гигантских шагах, она и по земле не ходила, а летала, танцевала, а тонкое, голубовато-молочное лицо с китайскими глазами, со свежим улыбающимся ртом обогревалось детским румянцем. Но больше всего Андрюше нравилась ее прическа: черные с синим отливом волосы, заплетенные в косы, она обычно туго укладывала вокруг головы и закрепляла черепаховыми шпильками. Волновала воображение свободная легкость ее движений, прикосновений. Ее пальцы нередко пощекотывали невидимую самому Андрюше ямочку у него на затылке, всегда играли стаканом, стеком, Андрюшиным хохолком, и он с нетерпением ждал, чтобы этот хохолок поскорее отрос. Тревожно удивляла беззастенчивость, с какой девушка меняла на глазах у него маленькие красные лодочки на спортивные с замысловатыми вырезами сандалии, а после сеанса стрельбы опять с неизменной грацией и оживленностью она превращалась в барышню на высоких каблучках.
Почти накануне того дня, о котором, собственно, пойдет речь, ожидался приезд самого Мавро Ангелиди, и даже, как уверял толстый буфетчик Папондопуло, приедет Чаркин.
К этому времени всюду по городу распространились огромные афиши – красные буквы по белому полю:
«Анонс! 2 июля на территории Всероссийской сельскохозяйственной выставки состоятся полеты знаменитого гонщика-циклиста и всероссийски известного авиатора Андрея Ефимовича Чаркина на аппарате тяжелее воздуха (аэроплан типа «фарман»). Авиатор возьмет с собою пассажира».
Удивительно ли, что на стрельбище оживленно ждали появления гостей. Даже Стивка и тот нервничал. Андрюшка помогал ему рассаживать голубей по клеткам, а буфетчику Папондопуло укрепить над столиками белый с голубыми полосами – цвета греческого флага – парусиновый тент.
Весь город жил ожиданием полета. Уличные мальчишки, лучше других знакомые с тем, что отличает двуплоскостной «фарман» от аэропланов-стрекоз типа Блерио или Вуазен, теперь спорили: кто и куда полетит с Андрюшей Чаркиным? Что касается Андрюши Повейко и его друга Стивки из Крепости, то им как будто повезло больше всех: упорно поговаривали, что для взлета намечена площадка, обращенная к морю и расположенная чуть ли не рядом с павильоном «Лактобациллин».
Андрюша радостно представлял себе, как обо всем этом он потолкует с Финой, и он решил предложить девушке (если, конечно, Фина пожелает) прийти к ним на веранду павильона, откуда все будет хорошо видно.
Действительно, во главе компании приехал Мавро Ангелиди.
Рядом с лакированным кабриолетом верхом на рыжей кобылке гарцевала Фина – в черном котелке, в ловко сшитых брючках-рейтузах и сапожках. С первого же взгляда Андрюшу озадачила какая-то непонятная, но резкая перемена в облике девушки. В чем дело? С тростью в руке она умело спрыгнула с седла, увидела Андрюшу, тут же игриво сделала ему большие глаза, перебросила трость, перчатки, воскликнула:
– Андрюша, смотри на меня: фокус! Раз, два, три… Цирк Чинизелли!
Двумя пальцами быстро сняла свой котелок, и Андрюша обмер: мгновенно и совершенно Фина преобразилась. Перед ним стояла какая-то другая особа – рыжая, коротковолосая. Да, вместо черных змеистых кос, отливающих синевой и светом, вилась рыжая гривка. Всегда веселое, задорное, мягко-румяное личико стало другим.
Андрюша ничего не понимал.
– Не понравилось, – с искренним огорчением проговорила Фина. – Не думала…
Между бровей у девушки показалась морщинка.
Кто-то из молодых людей перенял у Фины лошадку, все обступили господина банкира. Общительный, моложавый, в модных оранжевых полуботинках «шимми» – Мавро Ангелиди что-то говорил, слегка картавя, о чем-то шутил, оглядывался по сторонам, ища дочь, но Фина уже упорхнула. Он, смеясь, сказал:
– Проказница! Афина перекрасилась ради полной солидарности с Чаркиным, с которым она должна лететь. Фокусница! Андрей Ефимович тоже собирался приехать, но знаете, как с ним! Черта с два! Вдруг говорит по телефону: «З-занят, готовлюсь к полету…»
В этот день Андрюша был поражен больно, как ему казалось, навсегда.
В этот день Андрюша на стрельбище не остался. Все оказалось напрасным: напрасно он тщательно выгладил свои новые брючки, напрасно принес любимое лакомство Фины – свежую розовую икру воблы, напрасно тщательно перетирал стаканы у дяди Папондопуло…
Он уходил, а позади уже хлопали напрасные и жестокие выстрелы. Это случилось в конце июня.
Утро второго дня июля было прекрасно.
Проснувшись, Андрюша сразу заметил: пахнет в окно пригоревшим у кого-то молоком. Это всегда считалось признаком хорошей погоды. Андрюшу торопил папа, вставший раньше обычного.
– Вставай, дружок, я сейчас уезжаю.
– Куда?
– Вчера говорил: на ферму.
Действительно, в последние дни папа был особенно угрюм и молчалив, его снедала какая-то важная забота, и вчера, когда Андрюша заговорил о необычайных новостях на выставке, отец обрезал:
– Да, все это очень важно и интересно, но готовься, дружок, расстаться с «Лактобациллином».
Почему? Что случилось? Больше нельзя было добиться ни слова.
Не первое расставание, а зачем? Ведь вот, как хорошо за окном, на дворе! Какой ясный и важный день, важный для обоих, хотя у каждого по-своему, хотя папе сейчас не до него. И раз у папы дела, значит, ничего уже не может отвлечь его.
Застегивая пряжки на сандалиях, Андрюша спросил:
– Едете с дядей Ароном?
– Да, Арон сейчас явится. Не забудь, Андрей, зайти к Штреземану. Оставляю двадцать копеек: пятачок на стрижку, остальное отдашь Марусе, купите горячих котлет.
– Ой, папочка, не забуду! – Андрюша с ужасом подумал о цепкой машинке парикмахера Штреземана, которая снимет хохолок, выращиваемый с таким нетерпением. Нет, ему хотелось думать о другом.
Мог ли, однако, это понимать папа, милый папа, требовавший неуклонного исполнения ряда правил: ежедневно съедать хотя бы одну баночку лактобациллина; после обеда вставать из-за стола налегке, чуть не доевши; следить за зубами, за ногтями, за чистотой обуви; своевременно стричь волосы под нулевой номер. Гигиена тела и души – об этом всегда только и думал Андрюшин папа, интеллигентный Александр Петрович. Его жизненной задачей с некоторых пор стала пропаганда лактобациллина, молока, заквашенного по способу профессора Мечникова. В этом видел Александр Петрович гарантию здоровья, долголетия, а может быть, спасение всего человечества. Для Александра Петровича это было очень важно, но дело шло плохо, очень плохо: павильон прогорал, и летели в трубу скудные достатки Александра Петровича, вложенные в дело.
Вообще наступали беспокойные времена. На берегах Средиземного моря и на Балканах беспрерывно возникали политические конфликты, шли войны. Люди переставали думать о самом важном: о прочности семьи, о здоровье детей. Безумцы кичились подводными лодками, минами, дальнобойными пушками, аэропланами, приспособленными для сбрасывания бомб, и толковали о каких-то губительных, как картечь, воздушных стрелах. Беззастенчивые выдумки проникали в городские будни. Чего больше! Например, всерьез говорили о том, что скоро все тротуары будут приспособлены для езды на роликах. Встает опасность, что люди отвыкнут ходить.
Слыша такие разговоры, Андрюша спросил:
– А как же будут переезжать через мостовую?
Папа на это не ответил.
– Андрей, не твоего умишка это дело, – сказал Александр Петрович, – ты вот, брат, лучше реши все-таки вчерашнюю задачу с двумя бассейнами и выучи до конца нагорную проповедь.
Так разговаривал с Андрюшей его папа, Александр Петрович, хотя сам едва ли сумел бы сказать, сколько лошадиных сил в моторе «Гном» – двигателе на биплане типа «фарман» или какого числа Чаркин совершил полет на воздушном шаре «Леру»? Едва ли папа Александр Петрович знал наизусть восторженное признание знаменитого воздухоплавателя: «Дикое настроение охватывает меня. Безудержность, восторг, новизна ощущения… Земля – враг. Другая стихия говорит своим молчанием – приди!»
Не нагорная проповедь из Нового завета, а эти пламенные слова вспоминались Андрюше в утро 2 июля, и меньше всего интересовала его парикмахерская Штреземана.
Душе было беспокойно: слишком важные и необыкновенные события начинались на выставке, чтобы поверить, что все вдруг пойдет прахом.
Уже вчера на лужок перед «Лактобациллином» на биндюгах и площадках для перевозки мебели по частям привезли аэроплан.
Уже вчера весь день Андрей Ефимович Чаркин работал на сборке аппарата со своими помощниками, и, разумеется, Андрюшка и Стивка быстро втесались туда же, в подручные, и к концу дня на площадке среди стуков и металлических взвизгиваний то и дело слышались желанные для мальчиков призывы:
«Андрюша, сбегай за водой». – «Стивка, держи крепче». – «Мальчики! Тащите элероны!» – «Что тащить?» – «Вон те крылышки», – споро объяснял огненно-рыжий, вспотевший на работе Андрей Ефимович. «Прекрасно, – приговаривал он, – лихо! Я знаю, дети любят п-порядок». Иногда свои приказания он отдавал в рупор.
К вечеру готовый к полету биплан воздвигся на площадке против «Лактобациллина». Солдаты из морского батальона прикрепили его канатами к столбам…
Огненный, веснушчатый Чаркин, прежняя белокрылая Фина с короной кос вокруг головы, как у королевы, быстрые солдаты морского батальона, шустрый Стивка, аэроплан, похожий на этажерку, – все это грезилось Андрюше ночь напролет, смешивалось, беспокоило и обещало радость.
И вот теперь ясное золотистое утро вливается в комнату. К запаху горелого молока примешивается запах прибитой водою земли: дворник поливает газоны из шланга. А соседка стучит секачкой – рубит баклажаны. На подоконнике тени листвы играют в пятнашки. Словом, все невыразимо хорошо.
Однако же, наперекор этой мирной правде, выражая свое приподнятое счастливо-бунтарское состояние, Андрюша бубнил: «Дикое настроение охватывает меня. Безудержность, восторг, новизна ощущений…»
– Что? – отрывисто спросил Александр Петрович.
Андрюша надменно повторил:
– Земля – враг. Хорошо бы открыть другую, новую землю.
– Понес свою чепуху, – горько усмехнулся Александр Петрович. – Ты вот что, дружок, запомни: в шкафчике брынза и гречишный мед. Завтракай и сейчас же отправляйся. Там сегодня, наверно, будет столпотворение, наплыв. Маруся одна не справится… Что же это запаздывает Арон?
Арон Моисеевич, верный поставщик молока для выделки лактобациллина, держал ферму. Туда они с Александром Петровичем и уезжали. Андрюша любил дядю Арона и любил иной раз прокатиться в шарабане, гремящем бидонами, до самой Дальницкой заставы, но сегодня было не до того, и он с нетерпением ожидал, как бы поскорее явился дядя Арон: с минуты на минуту мог раздаться призывный посвист в два пальца.
Наконец Арон Моисеевич постучал в дверь кнутовищем, Александр Петрович заторопился, листая свою записную книжку:-не забыл ли чего?
– Готов, готов, входите, Арон Моисеевич, сейчас поедем.
– Здравствуй, Андрюшечка, – ласково здоровается дядя Арон. – Роза прислала тебе пирожки и с повидлом и с вишнями, а у меня на шарабане новые шины. Чи не покатаешься? Александр Петрович – папа добрый, перечить не станет… А вы, Александр Петрович, все кумекаете? – и Арон тяжко вздохнул.
Папа надевает легкий картуз, говорит:
– Андрея не трогайте, ему пора в павильон – перемывать банки. Там, знаете, сегодня Ходынка – летает Чаркин, а ему еще надо постричься. Напрасно его балуете. Пирожками не объедайся…
Кому постричься, Чаркину, что ли? Какая такая Ходынка?
Вообще говоря, Андрюша любил эту работу – перемывать вместе с усердной официанткой Марусей банки из-под лактобациллина, складывать в ящики и отправлять к Розе, жене дяди Арона, на Дальницкую, где на большом дворе, выложенном диким камнем и полном голубей и кур, собак и навоза, в холодных погребах тускло поблескивают огромные бидоны молока и простокваши, изготовляемой по рецепту профессора Мечникова, – лучшее средство для жизнерадостности и долголетия, чего так желали всем людям и папа, и Вера Кирилловна, надзирающая за правильной закваской молока, и ее муж, доктор Кирик Менасович.
С этими идеалами не соглашалась только Андрюшина мама: поэтому она и покинула Андрюшу с отцом, сама переехала в высокий затейливый дом с зеркальными окнами к артиллерийскому офицеру Огонь-Догановскому… Сегодня, однако, Андрюша был далек от всего этого.
Уже раздался за окном Стивкин посвист.
Арон Моисеевич разгребал в шарабане сено, а папа, Александр Петрович, натягивал на свой чесучовый пиджак плотный брезентовый пыльник.
– Ничего, Александр Петрович, – ободрял его дядя Арон, – все будет по-хорошему. Не волнуйтесь. Я уж вас не обижу…
Стивка ждал в тени под платаном. Андрюша уже не слыхал, как папа крикнул с шарабана: «Смотри же, не забудь постричься».
У мальчиков начинался настоящий разговор. Стивка выпалил:
– Андрей Ефимович летит в Турцию! С Финой!
Андрюша не растерялся и, подражая отцу, сказал строго:
– Уже понес свою чушь. В Турцию – это же надо через все море.
– В Турцию – он сказал. А куда же им?
– Не в Турцию, а просто на тот берег, через бухту. Над водой лучше. Земля – враг… Бери пирожок, прислала Аронова Роза.
Откусывая сладкий пирожок и выковыривая пальцами вишни, Стивка уточнил:
– Значит, в Дофиновку.
– Эге! Там их будет ждать автомобиль.
– Досада, – вздохнул Стивка. – Все-таки лучше в Турцию. А высоко?
– Что высоко?
– Будут летать?
– За облаками.
– А если не будет облаков? Погодка хорошая.
– Неизвестно, какое небо будет тогда, может, затянет.
– А ты бы полетел? – спросил Стивка. – Наверно, сдрейфил бы.
Вопрос был неожиданный, и Андрюша ответил не сразу.
– Просто никто не звал.
Мальчики уже прошли улицу, последнюю трамвайную станцию и вошли в парк. Тут все было полно садовой утренней жизни. Свистели и чирикали птицы. Усиленно отдавали аромат цветочные клумбы, еще сохраняющие утреннюю свежесть и блеск утренней поливки. Тут тоже аллеи пахли песком, прибитым струей из шланга. Было безлюдно, наверху купы деревьев то здесь, то там вдруг приходили в движение, переговаривались целыми толпами: говорят одни, другие внимательно слушают, те окончили говорить, начинают говорить эти. И в тяжелых массах листвы, так же, как и на листьях цветов, блеск и сверканье, а мощные стволы платанов или тополей, освещенные проскользнувшим сквозь листву лучом, стоят молочно-голубые, по цвету почти такие же, каким бывает лицо Фины Ангелиди вечером при свете лампионов. Иные же стволы похожи на добрых медведей: толстые, мягкие, гладкие, такие, что хочется погладить, – стоят на мягких лапах. Хорошо! Так как же это: «Земля – враг»? Зачем кривить душой? Всё радует и томит.







