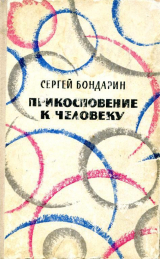
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
С утра позвонили по телефону и сказали, что ему лучше, можно больного навестить. И я решил вернуть ему книгу. Это был «Доктор Фаустус» Томаса Манна, последнее, что читал Олеша перед своей грозной болезнью.
Книга произвела на него большое впечатление.
– Прочтите ее, – настоятельно сказал он мне, – вернете не позже, как через десять дней.
А я уже просрочил…
По дороге я купил цветы.
У дома на Лаврушинском я встретил общего нашего приятеля Леню. Он шел на меня, как пьяный, и плакал. Едва ли он что-нибудь видел: стекла его очков были мокрыми.
Лысый, очкастый Леня – человек не всегда удобный. Но есть у этого человека и большие достоинства. Основная черта его характера – беспечность не по возрасту – помогает ему быть легким и веселым собеседником. Он всегда готов поддержать веселую выдумку, а главное – он навсегда предан духу романтики, конечно, насколько это доступно человеку немолодому, отцу семейства.
Прежде все это давалось легче. И немного сохранилось с тех пор.
Когда-то, давным-давно, этот человек за столиком кафе, где Олеша считался завсегдатаем, восторженно присягнул на верноподданность своему королю, обещал беспрекословное выполнение любого королевского повеления, но и награду потребовал немалую.
– Вы, Юрий, мой король, но вы и возложите венок на мою могилу. Согласны?
Король подумал и согласился. Больше того! Олеше игра понравилась.
– Согласен, – сказал он. – Что ж! Венок я вам принесу. Это награда вполне королевская. Торжественно возложу венок на вашу могилу. «Чем был знаменит этот человек? – спросят граждане. – Чем он так знаменит, что сам король возлагает на его могилу венок?» Над свежей могилой я произнесу речь. Я буду говорить: «Этот человек был неизвестен, но отныне он знаменит. Он будет знаменит своею верностью духу красоты. Вот почему я, король страны, где превыше всего ценится понимание прекрасного, возлагаю сей венок!»
– Но, конечно, – говорил Олеша в тот вечер за столиком кафе, – может случиться и не так. Может случиться, что не я принесу цветы на могилу верноподданного, а придет время – и вы все увидите меня мертвым в гробу, как видели уже многих… Придете ко мне домой, а я в гробу.
– Этого не будет! – воскликнул Леня.
– Короли не лгут, – отвечал Юрий. – Они иногда говорят то, чего еще не видят другие. Каждый владыка, властелин должен быть поэтом и пророком. Вы скажете, не всякий таков. С этим я готов согласиться. Но я хочу быть таким в стране, где управителями признаются только писатель и поэт. Я хочу быть королем-пророком… Вы вспомните, Леня, мои слова! Будет весна, деревья оденутся листвой… Вы думали когда-нибудь, какое это чудо? Думали ли вы о законах, по которым крупица вещества ищет и находит свое семейство и клетка объединяется с клеткой? Происходит созидание. Строится природа. Закипает жизнь. Она кипит в листьях и в стволе дерева, она кипит в наших телах… И вот опять что-то происходит… Один толчок… миг… Миг недопустимого нарушения гармонии, неисправность… Как вам нравится это слово: неисправность? И жизнь оборвана – смерть! Что это? К этому нужно готовиться всем. Об этом нужно думать. Отвечайте же мне: что это? Что?
На бедной кровати, какие чаще встретишь у студента, на кровати с темным одеялом и небольшой плоской примятой подушечкой, спокойно лежит густоволосый седой старичок с закрытыми глазами, с заострившимся носом и чуть-чуть скошенным на сторону ртом. У Юрия Карловича всегда была эта привычка – в раздумье или раздражении вдруг немного скривить рот, отчего еще заметней делался его твердый, выдающийся вперед, энергичный подбородок.
С утра Олеше действительно было лучше. Жена успела сказать об этом друзьям. Олеша даже что-то пел. Надежда окрепла. За время болезни он умирал дважды и дважды удавалось спасти его. Ему не сразу сказали, что у него трехсторонний инфаркт, но пришлось: он был очень неспокоен.
На дворе была весна. В окно заносило ее звуки и запахи. Больному очень хотелось видеть зеленевшие деревья.
Его смешили и раздражали усилия, какие принимались для его спасения, он видел в этом глупый педантизм и все повторял: «Зачем? Все произойдет, что должно произойти».
Но, говоря так, он умирать не хотел. После того, как ему сказали, что он опасно болен, он испуганно притих и сам стал педантично выполнять все, что от него требовали. Заботился, чтобы не иссякал запас кислорода, чтобы в нужную минуту все было на месте в нужном порядке, хотя и продолжал повторять: «Будет так, как должно быть».
Вошли санитары, обвешанные подушками с кислородом, – вызывалась неотложка… Больной наблюдал, а потом сказал:
– Они вошли, напоминая подводников. Накануне, может быть только вчера, они опускались в глубину океана. Я об этом напишу. Такая определенность жестов, быстрота и решительность бывает у людей в минуту большой опасности. Наверно, так бывает на подводной лодке в момент опасного маневра.
– Очень хорошо, Юра! Об этом обязательно нужно написать, – было радостно, что больной писатель захотел писать. – Но, может быть, это не подводники, а космонавты?
– Думаете, эти люди завтра летят за стратосферу, в космос? Нет, не хочу, этого, не надо, пока еще нужно лететь через Ла-Манш, как в годы моего детства, вокруг света… Ведь и это поражает воображение!
Дважды удавалось возвратить его обратно к людям, вернуть ему дыхание.
– Смотри, какой ты крепкий, – успокаивала его жена. – Смотри, какая у тебя крепкая грудь, какая хорошая, крепкая кожа… Нет, ты не похож на дряхлого, который вот-вот может распасться.
И вот вдруг что-то случилось.
– Мне нехорошо, – сказал Юрий и откинулся на подушку.
Привстал, опять вдохнул – и перестал дышать.
Что же случилось?..
Это произошло без десяти минут двенадцать, почти в полдень.
Солнце стояло высоко.
«Вы увидите меня мертвым. Придете ко мне, а я в гробу».
И вот мы стоим сначала за дверью, за которой лежит мертвый Олеша, а потом – у его постели.
Блерио перелетел через Ла-Манш.
Я прижимаю к груди книгу, последнюю из прочитанных Олешей. Букетик цветов в моих руках развалился. Верноподданный несчастный лысый человек весь в слезах, что-то ищет, делает какие-то странные жесты, мокрые очки свалились с его длинного покрасневшего носа. Наконец он нащупывает у меня в руках цветы, берет несколько цветиков и кладет их на мертвые руки Олеши.
– Короли не лгут, – бормочет он. – Короли должны пророчествовать. – И с горьким упреком, с отчаянием восклицает: – Юра! Юра! Зачем вы оказались пророком и на этот раз!
Что же это случилось? Недопустимое нарушение гармонии, неисправность – и жизнь оборвана. Кипение мгновенно прекратилось. Мысли больше нет. Нет игры – смерть.
Опять ушел человек – ушел поэт, успокоились и эти губы…
Опять напрашивается мысль, высказанная Пиндаром: губы поэта в молчании сохраняют форму последнего сказанного слова.
Вглядываюсь в безмолвного Олешу, над которым склонилась Оля Суок, его жена, – поправляет его сухие, серые волосы, поглаживает пальцами холодные губы, – и снова вспоминаю ту встречу, когда Олеша сказал мне:
– Будем желать того, что Дон-Кихот желал для себя. Помните? Пусть люди говорят обо мне так, как того требует душа.
ПОЭТ
В молчании поэта губы сохраняют форму последнего сказанного слова.
Пиндар
В давние времена кабардинские владыки-уздени любили отмечать свои родовые и семейные события хорошей песней. Человек, умеющий сложить песню, весьма почитался, и его дар оплачивался щедро: кекуако – певец или сказитель, понравившийся заказчику, мог потребовать за свою песню добрую лошадь, или полсотни баранов, или тысячу рублей денег.
При появлении кекуако каждый кабардинец оглядывал себя и оправлял одежду: кекуако мог подметить какую-нибудь небрежность в одежде, неловкость всадника в его посадке, и тотчас же неряха был бы осмеян. Острого слова кекуако опасались и родовитые владыки, и богатые скотовладельцы, и молодые девушки. Даже муллы и те остерегались вольнолюбивых кекуако.
Существует рассказ о споре между муллой и кекуако:
«– Ты человек вредный, – говорил мулла, – вредный потому, что не признаешь религии. Таких, как ты, нужно гнать из страны или убивать.
– Нет, не меня, а тебя надобно выгнать, – отвечал кекуако. – Ты находишься за пределами добра, а следовательно, и вне религии. Ты с нетерпением ожидаешь смерти человека, дабы поживиться на его похоронах. А мы, кекуако, любим жизнь. Мы из труса делаем храбреца, вора превращаем в честного человека. Мошенник избегает попадаться нам на глаза, а безмолвно зовет нас всегда тот, кто заслуживает быть воспетым…
– Ты говоришь о религии, – изумился мулла, – это интересно! Что же ты считаешь зерном религии?
– Просяное зерно. Просяное зерно – основание религии. Вот мое мнение, – отвечал кекуако».
В те времена кабардинцы сеяли ячмень и просо, другого хлеба не знали. Следовательно, смысл ответа таков: духовного почитания заслуживает только источник благополучной жизни – возделанное зерно, человеческий труд.
Другой кекуако выразился так:
«Каждый поэт рождается с зерном любви. Это и есть зерно хорошей религии».
В таком же духе отвечал и старик Бекмурза Пачев, когда гости спросили его, о чем любит он говорить в своих песнях.
– Я люблю жизнь, – отвечал Бекмурза. – Я люблю веселие, сытость и сердечность людей. Но мне долго не удавалось сочинить счастливую, веселую песню, потому что мой народ не был счастлив.
Может быть, вам это покажется странным, – продолжал Пачев, – а начал я сочинять песни по тому поводу, что был обвинен в воровстве. Меня обвинили в краже коня. Жестокие, неосторожные люди! Молодой человек еще только начинал жизнь. Он с нежностью наблюдал полет пчелы, прислушивался к писку цыплят, а они схватили его и поставили перед судьей. С сильно бьющимся сердцем я сказал судье и обвинителям все, что закипело в нем, в молодом сердце, это была первая накипь гнева и порицания. Меня хотели судить без вины жестокие люди, прислужники бесправия, хищники и лицемеры, но я сам осудил моих обвинителей за их бесчеловечность. И я продолжал судить их в своем сердце. Это был самый строгий суд, и это стало поводом для моих песен. Человек, который должен бы петь о любви, заговорил голосом ненависти, а добро и любовь я находил у их источников, среди бедных, простых людей, живых силою своего труда, голодных красотою, а красоту я находил в звуках нашего языка. И в народе начали уважать меня. Я умел видеть при этом и лесть и зависть, ибо и то и другое было неотъемлемою чертою владык, – коварство, лицемерие и опасливость. Каждого, кто несколько возвышался над остальными, старались подвергнуть насмешке, унизить, если он был слаб, но льстили ему, если он был силен, и всегда хотели ударить и отсечь его, как иногда путник сбивает палкой колос, возвысившийся над другим. Певец получал клички, которые нельзя повторить в присутствии женщин. Но самое обидное было не в этом. Самое обидное в том, что если не могли оскорбить меня самого, то старались оскорбить мою мысль, мою речь, и это делалось тем чаще, чем совершеннее становились мои песни, чем полнее понимал я красоту языка. Но в сознании этой красоты я и находил свое утешение. Я начинал чувствовать, что слово не только способно вонзиться, как крепкий коготь, – слово взрывает, как бомба. Силу языка я чуял в поговорках и пословицах. Я накапливал эту силу, вбирал ее в себя. Собрать и сохранить слово народа было не менее нужно, чем сохранить свою песню. Но как?
Бекмурза придвинул к себе небольшой, но складный чемоданчик, обыкновенный дорожный чемодан с металлическими застежками, каких много в любом городском магазине, и открыл его. Затаив дыхание, мы привстали, заглянули под крышку чемодана. Что там? Какое сокровище? Ящик был заполнен кипами бумаг. Бекмурза, приседая ниже и ниже, молитвенно сложил руки, опустил глаза, совсем затих, склонился. Бумаги шуршали от прикосновения зеленоватой его бороды. Чистыми белыми руками Бекмурза перебирал бумаги, из-под рукава бешмета выглядывал край чистой белой сорочки.
Старик всматривался и щурился. Лицо его становилось все печальней.
– Что пользы от всего этого! – с незабываемым выражением грусти сказал он. – Что пользы, если никто, кроме меня, не прочитает… Попробуйте!
Листы бумаги были непонятно изузорены.
Печально улыбаясь, старик рассказал историю своей грамотности.
Дети крестьян и бедняков-скотоводов обучались в духовных школах медресе, но никто из самых грамотных не слышал, чтобы на бумагу записывались песни и пословицы. «Зачем это? Арабская грамота знает только духовные книги», – так говорили Пачеву грамотеи.
«Мало тебе кощунства в песнях, ты хочешь еще кощунствовать в книгах», – отвечали Пачеву муллы, когда он спрашивал их, нельзя ли сделать как-нибудь так, чтобы песни удержались на бумаге, как удерживаются арабские стихи Корана, и высокомерно отворачивались от греховодника.
И тогда Пачев приступил к тому, что уже было достигнуто прежними поколениями, – он начал сочинять письменность. Прислушиваясь к произношению отдельных слов, он вскоре понял, что слово состоит из отдельных звуков. «Рубль, – произносил вслух Пачев. – Один рубль… два рубля… пять рублей…» Одно и то же слово изменялось с переменой его значения. Было подмечено и другое: «шел», «вел», «мел» – слова, близкие по произношению, имели разный смысл. Так был обнаружен первый закон языка – звучание, составляющее элемент слова. «А», – произносил вслух Пачев и отыскивал обозначение этого звука в арабском алфавите. «Т», – говорил он и находил букву. «У», – заканчивал Пачев и составлял слово «ату» – «отец». Разложенное на отдельные звуки, слово собиралось заново, но теперь оно собиралось навсегда, закрепленное на бумаге значком, и это было радостно.
Когда выяснилось, что звуки кабардинского языка не укладываются в арабский алфавит, Пачев начал изобретать самостоятельные обозначения, взявши в основу арабские буквы. Получилось сорок четыре знака.
Дальше началась запись: все песни, которые поэт признавал достойными жизни, он записал с помощью своего алфавита. Стал записывать народные изречения.
Все лучше узнавал Пачев народ и народные нужды, все более страстно хотел он раскрыть сокровища родного языка и через это учить народ красоте и достоинству. Он ходил по всей стране. Его знали всюду. Владыки и богачи отводили ему почетное место за своим столом. Это кормило поэта, но наряду с заказанными песнями Бекмурза составлял песни, в которые старался вложить любовь к народу и тонкое знание языка. По-прежнему его мечтой было сочинить счастливую песню. Но это ему не удавалось долго.
Первую счастливую песню он начал сочинять в 1919 году, когда душа его ликовала, как солнечное утро, и с тех пор все события и мысли, достойные этой песни, он вписывает в свои тетради изо дня в день. Эта песня-поэма названа «Ленин, или возвращенная Кабарда»:
Не очень много было нам дано,
Мы рождались подневольными.
Но где-то в глубине души
Сохранилось воспоминание
О том, что и мы, чувяшники,
Знавали иную поступь…
Еще Лиоан и Джабы,
Кабардинские мудрецы,
Предвидели и возвещали время,
Когда чувяшники восстанут
Против сафьянников…
И вот метнулась молния времени,
Борьба предрешена,
Хотя рождались вы властелинами,
А мы – только рабами…
Кабарда возвращена народу.
…Бумага выпала из рук старика. Мы слушали, сидя вокруг стола, за плоскими белыми чашами, наполненными белым холодным айраном.
Старик отряхнулся; встал и огляделся, снял с рукава бешмета пылинку. Его смущала будничная его одежда и то, что дом не приготовлен для приема гостей.
Дверь чистой комнаты оставалась открытой, куры кудахтали у порога, за дверью сиял июль, и вдруг в этом сиянии дня-что-то золотисто вспыхнуло большой искрой – должно быть, пролетела пчела… За нею – другая.
Из тетради, синей школьной тетради, куда записывалось продолжение поэмы «Ленин», старик вырвал листок бумаги и взял перо. Склонившись к столу, сжимая ручку с пером и нацеливаясь, как бы для того, чтобы проколоть бумагу, он приготовился что-то писать и поглядел на нас. Долго он смотрел на нас, что-то обдумывая. Мы почтительно молчали, и вот старик начал выписывать причудливые значки. Из-под рукава выбился край сорочки, Бекмурза не замечал этого.
– О чем ты пишешь? – решился спросить один из нас.
Старик не отвечал.
Но, кончив писать, Пачев пригладил бороду с невидимой тыльной стороны, обвел глазами гостей, как бы избирая одного из многих званых, протянул листок и перевел записанное.
– «Я творю пятьдесят четыре года, – слово за словом переводил взволнованный старец. – Я знаю теперь жизнь пчел, голоса природы и своего сердца. Я написал о Ленине и о Кабарде, но мои произведения глохнут, слепнут и тонут, исчезая, как пена в своем потоке. О нет! Я не могу согласиться, что я вреден, – много добра я чувствую в себе! Почему же все еще так робко меня призывают? Я вздыхаю. Чаще следовало бы мне петь свои песни вслух, а другим слушать. Поет душа моя, а я молчу. Почему? Песня внушает прекрасное, и вот я говорю, недоумевая: «Как же это так? Умру – и никто не сможет возобновить звуков моих песен…»
После этого разговора Пачев умер.
Замысловато изузоренный вдоль по детским линейкам листок бумаги я свято берегу – все, что еще в силах извлечь звуки нескольких слов из кипы бумаг и тетрадей, исписанных поэтом… Да кто его знает, вернее всего, не сохранилось уже тех бумаг.
Великий поэт! Душа живая! Каким добрым и печальным запомнилось мне твое лицо, скорбная складка чистых губ, когда стоял ты, склонившись над трудом жизни!
ВОСХОД И ЗАКАТ
Мы вышли в путь еще до рассвета, чтобы с вершины горы полюбоваться восходом солнца, но, подымаясь в гору, не рассчитали…
Уже давно рассвело. Мир стал вполне отчетливым, и до вершины было уже совсем недалеко, когда вдруг из-за края горы выступило солнце. Мы продолжали всходить. А солнце остановилось. И показалось нам, что оно, еще не вполне оторвавшееся от края горы, совсем-совсем близко от нас, – вот сейчас взойдем на самый гребень вершины и просто станем рядом с ним. Ну, скажем, как всадник становится рядом с конем.
Эх, успеем ли?
Далеко за снежным полем садилось солнце.
Мы наблюдали это из сосновой рощи, из-за высоких, оголенных, багровеющих стволов.
А там громадный круг, пламенея, становился как бы жидким, его очертания теряли свою отчетливость, зыбились, все безудержнее отдавая пламя и сияние всему окружающему миру – и соснам, и снежному полю, и узеньким на небосклоне облачкам, и всей запредельной ужасающей бездне…
Глядя на это страшное чудо красоты, я почувствовал, что начинаю постигать что-то для себя новое. «Вот, – как будто хочет сказать мне солнце, – смотри и помни, какой я есть. Слишком часто вместе с другими забываешь ты об этом, о моем оке, о моей власти и красоте».
А еще острее было ощущение того, что при всей своей огромности огненный шар солнца, неистощимо разливаясь, уходит, исчезает за полосой земли – в отдаленности уже совершенно непостижимо огромной.
МИЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ
1. Хлеб.Девочка купила в булочной калачик и теперь торопилась домой с хлебцем под мышкой. Она бежала через мостовую.
Ехал тяжелый грузовик. Девочка испугалась и выронила калачик. Повернувшись, она остановилась у панели, с ужасом наблюдая, как тяжелые, широкие колеса грузовика катятся на хлебец. Белый-белый – он лежал посреди мостовой. Девочка, а с нею несколько-прохожих, сочувствующих ей, не сводили глаз с калачика, присыпанного мукой, и с грузовика: неужели раздавит?
Переживая эту сценку вместе с другими, я – странное дело – вдруг вспомнил вот что.
В двадцатом году я однажды получил паек – полбуханки хорошего ситного хлеба. Я работал далеко за городом, и домой нужно было идти пешком часа четыре. Я не ел хлеба и накануне, но мне очень хотелось донести свои полбуханки домой нетронутыми – так уж красив был этот хлеб с его лакированной корочкой, так уж я был тщеславен…
Я шел домой, хотелось есть, и в голове шумело, но я крепко держал хлеб – в ту пору случалось, что съедобное выхватывали из рук среди бела дня.
Я благополучно прошел свой путь, до дома оставалось уже квартала два, когда, вознаграждая себя, я решился отломить от корочки, положил кусочек в рот, стараясь сосать корочку, как леденец, как можно дольше, и тут меня встретил один знакомый молодой человек. Я растерялся, как мог бы растеряться от преступного покушения.
Этот молодой человек со странно чуть-чуть примятым носом на румяном лице, как будто кто-то взял этот нос двумя пальцами и осторожно искривил его, в пенсне, в цветистом, входящем тогда в моду галстуке, – молодой человек высоко держал голову и выглядел задорным и надменным.
Я с ним не был близко знаком, но там, где мы встречались, он слыл насмешником; все побаивались его меткого словца.
И вот этот молодой человек, при виде которого, казалось мне, мог побледнеть самый развязный одесский конферансье, сейчас шел навстречу. О да! Я предпочел бы сейчас не держать в руках идиотской дырявой тетиной корзины с двумя метрами бязи для подштанников, пачкой махорки, куском сырого мыла и полдюжиной недозревших помидоров и даже – моей буханки… Ну и вид должен быть у меня!
– Здравствуйте! Откуда идете? Что у вас в корзине?
– Здравствуйте! – суетливо отвечал я. – Читали Пьера Бенуа? Вот искусство фабулы. Какая фантазия!
– Пьер Бенуа, – сказал молодой человек. – Конечно. Нам по дороге.
Мы сделали несколько шагов, и, покуда я придумывал, как продолжать разговор, мой спутник, не глядя на меня, сказал:
– Дайте хлеба.
Я даже остановился.
Посмотрев на него, я увидел, что он очень худ: выдавшиеся скулы с легким румянцем и толстые губы.
Под стеклами пенсне блеснули веселые глаза, и я увидел улыбку толстых, сухих, желатиновых губ с пятнышком, как от укуса, простодушную и немного смущенную, совсем не такую, какой казалась его улыбка издалека. А главное, так непосредственно было это «дайте хлеба», несколько отрывистое от смущения, что я, не размышляя, с силой отломил от своей аккуратной полбуханки ломоть и отдал его спутнику.
– А вы, – спросил он, – почему не едите вы?
– Ничего. Я уже ел, – отвечал я, стараясь пригладить поврежденную мякоть хлеба.
Он посмотрел на меня, на растерзанные полбуханки и отломил от своей доли половину.
– Ешьте, – отечески сказал он. – Этого хватит обоим.
Мы шли, ели и задушевно болтали – не об африканской экзотике Бенуа, а о наших, своих, домашних, юношеских делах, которых оказалось достаточно.
– Отломлю еще, – сказал я, когда мы кончили есть.
– Нет, нет, – очень серьезно возразил молодой человек. – Мы и так изуродовали хлеб. Смотрите, что мы сделали…
Чудно́! Но что же, мне действительно это вспомнилось, когда я смотрел на калачик, Оброненный девочкой посреди мостовой. На него катились широкие колеса. Но, затормозив машину, шофер подал назад и потом бережно объехал калачик.
А тот молодой человек, надо сказать, впоследствии сделался известным писателем, которого многие полюбили: в книгах он был насмешлив, но насмешником он не был, а весел и доброжелателен. И у него появилось новое имя, сложенное из инициалов.







