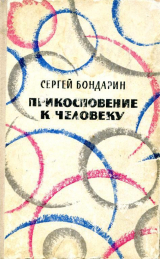
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Ночью на борт начали поступать раненые и эвакуируемые. Снялись перед рассветом.
Севастополь выпускал нас в море под гигантской аркой прожекторных лучей, скрещенных над выходом из бухты; прожекторы ловили ночных бомбардировщиков, они беспрерывно гудели над плавучей батареей на внешнем рейде.
Мы уже были далеко за бонами, а над нами вспыхивали и соединялись новые лучи, и эта гигантская световая арка стоила утренней радуги над форштевнем.
Вспыхивало и озарялось по всему берегу.
Ночь теплая, звездная, не было и помину о тумане, доставившем столько затруднений в прошлые ночи. Перед рассветом вызвездило особенно щедро.
Рассвело, когда «Скиф» лег на курс.
Не помню зачем, я спустился с мостика.
Пробиваться среди людей, разместившихся на палубе, было не легко, и тут мое внимание привлек разговор в группе женщин:
– Никогда не нужно хорониться в подвале.
– И не нужно, – подтверждала другая.
– Конечно, не нужно, потому и засыпало. А лучше бы ушли в штольню.
– Да как же, – со слезами в голосе торопливо оправдывалась другая, – нас должны были переселить организованно. А у меня – трое. Каждому нужна постель, нужно забрать вещи, ведь еще жить, а в одном платке не проживешь. У меня одного только керосину было несколько бутылей.
– Так и не отрыли? – спросила третья.
– Одного отрыли, – продолжался рассказ. – Он пролежал под камнями больше суток… Отрыли, он один раз вздохнул воздухом и вытянулся.
– А отца нашли?
– А отца совсем не нашли.
– Надо бежать в щель, а не в подвал, – сказал еще кто-то.
– Щель тоже нехорошо. Бывает – сожмет. В канавку. Самое лучшее – в канавку. Как начали бомбить, ложись в канавку – и все. У меня такое правило.
Рядом хныкали две светлоголовые девочки. На них никто не обращал внимания, и я попробовал заговорить с ними:
– Почему плачете?
– Спать хотим.
– Ну, – сообразил я, – пойдем со мной.
– Не пойдем.
– Почему же?
– Мамка уйдет от нас.
– Где же ваша мамка?
– Вот мамка.
– Да где, не вижу?
– Вот мамка, лежит.
Молодая женщина лежала на носилках. Это осложняло дело. Как перенести раненую? Близко была каюта – общая Батюшкова и Костылева. В согласии Батюшкова я не сомневался, но Костылеву позвонил на его пост. Костылев не возражал, и я вернулся к девочкам и раненой.
– Можно вас поднять?
– Попробуйте, – соглашается она, улыбаясь.
Тонкое, и милое было у нее лицо при слабом свете начинающегося утра.
– Куда вы ранены?
– В ноги, – смущенно отвечает она.
Я кликнул Лаушкина и поручил ему детей, наклонился к женщине.
– Ну, держитесь за меня покрепче.
Она, как ребенок, обхватила мою шею, и мы двинулись. Девочки – одна справа, другая слева. Лаушкин замыкал шествие.
До чего же необыкновенно было это объятие молодой женщины, случайное прикосновение ее щеки. Что-то недавнее, но уже глухо забытое, недоступное, теперь оживилось нежданно-негаданно и стремительно обливало нежным, расслабляющим теплом. Мне казалось, что я не удержу свою легкую ношу, руки слабели, и вид у меня, вероятно, был достаточно глупый.
У порога каюты встретил нас Павлуша Батюшков. Я смутился, но во взгляде Батюшкова, брошенном на меня, я почувствовал столько понимания и даже ласки, что сразу успокоился.
– Ваш Федя? – тихо спросил он, и мне эти его слова были понятны.
В каюте над столом и койкой Костылева уже были убраны все фотографии большеротой блондинки.
Я помог женщине и девочкам умыться. Девочкам очень понравился никелированный кран, такой блестящий и шумный. Их заинтересовало, почему стаканы стоят в гнездах, а главное – почему окно круглое? Нужно было все объяснить, и это тоже было очень приятно.
При швартовке в Новороссийске я снова заглянул к ним и принес шоколад, добытый у Синицкого.
Получить что-нибудь у нашего хозяйственника было делом нелегким, но в этот день Синицкий был сговорчив. Он каялся в своих грехах, а нам прощал наши.
Синицкий – человек чудаковатый, и его счеты с нами были сложными. Так, например, он долго не мог простить Либману, что тот во время операции под Евпаторией, выйдя на баркасе разведать набережную и благополучно вернувшись, все же позволил бойцам схарчить консервы из НЗ.
Мы же не могли вспомнить без смеха, как однажды в зимнем походе Синицкий «спасал корабельное имущество».
Бушевал шторм. Каждый с удовольствием поел бы чего-нибудь соленого, остренького, но Синицкий не отступал от нормы. Волна между тем разбила кранец, откуда вывалились огурцы, селедка и мыло. Видя это, Синицкий самоотверженно бросился спасать огурцы. Волна плеснула и чуть было не вынесла его за борт. Синицкого положили в лазарет, он говорил: «Передайте комиссару, что я старался спасти корабельное имущество».
Добро, однако, зря не пропало. На долгое время мы были избавлены от необходимости выпрашивать у Синицкого мыло для стирки белья. Бойцы же получили добавок к обеду и ужину – омытые волною огурцы.
Мыло, огурцы, консервы были прощены в тот час, когда баркас со «Скифа» и береговые ялики под гром бомбежки спасали людей с баржи и буксира. Прислушиваясь к близким разрывам бомб, Синицкий расчувствовался, а к ужину вышел бледный, как бы христиански примиренный.
«Знаете, – сказал он Либману, – я уже давно списал те евпаторийские консервы. Деньги, что с вас высчитывали, вы получите обратно. Бог с ними, с консервами, селедками. Когда такое делается, это просто мелочь. Каждый из нас может пострадать серьезней».
«Конечно, мелочь, – торопливо подхватил Усышкин. – Вы, Антон Тихонович, рассуждаете благородно. Тут важно самому не пострадать. А знаете, Антон Тихонович, вот мы с вами мало думаем об этом, а в английском флоте, например, офицеры во время бомбежки беспрерывно едят соленые огурцы. Перешибает всякий страх».
Дорофеев поддержал: «И главное, британский флот от этого не страдает и его престиж не падает. Надо бы и нам пересмотреть норму огурцов».
Синицкий задумался.
Обессиленный страхами, Антон Тихонович не только простил консервы и огурцы, но по просьбе Батюшкова выдал несколько плиток шоколада для севастопольских девочек.
Эти совсем прижились у нас и оставляли каюту неохотно.
Костылев, только что отпущенный с вахты, после всего, что пришлось ему пережить и выслушать от своей блондинки, уже с полчаса мучительно зевал у опустевшего, освобожденного от фотографий стола.
Девочки смешливо поглядывали на его рыжие космы. Увидя меня, они попросили снова пустить воду из блестящего крана над белым гладким умывальником…
В «круглое окно» уже была видна новороссийская пристань.
Корабль шумел и гремел. Над головой стучали сотни ног, но на молу, у которого швартовался корабль, было еще безлюдно и тихо. Впряженная в телегу лошадка мирно потряхивала головой, за сараем весело зеленело деревце.
Севастопольские пожары, гибнущая в бухте баржа, улица Щербака с елочными игрушками среди развалин, лучи прожекторов в безумном, воющем и полном звезд весеннем небе – все это осталось по другую сторону моря. Там учились в подвалах дети, приноравливались к военной жизни старики; одни предпочитали хорониться в подвале, другие – в канавке, и оставляли пещеры только по крайней нужде и всегда вдвоем.
Батальная эффектность выхода корабля в море под гигантской световой аркой настороженных лучей уступала место длительному и более глубокому чувству, и в этом, несомненно, я не был одинок; чувство это было общим, хотя с виду моряки были заняты своими прямыми обязанностями по кораблю.
Каждый обживал свою канавку.
Молодую мать звали Клавдией Ивановной. Мы дружески попрощались. Сойдя на стенку, я опять увидел их. Девочки и мать все еще ждали санитарную машину. Пришлось снова помочь Клавдии Ивановне.
– Хорошо вам, – сказал лежавший тут же раненый майор.
– А что так? – спросила Клавдия Ивановна.
– Хорошо иметь рядом своих: муж и привез вас, он и увезет дальше.
Клавдия Ивановна, улыбнувшись, промолчала. Потом тихо и очень печально сказала мне:
– Не знаю, найду ли я мужа… Да встану ли еще на ноги?
И я почувствовал, что и мне необходимо сказать ей самое сокровенное, и я сказал в ответ Клавдии Ивановне:
– Не знаю и я, найду ли…
– Найдете! – прервала меня она. – Вот увидите… непременно найдете. Иначе и не думайте!..
Недавно в Поти на улице, как в чувствительном романе, ко мне бросилась какая-то женщина со словами:
– Ведь это моряк со «Скифа»!
Тут же в растерянности остановился артиллерийский капитан.
– Да это вы, Клавдия Ивановна! – воскликнул я.
И точно, передо мной была выздоровевшая Клавдия Ивановна. Тут же выяснилось, что капитан – ее муж.
Клавдия Ивановна все повторяла, как бы оправдываясь и внушая мужу значение своих слов: «Так это же моряк со «Скифа», – и не скрою, что при этих словах я с волнением вспомнил, как мне хорошо было держать на руках эту милую, легкую, приветливую женщину.
– А вы, – спросила она наконец, – вы уже встретили?
Я не ответил Клавдии Ивановне на этот вопрос, но она поняла меня, затихла и опять заговорила горячо и убежденно:
– Не может быть, чтобы вы не встретились. Непременно найдете.
3«Скиф» продолжал свою службу.
Как бы развертывая легенду о воздушном корабле океана, он появлялся, голубея на горизонте, следовал дальше, таял, уходил.
По-разному следили за ним с берега.
Немецкие посты торопились передать: «Голубой крейсер прошел постоянным курсом». Немедленно заводились моторы бомбардировщиков и торпедоносцев на вражеских аэродромах.
Иначе следили за кораблем, скользящим по горизонту, глаза тех людей, что были застигнуты несчастьем в белых, еще вчера безмятежных, не знавших врага домиках южного крымского берега.
Внимательно, серьезно высматривали на взморье этот корабль посты осажденного Севастополя, и не было случая, чтобы «Скиф» не показался в тот час, когда его ждали на береговых постах Балаклавы и Херсонеса. С Большой земли шли провиант, боезапас, шла почта, прибывали свежие бойцы.
В пятницу 26 июня мы собирались в очередной рейс в Севастополь, приняв на борт свыше двух тысяч красноармейцев, около тысячи двухсот тонн боеприпасов и несколько полевых орудий.
За два часа до нас с войсками той же сибирской бригады вышел в море эскадренный миноносец «Боевой». Мы рассчитывали догнать его в море.
Корабль уже был готов отшвартоваться, работа машин отдавалась легким вибрированием кормовых отсеков; было видно, как над могучими трубами дрожит и струится воздух, согреваемый отходящими газами. Иногда выбрасывался темный клуб жирного мазутного дыма. Кочегары и машинисты прибирали к рукам более ста тысяч лошадиных сил, которыми располагали главные механизмы корабля.
Десятки приборов шевелили усиками стрелок, показывая давление пара, контролируя циркуляцию воды и масла.
Батюшков терпеливо проверял свое разнообразное хозяйство. Поднялся на мостик.
– Знаете, кто идет с нами? – спросил нас Дорофеев.
– Сибиряки.
– Угадали. А еще?
– Ящики с боезапасом.
– Угадали. А еще?
– Пушки.
– Пушки. Смотрите, они уже все знают. От них не скроешь ничего. Но все-таки одного пассажира вы не усмотрели, – и Дорофеев назвал фамилию известного писателя – Евгения Петрова.
– Так с ним же хорошо знаком Усышкин, – вспомнил я. – Они друзья по Москве.
– Что же, – отозвался Батюшков, – мы станем друзьями по «Скифу».
За время войны в газетах часто встречались его фронтовые очерки, и я не был разочарован, когда на мостик взошел смуглолицый человек, с виду и вправду бывалый фронтовик: в пилотке, в обмотках, с походной сумкой на бедре.
Длинноногий, с резким профилем и сильной челюстью, Евгений Петров, казалось, каждую минуту торопился куда-то, но со всеми заговаривал охотно и просто, жадно выслушивал каждого, хотя многое предстояло ему увидеть самому, и при этом приближался к собеседнику вплотную, как бы что-то доказывая; слова выговаривал кругло, несколько возбужденно и смотрел очень утомленными глазами. Было заметно, что предстоящее плавание волнует его.
Мы быстро с ним разговорились. У него был выбор: он мог идти раньше на «Боевом», но предпочел идти с нами. Себя он скромно называл военным корреспондентом, свою задачу объяснял коротко:
– Я должен написать о Севастополе. Ведь до сих пор нет ясного рассказа, что там происходит.
С этим заявлением охотно согласились.
– Ведь нам предстоит прорвать блокаду, не так ли?
– Да, это так, – согласились и с этим.
Поднялся на мостик Усышкин и не без удовольствия отрекомендовал всех нас своему другу, а его при этом назвал «нашим попутчиком».
– О нет, – возразил тот, – только не попутчик.
– Ну, тогда спутник.
– Это лучше.
Каждому хотелось рассказать нашему спутнику о Севастополе. 28 мая в последний раз мы были в Севастополе днем. В ночь с 5 на 6 июня – в последний раз в Южной бухте. Немцы прорвались в район Голландии. Держали под огнем бухту, Корабельную сторону и Спецкомбинат в долине Инкермана, недавно склады шампанских вин, теперь подземный арсенал Севастополя.
Все чаще завывал над городом сигнал базовой воздушной тревоги. И наступили дни, когда эта предупредительная мера стала бесполезной: эскадрильи бомбардировщиков висели над Севастополем, беспрерывно сменяя одна другую. Наша истребительная авиация вступала в бой сразу при взлете с аэродрома на Херсонесском мысу или Куликовом поле.
Уже невозможно было найти признаков улиц. Над необъятной грудой обломков никогда не рассеивались дым и пыль, и все-таки в Севастополе что-то еще стонало и рушилось.
Положение крепости было очень серьезным…
«Скиф» снялся днем, в обычное время, с таким расчетом, чтобы утром быть обратно. Ночи наступили короткие. Уже давно корабли не ходили прежними зимними курсами, спускаясь к Синопу и потом поднимаясь на норд. Теперь шли полным ходом, прямо на Севастополь.
Красноармейцы десанта неплохо устроились. Это были живые, бодрые, веселые ребята, не доставлявшие лишних хлопот. То здесь, то там раздавался громкий смех, гремели консервные банки, слышалось бойкое словцо. У краснофлотских бачков нашлась ложка и для сибиряков.
Розовощекий молодец балагурил на полубаке:
– Никогда моря не видел, да вот увидел. Турция у вас тут, что ли? Севастополь! Теперь моему деду нечем передо мной хвалиться, а то он с детства что-то знает про Севастополь.
– У меня отроду в море никто не плавал, – рассмеялся другой, – боялись из лесу выходить. А тут, смотрю, со всех сторон открыто – забирай.
– Кому ты нужен?
– А как же, нужен: везут. Слышишь, как пароход гудит?
– Ну, что же, по волне шибче… На, кури, пока я добрый.
И, как бывает дома, от веселых гостей всем нам стало веселее – и себя и нас развлекали стрелки и пулеметчики, недавние охотники и колхозные бригадиры. Понравилось это и Ершову.
– Ого! Смотрите, Вешнев, среди них есть и бородатые… Вот это мужики! – заметил он, взойдя на мостик. – Не напрасная слава! Каждый из них и кубанцу пара, эти не подведут.
И правда: «Сделаем, сделаем, – казалось, говорили сибиряки. – Сдюжим. А насчет Турции – это так, чтобы только позлить».
Прошли Мысхако, легли на курс. Спокойное мора ярко синело и по горизонту отражало круглые чистые облака. Новороссийский берег вскоре скрылся. Впереди по курсу мы имели «Боевого» и рассчитывали догнать его около девятнадцати часов. Развили большой ход, и в этом привычном шуме то и дело слышался доносимый ветром с полубака мужской солдатский хор.
Хорошее настроение не оставляло Ершова, а настроение командира – это не последнее дело. Он даже заглянул в рубку ко мне. Как раз в этот момент донеслась моя любимая песня «Раскинулось море широко». Я прислушался, улыбнулся, и Ершов ласково согласился:
– Пускай поют – хорошее дело, солдатское!
Опять было рванулся я к нему и опять удержался.
В море сибиряки по своему почину установили на носу и на корме «Скифа» по станковому пулемету, и Дорофеев по этому поводу заметил довольно метко:
– Круговая оборона!
Корабль шел точно по пассажирскому расписанию. Миновали меридиан Керчи. Вскоре справа по носу начали вырисовываться горы Крыма. Сигнальщики высматривали «Боевого». Было восемнадцать часов с минутами, когда на траверсе мыса Меганом впереди по курсу показались самолеты противника. Они все кружились над одной и той же точкой. Чувствовался близкий вечер, солнце склонялось, в такое время труднее всего вести наблюдение по солнцу. Все, кто был на мостике, встревоженно следили за кружением бомбардировщиков.
По воздушной тревоге на мостик вышел и Евгений Петрович со своей обязательной походной сумкой.
– Впереди «Боевой»? – спросил он. – Вот видите, все равно догнали, так что мне жалеть не о чем… И вы не жалейте, – попробовал пошутить он, – вы мне все рассказывайте!
– Да, впереди «Боевой», – сурово отвечал Ершов.
Внезапно под мушиным роем самолетов встал высокий раздвоенный столб дыма и пара. Мы продолжали идти полным ходом прямо на этот столб. Самолеты кружились. Когда же вдруг они начали собираться стайками, отпала последняя надежда.
Командир «Боевого» был другом Ершова. На «Боевом» плавал закадычный друг Батюшкова, лейтенант Козловский. Едва ли не каждый из нас имел на миноносце друзей и знакомых.
Песни на палубе замолкли. Люди толпились, стараясь рассмотреть, что происходит в морской дали. Высокий беспрерывный гул быстрого хода мешал слышать голоса.
Столб дыма рассеялся, затуманив часть горизонта. Корабля не было. Издалека были видны плавающие в море предметы. Потом среди ящиков и обломков в цветастом пятне разлившегося мазута мы увидели головы людей. Воздушный пузырь задерживал погружение части корабля: над водой еще торчала мачта. На ней, крепко обхватив автомат, сидел красноармеец. Огромное мазутное пятно колыхалось, отблескивая то лиловым, то розовым, люди плавали на обломках, и нельзя было понять – то ли они кричат и машут руками, призывая на помощь, то ли требуют от нас проходить дальше: бомбардировщики вернулись и принялись за «Скифа».
Мы описывали циркуляцию вокруг плавающих людей и стреляли по самолетам.
Я искал глазами Козловского и командира корабля и не находил их. Вспомнил красноармейца на мачте, но уже не увидел ни мачты, ни красноармейца…
Командир дал в штаб радиограмму: «Нахожусь на месте гибели «Боевого». Веду бой с авиацией противника, намерен оказать помощь людям. С наступлением темноты окажите помощь подводными лодками».
В ожидании ответа, отражая атаки бомбардировщиков, «Скиф» держался некоторое время на обратном курсе, потом снова повернул к месту гибели эсминца. Готовили к спуску баркас. Батюшков, побледневший, но, как всегда, неторопливый и деловито-внимательный, помогал запустить на баркасе мотор.
Теперь люди толпились по всему борту.
Плотовщик с Енисея! Леса на крутых берегах твоей реки не тронуты острым металлом и огнем войны. Дом на длинной песчаной косе стоит крепкий, квадратный, чистый. Далеко тебе отсюда до этого дома, но не дальше, чем немцу. Ты знал, что делаешь, когда шел сюда, на наше Черное море, драться за Севастополь. Бей врага здесь, чтобы по-прежнему крепкими углами стоял твой чистый дом на Енисее! Вот был у матросов дом, свой кубрик на миноносце – мы увидели лишь верхушку мачты.
На тихом ходу подошел «Скиф» к месту гибели миноносца, и тогда можно было услышать, как моряки, державшиеся на воде, пели широко и свободно: «Раскинулось море широко…»
А может быть, это только чудилось? Нет, черноморцы пели эту песню! Один из немногих подобранных позже краснофлотцев говорил, что они требовали, чтобы «Скиф» не задерживался, а шел дальше – не то разбомбят и нас.
От прямого попадания бомбы эсминец разломился надвое.
Корма тотчас же ушла под воду, а носовая часть еще держалась на плаву. В кают-компании был развернут санпост. Дверь прижало листами разрушенной элеваторной трубы. Запертые таким образом люди отдраили иллюминаторы и простились с товарищами, державшимися на воде. Вторая половина корабля медленно погружалась…
Все эти подробности я узнал позже от Батюшкова, который упорно искал кого-нибудь из спасенных – и разыскал.
Спасенный матрос был вестовым кают-компании.
От него Батюшков узнал о последних минутах Козловского. Желая приободрить других, Козловский, всегда любивший пошутить, спрашивал серьезным голосом: «Вестовой, почему нет чая? Время подавать».
…Самолеты снижались, пулеметная стрельба гнала от плавающих людей стаю чаек.
Из штаба поступил ответ на радиограмму Ершова:
«Следовать по назначению».
Ершов нервно вернул мне бланк радиограммы, оглядел море и небо – людей на воде, самолеты, которые виражили теперь в стороне, ожидая, по-видимому, момента, когда «Скиф» застопорит машины, – и подал команду. С шумом, отбрасывая волну, корабль развернулся и вышел на прежний курс. Вскоре самолеты отстали.
«Скиф» следовал дальше по назначению.
Сибиряки, притихнув, закуривали у обреза.
Суровые законы морской войны беззастенчиво обнажились перед нашим пассажиром в пилотке, с сумкой на боку.
Иногда его фигура попадалась мне на глаза: он держался спокойно.
Перед Севастополем мы снова разговорились с ним.
Наступила лунная ночь. Только что «Скиф» отразил атаку торпедных катеров. Их буруны на зюйде еще раз сверкнули пеной и больше не появлялись. Мы шли между минными полями, машины неутомимо гнали корабль.
Справа уже полыхало бледное при луне зарево Севастополя.
Больно прижимая меня сумкой, наклоняясь так, что я видел его глаза, еще более усталые, чем днем, Петров заговорил о военно-тактической стороне дела, но за его словами чувствовалось волнение иное.
– Как об этом рассказать? – как бы просил он совета. – Послушайте, ведь это больше чем прорыв блокады, больше чем прорыв «Шарнгорста» и «Гнейзенау» из Бреста. Там были мощные корабли, поддержанные авиацией, а здесь один небольшой лидер – и все против него.
– А вам знакома эта история?
– Описание морских сражений – мое любимое чтение.
– Ну и что же? То, что вы видели, не отшибает интереса?
Не отвечая на вопрос, а проверяя свои представления о масштабе события, свидетелем которого стал, он одновременно и спрашивал и убеждал меня:
– Ведь это так? Скажите, я не ошибаюсь?
Он не ошибался в главном.
Он оттенил то, что нам, скифцам, казалось уже обыденным: торпедные катера… авиация… мины… так было два дня тому назад, так и на этот раз, такое уж у нас ремесло!
А между тем действительно заканчивалась первая половина операции корабля, которая по своей дерзости и умелому поведению моряков, то есть и с моральной и с тактической стороны, выдерживала сопоставление со смелым прорывом германских линейных крейсеров «Шарнгорст» и «Гнейзенау» – одноименных с погибшими в 1941 году – из атлантического Бреста через Ла-Манш в свои порты.
Черное море увидело больше, чем Ла-Манш.
То, что произошло на следующий день, 27 июня, никогда не забудут на Черноморском флоте.







