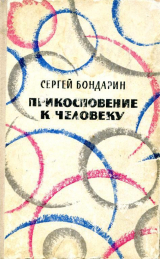
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
Я выстрелил в один из мешков, он покачнулся, и струйка зерна мирно побежала на шпалы. Старик спрыгнул, но в этот момент поезд дернулся и начал набирать скорость.
Несколько секунд мы еще бежали рядом с мешками – я с одной стороны, старик с другой. Потом вагон стал уходить вперед, прошел следующий вагон, я влез в теплушку, подхваченный Лобачовым под локти.
Он продолжал держать меня, а я рвался вон из теплушки. Земля под колесами бежала стремительно, а вдали кружилась и кружилась вместе с полосками чужих голых рощ.
– Ой, пустите меня! – кричал я, как будто убегающая эта земля могла умчать меня отсюда, от этих темных, обездоленных мест. – Пустите меня домой!..
Поезд поворачивал на кривой. Чернобородый мужик, сняв сапоги, бежал по шпалам. Одною рукой он прижимал сапоги, а другой делал нам знаки, умоляя остановиться или сбросить его мешки. Были хорошо видны три линии, остающиеся за нами: две синие – рельсы и между ними яркая желтая полоска – зерно, просыпающееся из простреленного мешка. Вороны нехотя взлетали перед набегающим мужиком.
Я метнулся, схватил тяжелый куль, один из тех, которыми прикрыли мордовок, и, раскачав его, вывалил из вагона.
В следующее мгновение я, может быть, выпрыгнул бы и сам – меня удержали; но, отбиваясь от сильных рук, я еще успел увидеть и то, как пополз по насыпи сваленный мною куль, и то, как чернобородый, не заметив добра, пробежал мимо.
Тиф свалил меня только теперь, на вторые или третьи сутки. Меня уложили за мешками рядом с Макарихой и Мариной. Лобачов дал мне слово не списывать меня в изолятор. Оттуда возвращались не всегда. Баррикада, прикрывающая женщин, укрыла и меня от взоров санитарной инспекции.
Так мы проскочили Тамбов, а дальше время потеряло всякое значение. Беспрерывный стук колес, дерганье вагонов, толчки и опять стук колес заполняли всего меня, возбуждая видения в больном, разгоряченном, тифозном мозгу.
– Отдайте мне мои руки! – кричал я, и страшно было то, что мне нечем взять их, мои руки, оторвавшиеся от меня вместе с тяжестью выброшенного из вагона куля. Я чувствовал эту тяжесть, но рук у меня не было, я молил вернуть руки – и мне нечем было их взять, когда мне их протягивали… Это опять были чужие руки – дочери Макарихи, ухаживающей за мной, в то время как самое Макариху опять уводили солдаты.
Лицо молодой женщины приближалось, взгляд был страшен: это был остановившийся взгляд чернобородого мужика, и тотчас же лютый озноб окатывал мое тело.
Потом тело мое укладывали в телегу. Туда же, в ту же телегу, свалили мешки с мукою и зерном.
Меня повезли дорогой. Мы ехали важно и долго. Тугие мешки подрагивали по сторонам.
Макариха с Мариной доехали до дома, они взяли меня к себе с достаточным запасом хлеба. Но мне возвратили все с лихвою.
Выздоровление было счастливым.
Реальность принадлежала мне теперь навек, бессменно и бессмертно. Шел свет из оконца, в холодке от земляного пола пахло пылью, держалась умиротворяющая тишина. Вошла Марина – ширококостная, широколицая, в полотенце, повязанном чалмой, в многоярусных цветных темных юбках.
Трудно сказать почему, но я ясно представлял себе, где я и что со мною произошло.
Встретив мой взгляд, Марина своего взгляда не отвела. По-прежнему она смотрела не мигая, не то с испугом, не то с любопытством.
Она грубовато поправила подушки, я взял ее за руку.
– Какой ты, однако, комендант, тощий, – не то удивилась она, не то приласкала.
Я провел по ее руке своею до плеча, забираясь под рукав, как это бывало у нас с Анной. И опять она проговорила как бы и ласково, но с сомнением:
– Да что ты? Можно ли?
Я понял, что руку Марины не отпущу.
– Мне теперь можно все, – сказал я. – Где Федор?
– Он в поле, пашет. В избе, однако, мама.
– Не отпущу! – повторил я изменившимся голосом.
Строго усмехнувшись, опрятная Марина обдала меня чистым дыханием и послушно обняла.
Прежде чем вволю наесться, я надышался тепла от Марины. Терпкое, плотное, как суровый картон, мордовское полотно не удерживало тепла ее здорового тела. И я отогрелся за все: за лютый озноб в теплушке, за выдуманное одиночество, за холодок чужбины. Постепенно из глаз Марины исчезло выражение любопытства, но заботливость ее не проходила.
– Какие шаньги любишь, комендант? – спрашивала она обычно. – С кашей ли, с рыбой?
Я просил и того и другого, а сам с жадностью ожидал утра, когда мы с Мариной оставались вдвоем.
Федя Локотков, которого вместе с кулями зерна оставил при мне карнач, возвращался поздно. Веселый белокурый Федя заменил хозяина в поле: старик выезжал за хлебом вместе с женой и дочерью, но на какой-то станции отстал. Хозяйские сапоги, тулуп и новая высокая барашковая шапка занимали угол в той же праздничной комнате, где лежал я. Тут же под вышитыми полотенцами, занявшими другой угол комнаты, под раскольническими образами разместились фотографические карточки семьи.
Где видел я этого мужика? Я знал его, я его видел где-то!
И я вспомнил его в тот самый день, когда впервые вышел на крыльцо.
Теплый воздух весны наполнил мои легкие. Господи! Что увидел я! На полкруга за деревьями, крышами и заборами лежали хорошо вспаханные поля, зеленели рощи, голубело обновленное небо. Облачко передвигалось высоко-высоко.
У мокрого плетня, перед сараем, сверкая белизной, стремительно вытянулась березка. Кучка воробьев чирикала. У крыльца пробилась травинка, и я сорвал ее.
Все, что скопила земля за зиму, она теперь выбрасывала наружу, забивая дыхание своими запахами.
Толстозадая Макариха в немазаных сапогах склонилась над мешком, развязывая его и пересыпая в торбочку кукурузу. Две хилые курицы и белый петух суетились перед Макарихой.
– Макариха! Мешка, пожалуй, не хватит! – закричал я только потому, что хотелось крикнуть в голос, радостно и самодовольно. – Все скормишь. Придержись!
Как все вокруг, так же неудержимо, – вот уже сколько дней – и во мне переполнялись все фибры, билась каждая жилка.
– Нет, я расход не беру, – отвечала мать Марины. – Мешками хозяин управляется, а птица не терпит.
При этом Макариха бросила горсть кукурузы, еще и еще. Желтые зерна покатились по разогретой, отпотевшей земле. Птицы, растопырившись, метнулись к корму.
Новое счастье наполнило мое существо, а казалось, неоткуда больше. Я смотрел на птиц, склевывающих крупные зерна, душа моя наполнялась, и в это время…
Ну конечно же, он должен был стоять здесь, посреди двора, знакомый мне мужик, тот самый, который бежал без сапог по шпалам, догоняя свое зерно… Вошел ли он только что или так и стоял давно? Черная борода, пустые руки врозь, и взгляд, уставившийся на мешок Макарихи, на желто-янтарную струйку зерна.
Он смотрел не мигая, взглядом своей дочери.
– Макариха! – крикнул я. – Не щади зерна. Мы с Федей еще отвалим – только бы Лобачов вернулся!
Но добряк Лобачов не вернулся. Не доехав до станции назначения, он тоже заболел сыпняком и, снятый с маршрута, умер в изоляционном вагоне. У Гриши сердце оказалось еще слабее, чем думалось Козлову.
Из деревни Ужмы мы уехали вдвоем с Федей: он для того, чтобы, демобилизовавшись, поспешить назад, к засватанной им Марине, я же для того, чтобы больше никогда не увидеть ни жирных полей, ни пушистых рощ вокруг деревни Ужмы, чудной чужой земли.
Вот и все. В тот год вместе со всею страной я вдохнул в себя воздух мира. С этой поездки, собственно, началась моя взрослая жизнь.
АРЕНА СПОРТА
Бродячий цирк Ивана Кадыкина знавали по всей Бессарабии.
Когда в конце июня 1940 года балаган прибыл в придунайский городок, прославленный со времен Суворова, с садами на месте прежней крепости, с голубыми куполами церквей, Иван Трофимович распорядился начать гастроли в рыбацком поселке на острове.
Дунай в этом году был на редкость многоводным. Его желтые, широко разлившиеся воды, вздрагивая, лоснились под солнцем, из городка казалось, что темные избы на острове стоят в воде.
Однако переправились благополучно, быстро отыскали место для балагана.
Среди реквизита, сваленного в кучу на полянке перед церковью, бросалась в глаза поставленная на ребро всем известная вывеска – красные буквы на желтом поле:
«ARENA SPORTIVA. IVAN KADIKIN».
Когда вывеску укрепили над входом в балаган, Васена Савельевна, жена Ивана Трофимовича, написала плакат по-русски:
«Ижевечерно французская борьба. Вольная арена после програм каждый любитель может принять вызов чемпиона».
Борцы, клоун и фокусник, он же конферансье Лазари, крепко спали в тени за парусиной балагана. Васена Савельевна варила общий суп, а Кадыкин, чувствуя боль в боку, лечил себя мазью особенного состава, какую втирают в кожу скаковым лошадям перед скачками.
Струилась река, на берегу и в поселке было знойно, безлюдно. И трудно было установить, кто принес слух о том, что Красная Армия перешла границу, а советские мониторы уже дымят у Дунайского гирла.
Вскоре высоко над Дунаем показались косяки самолетов.
Иван Трофимович поднялся мгновенно. Надтреснутый капитанский бас, отдававший распоряжения, услышали далеко за поселком. Представление состоялось, но кое-как, на скорую руку, и балаган опять свернули.
Слезы Васены Савельевны, обеспокоенной участью сына, ушедшего в Тульчу к своей невесте, не поколебали Ивана Трофимовича.
Когда советские авионы, как называли здесь самолеты, сбросили за городом воздушный десант, балаган Кадыкина уже находился на левом берегу.
Борцы, индусский факир Бен-Гази, скептический конферансье Лазарь Ефимович, пожилой жгучий брюнет о подстриженными усиками, – все они убежали за толпой навстречу десанту. Убежала и Васена Савельевна.
С Иваном Трофимовичем остался лишь рыжий лохматый песик, по прозвищу Рутютю.
С палкой в руках, в белом легком картузе, Кадыкин сидел среди груды скамей и ящиков и презрительно рассматривал свои руки, оглядывал живот и ноги, – не таким было его тело в ту пору, когда между чемпионом мира и Россией легла граница.
Из газет он знал, что в теперешней России спорт любят, но лишь одно знакомое имя борца повстречал Кадыкин – имя своего тезки и ровесника Ивана Колодного. Но лучше бы не знать, что постоянный его соперник на мировых аренах, которого он все-таки положил в берлинском чемпионате и потом еще дважды бросал на лопатки – в Одессе и в Орле, – лучше бы ему не знать, что Иван Колодный награжден на родине орденом и званием заслуженного мастера спорта.
С торопливым, веселым гулом над городком снова летели самолеты. Закинув голову, Кадыкин не отводил взгляда от эскадрилий, и мутноватые глаза с кровяными жилками, выпученные от частых и длительных физических напряжений, увлажнились. Он смахнул слезу, но слеза опять набежала, и он уже не утирал ее, потому что в одиночестве стыдиться было некого.
Воротилась Васена Савельевна. Она едва дышала, возбужденная, как девочка. Рутютю, заигрывая, бросилась к ней, но она отмахнулась:
– Да погоди, не до тебя. Дай отдышаться. Ах ты, боже мой!
– Где же остальные? – ворчал Кадыкин. – Долго ли мне одному продавливать ящик, протирать штаны? Самолеты сели?
– Да я же говорю: авионы опустились за кирпичным заводом. Боже! Напудриться не дадут.
Васена Савельевна, как умела, нарисовала картину приземления больших советских самолетов, предварительно сбросивших солдат на парашютах.
– Не солдат, а красноармейцев… – поправил ее Кадыкин. – Я хочу знать, кто перепишет вывеску? Пошли кого-нибудь за красками.
– Какие краски? – горячилась Васена Савельевна. – Какие тут краски? Все магазины закрыты.
– Так, может, сегодня мне и обеда не будет?
Грохотание хозяйского баса не утихло и тогда, когда вернулись борцы, артисты и видавший виды Лазарь Ефимович Лазари. Этот сохранил хладнокровие. Великолепный парашютный снегопад ему понравился, но не затронул в нем особых чувств, не пробудил, как это случилось с другими, горячих, нетерпеливых мыслей. Кадыкин оглядел Лазаря Ефимовича с откровенным презрением.
Ночью Иван Трофимович не мог заснуть.
Кадыкин с женою, Лазарь Ефимович, Бен-Гази со своей партнершей, худенькой Лизой, и Стефик Ямпольский, любимый ученик Ивана Трофимовича, снимали дом в переулке, похожем на деревенскую улицу. Разговоры в сенях затихли далеко за полночь. Поздно ночью вернулись клоун Маноля и трансильванец Тулуш – вместе с толпой горожан они окапывали рвом гараж пожарной команды, чтобы румынские власти не вывели ценные пожарные автомобили.
По переулку иногда проезжали таратайки с беглецами.
Васена Савельевна заикнулась было, что еще не поздно собраться и им: как же они станут жить на двух берегах – сын там, а они здесь? Но Кадыкин страшно засопел, и жена осеклась. Кадыкин все кашлял, то и дело прикуривая от керосиновой лампы. Рутютю беспокойно поглядывала на хозяина из-под стола.
На рассвете, когда Васена Савельевна заснула, Кадыкин подошел к окну и опять оглядел свою грудь и руки. От принятого решения ему стало веселее. Он тщательно побрился, потом в одних трусиках вышел во двор, шагая через спящих, и окатил себя холодной водой из колодца. Рутютю вышла за ним, но предусмотрительно задержалась на пороге, счастливо потягиваясь.
Проснулся Стефик Ямпольский и, храбрый со сна, жизнерадостно пошутил:
– Интересно, Иван Трофимович, какой величины и веса пойдут теперь люди?
– Ты бы поздоровался, – проворчал Кадыкин. – А люди – русские, такие, как я. Нравится?
Ямпольский хмыкнул, поздоровался и, не сводя взгляда с учителя, приступил к упражнениям. Крепкое, цельное, мускулистое, звонкое тело молодого борца мгновенно ожило. Мускулы перекатывались, сообщались под кожей по всему телу – от шеи через грудь к животу, к бедрам.
Кадыкин покосился на него ревниво и прикрикнул:
– Довольно, довольно! Хорош! Пойди набери воды в самовар.
Плоские мониторы, попыхивая дымком, стояли у причала борт к борту, как пироги, вынутые из печи и еще не разнятые. Слышались боцманские дудки, краснофлотцы проворно двигались по скользким покатым палубам. Жерла башенных пушек, прикрытые кляпами, были отведены в сторону от бессарабского берега, на котором уже толпились босоногие мальчишки и женщины с корзинами помидоров, бубликов, подсолнухов, со свежезажаренной рыбой и всякой иною снедью.
Предприимчивая эта публика, по-видимому, и не интересовалась торговлей. С радостными, восхищенными лицами дети и женщины, молодые люди в галстуках и мужчины с бородками интеллигентов – все, кто успел прослышать о прибытии советской флотилии, теперь старались не упустить ни одного движения на борту кораблей, ни одной черточки во внешности моряков.
Капитан третьего ранга Бровченко разглядывал с мостика толпу, все шире и шире заливающую пристань, понимал состояние людей и готов был немедленно выразить перед ними свои чувства восторженности и миролюбия. Но возобладало чувство ответственности за все происходящее, и он следил за собою, стараясь держаться безукоризненно.
Гул толпы нарастал. В толпе выделялась фигура высокого бритого старика, опирающегося на палку. Тяжелый старик стоял неподвижно, тогда как другие, теснясь, выталкивали вперед женщин с корзинами, и толпа уже подступала к самой кромке пристани. Но вдруг все смолкло: с борта дежурного корабля сошел по сходням патруль. Отряд выстроился шеренгой перед отступившей толпой горожан и звякнул в тишине винтовками, шеренга повернулась в затылок и, словно узкое длинное животное, одновременно подняла с одной стороны два десятка ног… За отрядом моряков хлестнули мальчишки.
Командир монитора сошел на берег вечером с группой краснофлотцев.
Улицы городка очень напоминали черноморские города – таков Херсон, таковы иные кварталы Одессы…
Под густой, темной, почти черной растительностью бульваров уже раздавались звуки гитар; с удивлением Бровченко услыхал знакомые песни: на садовых скамейках хором пели то «Катюшу», то «Трех танкистов».
Как будто и не было короткой заминки в жизни города, которая вынудила опустить железные шторы на окнах магазинов, закрыть маленькие тенистые ресторанчики, излюбленные ремесленниками и рыбаками.
Магазины торговали шибко: то здесь, то там привлекали запахи кофе, баранины, душистого южного борща. В глубине ресторанчиков, затененных верандами с порослью дикого винограда, на прилавках были выставлены в несколько ярусов пахучие, острые, цветистые кушанья греческой кухни. Баклажаны, раздавшиеся под напором сочного фарша, но не потерявшие лилового блеска; громадные пунцовые помидоры; запеченный перец в соусе из оливкового масла и уксуса; свежие огурцы; зажаренные в сухарях рыбы; колбасы, спадающие концами с перегруженных блюд; разноцветное, то граненое, то гладкое, стекло флаконов и бутылок; наконец, большие глиняные кувшины с легким бессарабским вином и бурные, фыркающие сифоны – все было знакомо Бровченко с детства, напоминало о неизменно щедрой природе юга.
Жадные слушатели собирались у стоек тотчас, как только кто-либо из советских военных задерживался за стаканом вина с сельтерской водой или за чашечкой коричневого, сваренного по-турецки кофе. И эта общительность тоже быстро роднила.
Словоохотливые рассказчики испытывали, по-видимому, то же чувство праздничного умиротворения, какое было у Бровченко.
Всюду слышалась русская речь, тронутая мягким южным акцентом, то возбужденная, торопливая, то медлительная и протяжная, с ноткой юмора, – будто в дальней дороге внезапно встретились расположенные друг к другу люди и теперь каждый спешит понравиться другому.
Уже стемнело, а буквы яркой вывески, поднятой над входом в балаган, читались ясно:
«АРЕНА СПОРТА. ИВАН КАДЫКИН».
Ниже было добавлено:
«Ижевечерно французская борьба. Вольная арена в честь Красной Армии».
Глянцевито-желтая афиша, прикрепленная у входа, изображала Ивана Кадыкина, знаменитого чемпиона, в образе цветущего усатого мужчины. Широкая, увешанная медалями лента из кованого серебра была наложена на грудь через плечо. Пояс с драгоценной пряжкой, отягченной камнями, стягивал мощные бедра. Заложив толстые, мускулистые, как плетеные калачи, руки за спину, Иван Кадыкин стоял в своем спортивном трико, бесстрашно глядя вперед, широколобый, по-русски скуластый, с лихо закрученными кверху усами.
В душе Бровченко, которому было далеко за тридцать, всколыхнулось воспоминание детства. Внезапное и разящее, как острый знакомый запах, восстанавливающий забытую картину жизни, чувство какой-то одной минуты. Воспоминание это сразу отодвинуло все, что занимало его в последнее время. Бровченко остановился перед входом в балаган.
Иван Кадыкин. Нет, Бровченко не ошибся! С толпою мальчишек он много раз дежурил у входа в недоступный рай цирка, где в тот год гремел мировой чемпионат французской борьбы.
…На большой доске-диаграмме, вывешенной в ярко освещенном подъезде, отмечались шансы участников чемпионата. Тут были имена Луриха, Ивана Колодного, Святогора, и все же имя Ивана Кадыкина, как всегда, выделялось сплошными победами.
Было большой удачей дождаться разъезда борцов и, затесавшись в толпу почитателей чемпиона, пройти за ним до извозчика. Коляска со скрипом оседала под грузным телом Кадыкина, когда, раздвинув толпу, он ступал на подножку.
Однажды мальчику удалось-таки купить билет на второй ярус и увидеть решающую схватку Кадыкина с Иваном Колодным, яростно брошенным на обе лопатки, – сейчас это впечатление ожило в памяти. В тот же вечер он очутился наконец рядом с гигантом в богатом романовском полушубке, совсем вблизи, только протяни руку – тронешь. Но он этого не сделал, вдруг смертельно испугавшись невиданных форм человека, взгляда его и голоса…
И вот балаган Ивана Кадыкина раскинулся перед глазами Бровченко.
Когда Бровченко поднял голову, он увидел того самого рослого бритого старика с красным скуластым лицом, который утром разглядывал мониторы. Вблизи он казался более тучным, отяжелевшим. Опираясь на палку, старик наклонился и подобрал окурок, кем-то брошенный у входа в балаган. Мохнатая собачонка обнюхала землю. Старик покосился на моряков, рассматривающих афишу.
– Зайдем, – сказал Бровченко товарищам. – Зайдем, зайдем! – Он понял, что перед ними Кадыкин.
Симпатичное лицо пожилой дамы, может быть чрезмерно напудренное, выглянуло из кассы, и Бровченко попросил билет.
Старик выпрямился, задержал моряков.
– Простите, – вежливо пробасил он. – Я буду рад, если вы согласитесь посетить мой балаган в качестве гостей.
– Зачем же? – возразил Бровченко. – Мы как все… если не ошибаюсь… – и он замялся, подыскивая форму обращения, – если не ошибаюсь, гражданин Кадыкин?
– Ваш покорный слуга, – отвечал тот с благовоспитанностью человека, знававшего хорошее общество.
– Ну, тогда позвольте, – и Бровченко протянул руку.
Большая, толстая в пясти рука долго не выпускала его руку, старик смотрел выжидательно.
– Очень интересно! – сказал Бровченко. – Чрезвычайно!
– Балаган, – сказал Кадыкин, как бы прося снисхождения. – Только балаган… Богатырь на чужбине!
– Нет, я помню вас, – возразил Бровченко. – В цирке Чинизелли, в Одессе, верно?
Кадыкин вздохнул так, будто хватил кипятку, широкая улыбка открыла вставные зубы.
– Да неужто помните? – воскликнул он. – Как же! Сезон двенадцатого года.
– Я был тогда мальчуганом, – продолжал Бровченко, – а вы – что скрывать? – вы были нашим кумиром. И что же! Кадыкин все еще на арене. Так?
– Пройдите, милый, – и Кадыкин, улыбаясь, сделал жест широкого гостеприимства.
Он позаботился, чтобы морякам отвели места в первом ряду партера, и просил не взыскивать, если придется отменить представление, – нет еще тока.
На скамьях было уже много публики, белели рубашки и кители моряков. Рыбаки, ремесленники, портовые ребята оделись по-праздничному – были в мягких черных шляпах и при галстуках. Как только вошла новая группа, грянул оркестр: труба, скрипка и барабан. Местная публика, желая, по-видимому, польстить гостям, рассказывала, что только ради праздника Кадыкин решил тряхнуть стариной, – уже много лет, как он не показывает свой аттракцион. Сегодня же состоится гала-представление. И, возможно, выступит сам Кадыкин в коронном номере «гнутья железа и удержания на себе десяти человек в автомобиле».
Лампы вспыхнули на фоне еще не вполне померкнувшего неба, веселое оживление прокатилось по рядам, и тотчас же удар о железо возвестил начало программы.
Трубач в картузе с золотым галуном высоко поднял трубу, а флегматичный скрипач взмахнул смычком, приставил скрипку к ключице.
«Арена спорта» началась.
Участники гала-представления старались вовсю, но чем больше прилагали усилий, тем сильнее обнажалась нищета бродячего цирка. Не веселило и надсадное кривляние клоуна в традиционных широких панталонах, из которых красноносый Маноля время от времени вслед за подозрительным звуком выпускал клубы дымчатого порошка.
Бровченко оглядел гостей. Моряки посмеивались, но это было не веселье, охотно откликающееся на шутку, жест, призыв, идущий с арены, а лишь сдержанная насмешка. Антре не покоряло зрителей, и они начинали скучать.
Чутье старого артиста, наверно, подсказало бы Кадыкину это настроение большинства публики, если бы он не был охвачен волнением. Он покинул свой обычный пост контролера у входа в балаган. Васену Савельевну сменила в кассе Лиза, только что невредимо и кокетливо выпорхнувшая из ящика, через щели которого Бен-Гази пронизал ее мечами.
И растерянная Васена Савельевна, и Стефик Ямпольский, и Лазарь Ефимович топтались вокруг Кадыкина, готовя его к аттракциону.
Вот куда следовало бы заглянуть Бровченко и его друзьям!
Возбужденного, тяжело посапывающего Кадыкина энергично массировали, подсурмили ему брови, тронули розовым губы и даже большие побелевшие уши. Зашнуровали мягкую обувь атлета.
Вместо прежней литой серебряной ленты, давно разбитой на куски и проданной, надели чемпиону через плечо красный муар, скрепленный внизу эмблемой из плотной бумаги: серп и молот.
– Что придумал! – приговаривала Васена Савельевна. – И не стыдно тебе? Ведь уже старик!
Кадыкин, однако, был почти счастлив. Еще раз переживал он трепет артиста и спортсмена, забытый давно, чуть ли не на заре неизменных успехов, не напоминавший о себе с первоначальной силой даже в те дни, когда чемпиона царственно озаряли роскошные люстры, когда рвались к нему восторженно ревущие толпы амфитеатров Чикаго, Мадрида, Рима…
– «Марш гладиаторов»! – отдаваясь волне восторга, властно распорядился Кадыкин, и Лазарь Ефимович, выглянув из-за занавески, подал сигнал изготовившимся музыкантам. Скрипка взвизгнула, и ударил барабан.
Лазари Лазарь Ефимович пошел впереди, за ним Стефик и трансильванец Тулуш несли цепь, которую готовился символически разорвать экс-чемпион мира. Васена Савельевна перекрестилась.
– Чемпион мира Иван Кадыкин! – донесся до нее голос Лазаря Ефимовича.
Через щель в занавеске Васена Савельевна видела, как Иван Трофимович, подняв правую руку, сжав кулак, важно поворачивался во все стороны, приветствуя публику.
Понемногу, наблюдая необычайное воодушевление мужа, она успокоилась, поверив, что он успешно исполнит нелегкий аттракцион.
Снова донесся голос Лазаря Ефимовича:
– Чемпион мира Иван Кадыкин, триумфатор и лауреат всех столиц мира, непобедимый на обоих материках, почетный гражданин Нигерии и Пернамбуку, кавалер орденов, любимец публики, ввиду того, что сегодняшнее гала-представление дается в честь Красной Армии…
Пауза – и Лазарь Ефимович заканчивает бодро и назидательно:
– …покажет свой коронный номер! Демонстрация небывалой силы волжского богатыря: гнутье железа и вслед за этим символическое разрывание цепки… Туш!
«Дурак», – подумал Иван Трофимович. Найдя глазами Бровченко, он еще раз отсалютовал, потом, сразу сделавшись строгим, вызывая в себе давно утихшие силы, искусно став в позицию, наклонился и подхватил тяжелый отрезок фигурного железа. Он думал о том, что Лазари соврал: у чемпиона мира всегда был нелюбимый соперник, все тот же волжанин Иван Колодный, все тот же удачливый земляк, а теперь у него появился еще и враг, не только соперник – ослабевшее, покалеченное тело, враждующее с неугомонным духом бывшего силача.
Однако железо уже было закинуто за голову. Толстые руки захватили его по сторонам, будто клещами. Напрягаясь, Кадыкин через зубы втягивал в себя воздух.
Вот-вот железо должно было бы «пойти», но железо не поддавалось.
Страшное, уже лишенное смысла зрелище начинало тяготить зрителей. Бессмысленность напряжения в старом теле, хотя еще устрашающем своею массивностью, жестокость выдумки, ошибочно принятой за необходимость, даже за доблесть, ощущались всеми.
– Довольно, не надо! – кричали из рядов. – Хватит!
Но чемпион не отступал. Он яростно застонал, слюна, окрасившись краской, смочила его губы, глаза, казалось, сейчас вылезут из орбит; но, еще раз присев, Кадыкин наконец преодолел сопротивление металла и с резким свистящим выдохом согнул его в дугу.
Кадыкин покачнулся, но устоял, весь облитый потом.
Музыканты грянули.
Лазари и Стефик Ямпольский, боровшийся перед этим номером с Матэ Тулушем, подошли к согнутому железу, и каждый подержал железо в руках, многозначительно покачивая головой. Кадыкин же снова оглядел публику и снова поднял кулак, но теперь это не было жестом силы и бодрости – вышло так, будто Кадыкин жалобно погрозил кому-то.
Пригибаясь, он пошел за кулисы.
Конферансье и молодой атлет в недоумении последовали за чемпионом.
Арена оставалась пустой. Только символическая цепь лежала на ней нетронутая.
Потом, кривляясь, вышел клоун – бело-пунцовый, в широких, испускающих порошок панталонах. Загадочно качнулась занавеска, выглянули встревоженные лица. По рядам пробрался конферансье и, подойдя к Бровченко, передал ему просьбу от Кадыкина пройти за кулисы.
Гигант лежал на земле ничком, оголенный до пояса.
Он снова удивил Бровченко своими размерами. Женщины присели вокруг, Ямпольский и Тулуш накладывали на громадную спину мокрые полотенца. Лохматый песик норовил лизнуть откинутую руку. Другую руку держала Васена Савельевна.
Кадыкин взглянул на Бровченко снизу вверх одним глазом и проговорил:
– Попалось сработанное железо, вот в чем причина. Сработанное железо гнется трудно. Я хочу знать ваше мнение: удобно ли отказаться от продолжения программы? Разрешите ли вы это? – И добавил глухо: – Я надорвался.
Бровченко сразу и не понял, о чем говорит Кадыкин, какое ему нужно разрешение, но, разобравшись, ответил, что моряки сейчас же уйдут, если Кадыкин попробует продолжать.
Иван Трофимович не унимался:
– Как неудачно вышло! А сам виноват. Не проверить железа!.. Ох, как нехорошо, – вздыхал он.
С помощью Тулуша и Стефика он приподнялся и сел, опершись о ящик. Над ним стояли, как над прохожим, внезапно упавшим на улице. Бровченко предложил вызвать врача. Васена Савельевна со слезами в глазах смотрела на мужа, но Кадыкин возразил:
– Пока не надобно. Знаете, у меня был случай труднее, когда Збышко-Цыганевич на острове Куба бросил меня тур де тетом. Страшной силы и ярости был человек.
– Иван Трофимович, вольная арена состоится? – спросил Ямпольский.
– Совершенно обязательно, – ответил Кадыкин. – За что же вам деньги платят! Выходите.
«Арена спорта» продолжала свою программу, а Васена Савельевна пошла за извозчиком.
Извозчик появился за кулисами, въехав с задней стороны балагана.
– Добрый вечер, Иван Трофимович! – приветствовал извозчик Кадыкина. – Или не вышло у вас чего?
– Здравствуй! – ответил тот. – Не вышло. Довезешь старика? Ну и хорошо, поедем, брат. А это – вам.
Старик достал из пиджака карточку с тем же своим изображением, какое в увеличенном виде красовалось у входа в балаган, – портрет времен берлинского чемпионата.
– Васена, пиши. Пиши так…
И, спросив у Бровченко его имя и чин, Кадыкин продиктовал, а Васена Савельевна написала на карточке:
«Дарю этот лубочный силует в память нашей встречи и чувствуя себя у нас только туловище разное, но сердца бьюца воедино. Ат ныне рвите цепи, но не дружеския. Навсегда и без всяченки ваш друг, борец, авиатор, волжский богатырь, чемпион мира Иван Кадыкин».
Было слышно – оркестр играет вальс «Дунайские волны». Под звуки вальса на арене раздавались шлепки по голому телу. Кадыкина поддержали. Подхватил его и Бровченко. Дрожки, скрипнув, перекосились, и, виновато глядя на капитана, Кадыкин сказал:
– Все по безграмотной глупости, дорогой капитан! Я все понимаю: это мое последнее выступление должно было бы состояться лет шесть-семь тому назад, а главное – не здесь… Чужбина!
Покорный распоряжениям Васены Савельевны, действующей толково и быстро, Кадыкин устроился поудобней и, отведя глаза, спросил с притворным равнодушием:
– Может быть, вы и Колодного помните? Ивана Колодного? Моего тезку… и земляка?..
– Колодный? Иван? А как же!
– Встречаете? – уже с явной заинтересованностью спросил Кадыкин.







