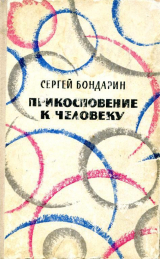
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
ВЕТВИ И ВОЛНЫ
Странные открытия бывают в путешествии: не только проливы, острова, неведомые прежде птицы, – вдруг совершено открытие в самой твоей душе. И это открытие, думается мне, для тебя самое важное и интересное. Вдруг память возвращает прозрачно-чистые или туманные картины прежней жизни, и вновь пробирают тебя забытые ощущения – холодные или жгучие…
Так случилось здесь со мною.
Дело в том, что в туманах Охотского моря я уже бывал, бывал на этих серых берегах.
Очень давно, в тридцатых годах, осваивая акватории наших восточных морей из большой Океанской семьи, ходили в эти воды первые корабли и подводные лодки нарождающегося Тихоокеанского флота. С первыми моряками-тихоокеанцами ходил и я, в то время молодой бравый корреспондент военной газеты. Было очень интересно: новые курсы, новые карты, новые, часто рискованные, испытания.
Нынешних портов не было, хорошо – если был готовый причал, два-три домика на берегу.
Деревянный Охотск, деревянный японский Холмск.
Вот уж где были дремучие рыбаки, из поколения в поколение передающие первобытные латаные сети!
Сушь. Голь. Камень. Галька и галька, лишь кое-где цветет картошка. Дует ветер, набегают и убегают приливы и отливы… Но какая была краса, когда тучи рыбы шли на нерест в устья рек. В брачном безумии самцы и самки ничего не чуют, не хотят слышать. Стадо входит в устье – вода в реке подымается. Сверкает. Плещет. Самцы, прикрывая самок, идут поверху, их ждут медведи и запросто вылавливают, отъедят голову, тушку – долой; и мертвая рыба лежит на берегу грудами – мертвая, полумертвая, еле живая – кета или лосось. Если поблизости жилье, ее лопатами день за днем сваливают, сгребают обратно в море. Там же, где успел появиться рыбный завод, громоздятся бочки кетовой икры, горы рыбных паштетов и колбас.
В ту пору и иваси, обойдя японские берега, шла к нашим; и трепанг, и всякие моллюски, казалось, предпочитают иметь дело с нами. Пробуя отвести руку Москвы, японские кавасаки то и дело шныряли и тут и там, обворовывали наших рыбаков, торопясь выбрать чужие сети.
Интересное было время! Русские рыбаки, потомки первых морепроходцев-казаков Дежнева и Лаптева, годами не видели соотечественника с материка, годами не видели нового человека гиляки и нивхи.
И вот однажды в море из сообщения ТАСС мы узнали о полете Чкалова и о том, что его самолет садился на острове Удд. Это был знаменитый первый прямой перелет с запада к берегам Тихого океана.
Остров Удд, на который садился Чкалов, был у нас на курсе; Чкалов летел к острову с севера, мы приближались к нему с юга.
Как нарочно, особенно донимали туманы – то долгие, то вдруг наплывет и тут же нет его: рубка еще в тумане, а нос уже освещен солнцем. При каждом удобном случае ловили солнышко на секстант; нынешних локаторов и радиокомпасов еще не было, еще, как в древности, моряк полагался на свой глаз, на ухо. Но шли мы весело, все были уверены в нашем комбриге, и он не обманул нас.
Перед нами была отмель, омытая со стороны материка. Песок. Гравий. Несколько кривых березок, называемых каменными, – потому и каменные, что никакая самая каменистая почва не в состоянии остановить рост этих болезненно извивающихся березок, похожих на кусты. Серый дощатый поселок, вдоль по берегу чернеют просмоленные шаланды.
– Это и есть Удд?
– Удд, – жизнерадостно отвечает комбриг, – а вы думали, Венеция?
Я очень любил и запомнил жизнерадостность комбрига, его радостную уверенность во всем, что задумано нашей страной, его любовь к морскому делу и преданность морякам.
– Приедете сюда через десять лет – не узнаете: все будет сделано, – обычно говорил он. – И для этого не так уж много нужно, а только не ломать ветки.
Его иносказательность была понятна.
Красок мало – голь, но любопытно до чрезвычайности. Наше появление внесло немножко торжественности. Лодки стали на рейде поодаль от мелких берегов, просигналили, но догадливые рыбаки и без того уже гребли к нам. В шаландах бабы, дети. Еще бы! Десятилетия тут никто не появлялся, и вдруг сначала прилетает громадный самолет, теперь – подводные лодки, – это ли не событие!.. И вот тут-то начинается событие и для меня, событие душевное.
Право, со мною ли все это было? Но мое тело вдруг вспоминает те ощущения. Сыро, холодно. Розовая мгла. Мокрый песок со следами человеческих шагов: вот тут ходил Чкалов, а вот тут взрытые в песке колеи – тут сел самолет. Голоса вперебой. Интересно и нам, и рыбакам. А кто посолидней, тот молча ухмыляется в бороду. Детишки, женщины. Розовая мгла. И вот тут же, сразу, по какому-то наитию, моряки начинают складывать из камней пирамидку. Еще и сейчас можно увидеть где-нибудь на Командорских островах горку камней, омываемых приливом, – братский памятник безымянному русскому матросу или рыбаку, – а моряки-подводники хотели отметить место посадки самолета. Моряки дружно работают, я – с ними.
И вдруг – это воспоминание и обожгло меня – одна из женщин быстро идет к импровизированному памятнику, голова ее закинута, глаза блестят – это я хорошо помню, – в руках у нее зеленая ветка. Рыбачка ловко, легко взобралась на горку камней и на самой вершине закрепила ветку. Позже мы узнали, что ветка была с взращенного женщиной деревца… Комбриг поцеловал ее.
Вот это открытие и совершилось в душе теперь, когда в сером туманном рыбацком городке, там же, на побережье Сахалина, при мне судили молодого рыбака. Судили его за то, что он повредил дерево. Рыбак сломал молодое деревцо. Судили беспощадно. Что удивительней всего – мне показалось, что судьей была та же самая женщина с зеленой веткой в руке с острова Удд.
Никто и не пробовал вымолвить слова в защиту обвиняемого – ни даже его мать. Женщины считали суровый приговор справедливым, а мужики строго молчали, иные покашливали, потупя глаза.
Уже прочитали и приговор, а судья все не успокаивалась. Она все допрашивала парня, подавленного неожиданным приговором, куда он девал сломанную ветку? Куда он девал ее? Что думал он, совершая во хмелю подобное хулиганство. Обломать дерево там, где люди так нуждаются в каждой зеленой ветке! Рыбак месяцами в море – сети и волны, волны и водоросли, – и рыбак в свободную минуту, может быть, мечтает о том, что дома на его дворе расцвело дерево. Но приходит жестокий человек и обламывает его. Как тут прощать? Как быть милостивым? Рыбацкие сети переходят от поколения к поколению, а деревья, сады – разве они не должны переходить от деда к внуку, цвести и радовать не меньше, чем радует рыбака хороший улов и плодородие в подводном царстве.
В море рыбак думает о земле, а что еще чудесней – и в пучинах подводного царства рыбак привык усматривать жизнь по знакомым образам земной жизни. Об этом и сказано в сказках. И хороший рыбак не загубит ее жизнь.
В сером рыбацком поселке я любил бывать в гостях, и чуть ли не в каждой семье я видел то, о чем много лет тому назад мечтал наш комбриг: дети знали ноты, занимались музыкой. И лишний раз убедился я здесь еще и в том, что не может человек жить без дерева, без сада. Подумать – как много и всегда значил для человека сад, лес, как дорого ему одинокое дерево где-нибудь в пустыне, на скале. Взрослые песни и детские страхи, вдохновение великих поэтов, их символы – деревья! Деревья! Деревья! Я знал людей большого, беспокойного, возвышенного воображения. Они считали, – да ведь так же думают и народы, – что дерево – одно из величайших чудес мира. Подумать – из крупицы произрастает краса, раскидывается, цветет, шумит, радует своей могучей и нежной красотой. В тени деревьев улавливается все человеческое, улов тем богаче, чем шире раскинулись ветви… «Человек, взрастивший дерево, не напрасно прожил жизнь».
Вот эти последние слова – они не мои – и напомнила их та же женщина, судья, не допустившая снисхождения для рыбака, сломавшего зеленую ветку.
– Ты и сети порвешь – не починишь, – продолжала наступать она на осужденного. – Куда?! Скажи нам, куда ты девал ее?
– Выбросил в море, – угрюмо ответил наконец посрамленный рыбак.
Женщина поерзала на стуле, у нее, видимо, перехватило дыхание, потом сказала:
– Так я и знала! И теперь плывет зеленая ветка, пол-дерева плывет по океану, качается, как заблудшее бревно… Видел, встречал такие бревна?
– Видел… Встречал…
– Где видел?
– За Японией.
– Видел. Ну и что же? Опять молчишь? Неприкаянное плывет оно, качается на волне, прости господи, как утопленник. Одна отрада – сядет на нее птица. Что увидеть такое бревно в океане, что попадется тебе там кем-то оборванная сеть – для рыбака одно впечатление, А тут не бревно – зеленое дерево, ветви… Ах, ты!.. Хотя бы девушке поднес ветку, – может, поцеловала бы тебя. Да тебе нипочем и рыбьи гнезда сгрести на нерести, – знаю! Будешь сапогами по икре ходить, – знаю! Это все одно для того, кто о живом не обеспокоен. Ну, а теперь, дружок, иди подумай. Время будет. Ступай. Попрощайся с матерью.
Больше, пожалуй, сказать нечего. Рыбаки согласились с судьей.
ВОЛНЕНИЕ ДУШИ
Воспоминание о Вале Лобзиковой не только приятно – оно тревожно и значительно.
Конечно, встреча с нею была неизбежной: не мог я не услышать хоть что-нибудь в ответ на свои размышления о женщинах, идущих в океан. Не первый год плавают они на китобойцах, рыболовецких сейнерах и траулерах – буфетчицы, поварихи, лаборантки, уборщицы, а то и просто матросы-обработчики, – нарушая вековечный запрет на женские души в экипажах кораблей.
И сейчас не одна только Валя шла на смену тем, кто долгие месяцы держался в море, но она – Валя Лобзикова – казалась особенно женственной и очаровательно юной. Ее замечали сразу.
До того вечера на 51-й параллели, когда мы в первый и в последний раз поговорили с глазу на глаз, я часто видел ее на верхней палубе, где, не обращая внимания на качку и ветер, развлекались пассажиры-рыбаки: пересовывали с квадрата на квадрат, как маленьких детей, гигантские шахматные фигуры или с дикими выкриками день и ночь дулись на мокрой палубе в палубный хоккей.
– Пираты, на крючки! – орали в одной партии. – Бей по ногам, вали на абордаж, вываливай… О-го-го!..
– Двадцать… двадцать пять, – насчитывали в противной победоносные очки: удачно брошенная шайба накрывала желанный квадрат высшего значения.
Моя каюта была рядом, и бурный азарт игроков не раз подымал меня среди ночи. Потом крики утихли. И я стал слышать нежный и повелительный женский голос:
– Верни шайбу, Вовка! И среди пиратов бывают джентльмены.
Теперь игра протекала спокойней, хотя вокруг игроков теснилось еще больше народу. В игру включалась Валя, и вскоре ее признали чемпионкой. Любо было смотреть, как уверенно выигрывала партию за партией девушка – ловкая, на стройных ножках, обтянутых японским гимнастическим трико, весело разрумянившаяся, с веселыми и задорными глазами, на которые то и дело спадала прядь черных, модно подстриженных волос.
Иногда я видел Валю в одиночестве. Она подолгу стояла у борта, прислушиваясь к шуму волны, озирая океан, и право, издалека следя за нею, я чувствовал в девушке не обычную в этих случаях мечтательность, а, скорее, любопытство и нетерпение. Она провожала внимательным, изучающим взглядом больших, слегка покачивающихся на лету, спокойных буревестников, юрких нырков – маленьких смелых птичек, сначала с японских берегов, а потом с берегов Аляски и Канады. Иногда она появлялась в обществе молодого, прославленного среди рыбаков капитана, который шел на свой траулер. С капитаном я был уже знаком, беседы с ним, нередко принимавшие неожиданный оборот, многое объяснили мне, рассказали о рыбаках океана, кое-что я успел узнать от него и о Вале, но почему-то – странное дело – я все уклонялся от его предложения познакомить меня с нею.
И в тот последний вечер, еще на закате, я опять долго разговаривал с капитаном, и опять невольно наш разговор коснулся Вали Лобзиковой… Да, забыл я сказать, что Валя прежде никогда не видела не только океана, но даже широкой реки. Великие сибирские реки она увидела, переезжая через них по мостам, недавно, когда ехала из своей Пензы на Дальний Восток по оргнабору, ей было девятнадцать лет, и самым сильным впечатлением ее жизни было посещение Пензенской картинной галереи и Лермонтовского дома-музея в Тарханах.
С особенным удовольствием и не без сочувственной ухмылки капитан рассказал и о том, как однажды – еще девочкой – Валя сбежала из дому в Тарханы и, изнемогая от страха, все-таки заставила себя остаться на ночь в лермонтово-арсеньевском мавзолее, рассчитывая побеседовать в полночь с Лермонтовым. «Это же действительно очень страшно, – поразился я. – Подумайте – девочка!» – «Да вы сами поговорите с ней, почему не хотите знакомиться?»
Не знаю почему, но я чувствовал какую-то прелесть наблюдения со стороны и не хотел нарушать очарования, хотя и понимал, как было бы интересно познакомиться и поговорить с Лобзиковой. Подумайте! Девушка едет из Пензы, вопреки воле родителей, к тихоокеанским рыбакам – зачем? «Затем, – сказал мне капитан, – чтобы стать художницей». – «Зачем же непременно на Дальний Восток, в океан, на рыболовецкий траулер?» – удивился я. Но удивлялся и капитан. Деньги? – не без того. Девушка хочет быть самостоятельной, и она знает, что художником становятся не сразу. В Пензенском художественном училище, куда она мечтает поступить, стипендия скудная, а родители денег не дадут. «Но главное, как мне кажется, – рассуждал капитан, – главное – это все-таки какие-то веяния романтики. А какая тут у нас романтика! Вы тоже говорили рыбакам о романтике, я слушал эту беседу. Выставить бы вас зимой на балкон вашей московской квартиры и облить водой из шланга, вот тогда бы вы и почувствовали, какая романтика у рыбаков на промысловом судне или у китобоев… Кстати, Лобзикова идет не на траулер – на китобоец. Встреча с ним сегодня ночью… Вот и вы пересядете на траулер, хоть ко мне, – тогда попробуйте выстоять на слипе полчаса в шторм, ну, хотя бы баллов пять-шесть: волна перекатывается от борта к борту, ветер сдувает, а трал идет – нужно тянуть его… Добыча! Азарт! И рыбакам стоять на вахте не полчаса, а шесть часов, перерыв – умыться, поесть, поспать – и через шесть часов опять шесть часов вахты – двенадцать часов в сутки… Опять волна, пурга, дождь… Тут тебе не до восходов и закатов! Для всех – от меня, капитана, и до последнего матроса – романтика одна – улов! Игра! Очко! Сорвать банк! Идея одна – добыча! Вес! Все мы пираты: «О-го-го, давай на абордаж, на крючки! Сгребай!» И вот в этой промтолпе – уже знаете это словечко? – девушка будет прокладывать себе путь в Академию художеств, – капитан усмехнулся, я слушал его внимательно. – Нет, – продолжал капитан, – путь явно не тот. Какое тут художество и созерцание, тут та же игра, и играть будут теперь на нее… «О-го-го! Мораль? На абордаж!» Аморалка? Судком? И судкому трудно – души пиратов, – я-то знаю их. В шестнадцатом веке они шли к какому-нибудь знаменитому Томасу Блейку, а сейчас – в Дальрыбу. Кто они? Шоферы, лишенные прав; заскучавшие тунеядцы; недавние урканы без постоянной прописки… И среди них художница Валя! Краски заката. Мерцание глаз. Тревожно за нее… А что сделать? Я сам пират…»
Вот какой разговор был у нас с капитаном в тот вечер на закате.
Быстро стемнело. Долго слышались крики и вопли палубных хоккеистов, голоса Вали не слышалось.
Идти в каюту не хотелось, я пристроился в шезлонге, на юте.
Ночь удивительная простиралась вокруг. Я знал, что мы находимся в районе ветрообразования, отсюда начинают кружить тайфуны, но сейчас было тихо, безветренно, ясно. Я еще никогда не видел такого неба. Просто страшно становилось от ярких звездных скоплений над головой. Все было какое-то другое: и устрашающее обилие звездного света, и само ощущение ночи. Другой Млечный Путь – выпуклый, длинный – уходил, как гигантская мерцающая труба, среди россыпи звезд разной величины. Иные горели, то раздуваясь, то опадая, высоко-высоко, другие появлялись над самым горизонтом, как огни маяков, и чувствовалось: восход луны близко.
Вероятно, я все еще думал о том, что услышал от капитана, может быть, ждал, что вот-вот послышится голос Вали. Особенно поразило меня замечание, что девушку будут разыгрывать – о-го-го! – в хоккей, не в шахматы, а в хоккей. Может быть, я думал и о другом: вот уже несколько дней, особая, как мне объяснил радист, структура воздуха на этих широтах мешала принимать Москву… Я задремал, может быть, заснул.
– Совсем как в деревне, – услышал я Валин голос. – Не спите же, нельзя спать, послушайте: совсем как в деревне.
Я проснулся.
Действительно – меня будила Валя, будила настойчиво, взволнованно. Лохматая ее головка, блестящие глаза, ладошка, поглаживающая меня по плечу. Поблизости никого не было. На мгновение я почувствовал тепло ее щеки.
Слегка пахло духами. Шумел океан, веял ветерок, лаяла собака.
– Верно. Собака, – удивился я, – почему собака? Что это такое?
– Ну, вот и проснулись, – улыбнулась Валя, засмеялась. – Собака. Совсем как в деревне. Это мы пришли в точку, скоро стыковка. Я хочу с вами проститься… хотя мы и незнакомы, – добавила она. – Можно?
– Валя! Конечно, можно, я и сам хотел…
– Ну и почему же? Мне тоже так хотелось, – девушка замялась, – к вам. Вы так интересно говорили тогда о романтике. – Валя вспомнила мою беседу с пассажирами-рыбаками, о которой упоминал и капитан. – Вы правильно считаете: волнение души – и всё!
– Волнение души… Да, да…
Я начинал разбираться в действительности. Теплоход продвигался самым малым ходом. По-прежнему мерцало и искрилось небо высоко над нами, а справа по борту покачивались огни поджидающего нас судна. Дальше, в темной бездне, уже занималась заря, светло отделяя горизонт: луна собиралась показаться с минуты на минуту. Над океаном, как в деревне на околице, несся заливистый с повизгиванием собачий лай.
– С китобойца, – весело пояснила Валя. – У них там собачка. Даже видно, как бегает по палубе. Лохматая.
– Вы же сейчас туда?
– Туда, – отвечала Валя.
– И вам не страшно?
– Не должно быть страшно то, чего хочешь, – отвечала Валя.
– Ишь ты какая! А вдруг зажмут?
Девушка подумала, проговорила:
– Нет! Я смотрю на других… и на вас. Вы такой важный, а зачем отправились с нами? Разве не страшно? Качает, может похолодать, все бывает в океане. Зачем поехали? А я вам скажу, зачем, можно?
Я даже немного растерялся. Валя опять подумала, спросила:
– В Сидими были?
– Был.
– И в совхозе?
Я начал догадываться, что интересует Валю.
– И в совхозе.
– И в панторезке?
– И в панторезке.
– Видели?
– Видел.
Валя спрашивала: видел ли я, как срезают панты у оленей. Но мне было неясно, какое это имеет отношение к моменту, и Валя пояснила:
– Мне однажды попалось в книжке: для того, чтобы увидеть красивое, ну, достичь его, достичь цели, иногда нужно побороть страх, грубость или мерзость. Нужно уметь это. Я не понимала, как это так – через страшное красота. Но сейчас в Сидими увидела в панторезке, как сначала ловят и зажимают оленя, его страх – он ведь весь дрожит, – ужас, боль – у него ведь все в глазах… А потом… Помните, что потом? Ох, я никогда не забуду того внезапного оленьего прыжка из-под руки палача, когда его выпустили. Секунда – и в ноздри ему дунула воля! И как прыгнул он! Боже мой! Какая красота! Я все время сейчас об этом думаю.
– Понятно, – отвечал я.
Лайнер застопорил, лег в дрейф.
У борта плескала вода, хоккеисты затихли. Мы с Валей стояли плечом к плечу. Уже совсем близко покачивалось на волне ярко освещенное судно с пушкой на высоко приподнятом носу, и было видно, как по низкой его палубе среди китобойцев, стоящих в важных тяжеловатых позах, туда и сюда бегала лохматая собачонка. Она еще не угомонилась, но ее лай теперь казался миролюбивым, примиренным, созвучным с тихим плеском волны.
– Интересно, как ее зовут. Наверно, Бобик. Или Трезор. А может, Космонавт, – и Валин голос стал теперь задумчивым, как бы даже утомленным, – почему бы это?
Мы помолчали. Мне было приятно и тревожно рядом с этой девушкой. Тепло ее щеки теперь, конечно, мне уже только чудилось. Зачем эта встреча? Этот разговор, эти волнения, какая-то непростая заинтересованность в чужой женской судьбе? Странно – почему бы это? Откуда? Нужно было что-то говорить, девушка, несомненно, ждала этого, но от всего, что случилось неожиданно и не просто, так же не просто было произносить какие бы то ни было слова. Странно, конечно! И я почувствовал облегчение, когда девушка сказала сама:
– Ну, вот мне и пора. Смотрите: там уже спускают шлюпку. Сейчас придут.
– За вами?
– Да, и за мной.
– И вам все-таки не страшно? – все, что нашелся я промолвить.
– Я уже сказала вам, – сердито отвечала девушка. – Не должно быть страшно. Пойду!
– У вас уже готово?
– Готово. Алексей Ефремович сидит на чемодане, а я вот так, как есть, – и девушка провела ладошками сверху вниз, от нежной оголенной шеи к коленям, обтянутым все тем же тонким гимнастическим трико, тряхнула головой, гибко нагнулась и, подняв что-то от палубы, протянула мне: – А это – вам. На память. Спасибо!
– Что это?
– Моя любимая штучка. Она давно у меня, была еще школьницей. Возьмите. Если интересно, Алексей Ефремович расскажет вам, откуда она. Я ему рассказала. А брать ее с собою не нужно, нет, не нужно, пусть лучше вам на память… Прощайте! Спасибо!
Если бы даже я и хотел вернуть подарок, я уже не мог этого сделать: девушка стремительно сбежала по трапу вниз, на спардек, ушла.
У меня в руках осталась мраморная головка мадонны – тонкой, очевидно, старинной работы.
На палубах уже начиналось то оживление, какое всегда бывает на судне в случаях рейсовых происшествий, и, как всегда, главным в этой беготне, переноске вещей среди боцманских приказаний и окриков было приготовление к передаче почты: мешок с письмами китобой доставит к себе на флотилию, ящички и тючки с посылками. Матросы были довольны, что китобоям предстоит такое удовольствие.
– Пульсирует! – радостно воскликнул матрос, добавляя еще один тючок и прощупывая его.
Пульсирует – еще бы!
Бот подошел, и его вздымало волной у борта. Уже подавали концы. Крики. Приветствия. Здоровенные парни в кожаных шапках-штормовках, в оранжевых спасательных жилетах нетерпеливо перекликались с нами.
Сбросили штормтрап, и немедленно – один за другим – китобойцы, как пираты, стали взбираться на богатое наше судно – лайнер. Люди, которых забирал китобой, толпились тут же на спардеке, спускали в бот свои вещи. Но Вали среди них не было видно. Китобойцы с поразительной находчивостью зашныряли в лабиринте палуб, ходов, трапов и отсеков большого пассажирского лайнера в поисках бара и водки.
Начали сгружать почту, людей, направляющихся на китобойную флотилию. Вали все не было.
Я увидел Валю позже, когда она, вдогонку за повеселевшими парнями-китобойцами, перекинувшись через фальшборт, начала быстро, смело спускаться по зыбкой канатной лесенке, крепко ухватывая пальцами ступеньку за ступенькой. Почему-то мне вспомнилось, как в детстве мы, сорванцы, ухватывались за длинный канат, кружась на гигантских шагах, взлетая с замиранием сердца на воздух. «Волнение души», – пробормотал я.
Мы разошлись с китобоем при высокой полной луне.
Все еще слышался над океаном утихомиренный лай. Вероятно, Валя теперь поглаживала собачку.
– Она плакала у меня в каюте, – вдруг сказал Алексей Ефремович.
От неожиданности я переспросил его:
– Кто плакал?
– Лобзикова. Плакала, черт бы ее побрал, совсем расстроила. Такая же сумасшедшая, как все вокруг.
Что мог на это сказать я?
Мы с капитаном снова сидели на юте в шезлонгах. Снова на полном ходу шелестела за бортом, переливаясь под луной, волна. Над головами, полное огненной и безмолвной жизни, простиралось небо, на востоке залитое теперь лунным сиянием. Далеко за кормой еще виднелись огоньки китобоя. Они ходили вверх-вниз и покачивались вместе со звездами – усиливалось волнение.
Алексей Ефремович мог бы рассказать мне о происхождении мраморной головки, оставленной Валей, но почему-то не хотелось расспрашивать его об этом – так же, как прежде не хотелось мне, чтобы он знакомил нас с Валей. Может быть, головку эту Валя подобрала в фамильном склепе в Тарханах в ту ночь, когда осталась там для разговора с Лермонтовым.
Странно все это, конечно, очень странно, но, может быть, правильно было желание не побуждать больше капитана к воспоминаниям о Вале Лобзиковой.







