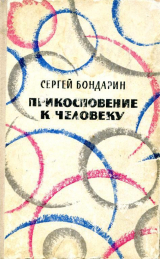
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц)
Вот какое завещание слышал я от Бабеля. Больше ничего не хочется мне прибавлять – разве только одно.
Чутко, всей душой, всем талантливым умом своим он умел слышать, как вокруг нас шумит время, понимал шум, выискивал причины и старался установить следствия.
ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ, ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ О ПРЕКРАСНОМ БЕРНАРЕ
Паустовский вернулся из Франции.
Как-то много лет тому назад мы вместе мечтательно рассматривали план Парижа в превосходном французском издании.
Излучина Сены, названия многих знаменитых зданий, улиц, площадей и мостов, воображаемые перспективы бульваров, полных движения и красок, воображаемый плеск реки – все это во многом было для меня ново, первоначально, но имело то же очарование, которое производит незнакомая и трогательная песня издалека или музыка, вдруг услышанная из чужого раскрытого окна.
Константин Георгиевич, однако, уже тогда хорошо знал все эти названия, он изучил план Парижа назубок, а вернее сказать – все-таки на глазок, – все помнил он безупречно-отчетливо и так же ревниво, как взволнованный художник в своем воображении оберегает план любимого творения.
В те годы, случалось, не раз мы играли в незамысловатую игру: кто-нибудь из нас – иногда Ильф, заливающийся при этом румянцем, иногда Багрицкий, а чаще всего сам Константин Георгиевич – совершал прогулку или шел в гости к другу, допустим, с Рю Бонапарт, находящейся на правом берегу Сены (Рив друат), в какой-нибудь квартал левого берега (Рив гош).
Надо сказать, не только романтически пленяли и манили к себе, но и многому учили великие истории великих городов и людей.
Конечно, подобная незатейливая игра была не только забавой и не только для нас, разновозрастных друзей Паустовского, – скажите, кто не уносился, не «уходил» в молодости на острова Тихого океана или хотя бы из захолустной Тотьмы или сонного Херсона в Москву, в Ленинград – иногда и на самом деле с котомкой за плечами.
Помнится, тогда же как-то мы заговорили о великой и величавой силе преемственности, о сочетании времен и пространства, о самом светлом богатстве человечества, самом сверкающем и всенародном. И мы сравнивали это золото с золотом той волшебной цепи, которое помогает не одному только пушкинскому коту и говорить и петь. Легкий звон этого золота понятен на всех языках. А наша задача, сказал тогда молодой Паустовский, сделать его понятным и желанным и для юных и для старых, и если уж для неудачников, то тем более понятным и вразумительным для людей удачливых, способных в своем преуспеянии преступно забыть об э т о м богатстве.
– Будет все, – умиротворенно говорил тогда Константин Георгиевич. – И мы будем здесь, – он близоруко рассматривал карту. – Мы пройдем по этим местам и бульварам, будем в Марселе и посетим солнечные бухты юга Франции… Представляешь ли ты их себе? Эти причалы, этот скрип маленьких рыболовецких шхун, эти чудовищные стены и башни, возносящиеся над гаванью, оставшиеся от римлян и крестоносцев?.. Не напрасно человека тянет его душа то туда, то сюда, нет, не напрасно, думаю я! – И продолжал своим милым, тихим голосом, уже тогда отдающим астматической хрипотцой. – Я иногда думаю, – продолжал Паустовский, – что и Пруст и Мопассан – они тоже знали о нас, как мы знаем о них. Тут нет ничего странного. Ведь всех нас роднит общее, одно и то же понимание главной задачи жизни, один общий труд и общая смелость, почерпнутая у народа. Ведь как раз это – труд и смелость – самые сокровенные, самые важные открытия души. Смелость души, ее полет. Что может быть смелее сказок? И кто сделал это открытие в самом себе, тот побывает всюду… а к тому же, – добавил Константин Георгиевич, – к тому же я по призванию матрос. Помнишь ли Бернара? – неожиданным вопросом закончил Костя. – Бернара, старого матроса, мопассановского друга?
Стыдно сказать, но я в то время не только еще плохо разбирался в направлениях парижских бульваров – я впервые услыхал тогда имя Бернара, старого моряка из Антибов, верного друга смертельно больного Мопассана. В Париж к доктору Бланш он уехал прямо с борта своей «Бель Ами», на которой и служил матросом Бернар.
Но Паустовский, как мне теперь совершенно ясно, никогда не забывал не только залпы у Стены коммунаров, не только Мопассана, – он навсегда полюбил образ простодушного друга Мопассана – простолюдина Бернара. Все это я понял после вчерашнего разговора.
Вчера мы опять сидели над планами и цветными картами прекрасной страны, заманчивой для каждого, кто хотя бы немного о ней услышал; и среди ненасытного разговора о Франции я наконец осторожно сказал:
– Богатство! Конечно, верно, что богатство бывает разное. Но что можно было бы привезти оттуда как самое ценное впечатление поездки?
Да простится мне и этот, вероятно, не совсем деликатный вопрос и дальнейшие неизбежные признания.
Ответ последовал поразительный, в нем, должно быть, заключался отклик на вопрос о том, что же «путешественник в прекрасном» считает осуществленным, какие мечты оправдались, чей образ сохраняется в душе ярче других.
Ответ был поразительный именно тем, что на этот раз я услышал не о бульварах или чреве Парижа, не о Золя или Мане, не о том, что так весело рисовалось в молодости, – и право, теперь я еще больше люблю Константина Паустовского: я лучше понял человека и смелее могу благодарить его, старшего друга, за долгие годы душевного соседства, дружбы и познания.
Вот что ответил мне Константин Георгиевич, передаю слово за словом:
– С каждым годом наново и все сильнее – а кажется, куда уж больше! – волновал меня маленький рассказ Бунина «Бернар». Помнишь ли его? Послушай (не удивляйтесь, многие страницы прозы Паустовский знал наизусть): «Дней моих на земле осталось мало», – пишет Бунин. И при этом, – продолжал Паустовский, – он незаметно присоединяет к словам Мопассана свои новые звенья волшебной «Златой цепи», перебирая их руками… И, знаешь, не так уж важно, где говорит Мопассан, а где – Бунин, а где – уже и твои собственные мысли. Тем лучше, если получается именно так… Но послушай дальше:
«Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен к чистоте и порядку, заботлив и бдителен, чистосердечный и верный человек, превосходный моряк…»
Не один раз они вдвоем с Мопассаном видели, как в далеком небе над Ниццей зажигались «каким-то особенным розовым огнем» снежно-белые хребты Верхних Альп. Они любили этот «легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается»…
Потом Мопассан умер… Потом умер Бернар. Нет ни Мопассана, ни Бернара, и теперь рассказывает уже другой человек, тот, кто видел Бернара незадолго до его смерти:
«Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького антибского порта, где так часто стояла мопассановская яхта «Бель Ами». Он умолк навеки. Последние слова матроса были: «Думаю, что я был хороший моряк»…»
Но вот послушай дальше, – все тем же медлительным тихим голосом заканчивал свою мысль Константин Георгиевич. – Дальше Бунин говорит: «Я живо представляю себе, как именно Бернар сказал эти слова. Он произнес их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой… А что хотел он выразить этими словами? – спрашивает Бунин – и отвечает: – …Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл… И Бернар знал и чувствовал это… В море все заботило Бернара. Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части… Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему? Но ведь бог любит, чтобы все было хорошо…»
И вот, послушай!..
Константин Георгиевич заметно устал.
– Мне кажется, – упавшим голосом заключил он, – что я, как художник, заслужил право сказать о себе нечто подобное тому, что думал Бернар.
Я не сразу понял, какое отношение имеет все это к впечатлениям от поездки по югу Франции.
Паустовский затих и, прищурившись, чему-то улыбался, а может быть, так только казалось. (У него было такое выражение доброй задумчивости, когда морщинки привычно-ласково сбегаются к уголкам глаз.)
Возможно, ему снова мерещились человеческие голоса и удар волны о камень в небольшой пестрой, рыбацкой гавани, забитой лодками и баркасами до отказа. Слегка покачиваются мачты, а над мачтами шхун возносятся циклопические стены и башни, построенные римлянами или крестоносцами. Отсюда уходили крестоносцы в походы на Восток…
Не сразу все стало понятно.
Но теперь мне понятен смысл иносказания, и мне хочется, чтобы это поняли и другие, чтобы все мы, люди, благодарные Паустовскому за его талант, за его доброту и искренность, за смелость самых трудных открытий и откровений, благодарные за постоянство его усилий, направленных к тому, «чтобы все было хорошо», хорошо понимали его, понимали бы совершенно.
Мне кажется, этому поможет еще одно признание:
– Легко ли? Боюсь, что и этим богатством владеть трудно, не разберешься и в нем… Нет, так не прожить, – усомнился я.
И Константин Георгиевич ответил:
– Не страшно! Непременно жить так, как жил Бернар. Всегда надо слышать звон той цепи, которая помогает нам и в поэзии, и в жизни. Но до сих пор, прислушиваясь, я писал о том, как я жил, теперь буду думать о том, как я хотел бы жить.
Вот о чем говорили мы с глазу на глаз.
СВИДАНИЕ
Говорят, что поэзия – это чувство наших утрат, утрат и возвращений.
В девятнадцать лет, однако, предвидеть не умеешь. Между двумя свиданиями с Катюшей я успел разболтать все, а когда понял, какое зло учинено, уже ничего нельзя было поправить.
До последнего дня Митька Шухман продолжал доставлять мне сведения о ценах на номера в «Аполло», «Британии», «Большой Московской». Он докучал мне своими наставлениями и за все это требовал лишь одного – такой же цинической откровенности.
Мне неприятна была участливость моего друга, но от того, что случилось, я терял голову и понимал только одно: не обойтись мне без чужой помощи.
– Отвечай толком – как она сказала? – приставал ко мне Митька.
– Ну, что сказала? Сказала, что согласна.
– Согласна – придет вообще или согласна – пойдет в гостиницу?
– Не знаю, – отвечал я.
Об этом я действительно не думал.
– Был тюфяком, остался тюфяком. С тебя и какой-нибудь шмары довольно, а не то что Стрешневой. Где обхождение? Мурло – да и только!
Я понимал, что он прав. Я и без Митькиного зубоскальства удивлялся тому, что произошло. Как случилось это между нами? Почему счастливцем оказался именно я, а не кто-нибудь другой – хотя бы тот же Митька Шухман, прославленный хавбек и яхтсмен, имеющий шестнадцать жетонов, заграничные галстуки, идеальный лакированный пробор?..
Роман с Катюшей Стрешневой быстро развивался и теперь вступал в решающую фазу. Не могла дольше продолжаться эта неопределенность с ее судорожными паузами в речах и в движениях, с унизительностью недомолвок, с головокружением от ее, Катюшиной, близости, с бессонницей по ночам. Дальше так продолжаться не должно. Нет, конечно.
– Катя! – сказал я ей. – Катюша, я не могу больше так.
На стадионе было уже почти пусто. Матч женских волейбольных команд, в котором участвовала Катюша Стрешнева, закончился давно, кончился и первый в эту весну футбол. Публика уже разошлась, лишь спортсмены дожидались своих товарищей, не успевших переодеться; их голоса звучали громко и чисто. Вокруг все готово было брызнуть первой зеленью – сырая земля, кусты, напрягшиеся ветки деревьев.
Катя промолчала, я повторил:
– Я не могу больше так, Катюша…
И голос мой прозвучал глухо, неправдиво. Получилось совсем не то, чего я хотел и чему учил меня Митька. Опять эта судорожная, холодящая пауза, глухота недомолвки вместо грубого, решительного требования мужчины, но девушка поняла меня. Она сказала, отнимая у меня свою руку:
– Ах, какая я трусиха!
Митька Шухман, вбивший сегодня два мяча, уже шел к нам в белых бутсах, с баульчиком в руке и в красном галстуке.
– Если нет, я больше не приду, – проговорил я.
– Как я презираю себя, – сказала Катя, потом добавила: – Хорошо. Семнадцатого.
– Здесь? – спросил я, покачнувшись от неожиданности.
– Если хочешь, здесь, – еще тише отвечала девушка.
– Привет! – прокричал, подходя к нам, Шухман, и я сразу возненавидел его.
Он хвастливо заговорил о том, как удалось ему сегодня обмануть вратаря.
– А ты падай вовремя и в тот уголок, куда бьют, – сказал он назидательно.
– Что-то очень глубокомысленно, – возразил я, чувствуя в этом какой-то намек.
– Ха, вы, кажется, поцеловались, – продолжал Митька. – У вас такой вид.
– Лишь бы не такой дурацкий, как у тебя, – все, что я смог ему ответить.
Катюша молчала. Мы вышли к трамвайной остановке. Она попросила не провожать ее. Улыбнувшись, она вспрыгнула на подножку и помахала нам свободной рукой. Она стояла вполоборота к нам, тесно сжав ноги, каблучок к каблучку.
В этой девушке было все, чего может пожелать потревоженное воображение.
Жадно и недружелюбно Митька спросил:
– В самом деле, дорого́й, что у вас произошло?
Я выдерживал характер два дня, на третий пришлось все рассказать: через день предстояло решительное свидание, а у меня не было ни денег, ни твердого плана. Сдавшись, я получил в тот же вечер сводку цен на номера в гостиницах, а накануне, семнадцатого, подняв меня с постели, Шухман передал мне червонец.
– Цени, гад, – прошептал он при этом.
За ширмой спала старшая моя сестра.
Вернувшись в постель, я долго не мог уснуть – как вчера и как позавчера – и лежал, слегка испуганный серьезностью того, что произошло. Иногда я вздрагивал от воображаемой близости Катюши, от учащенного сердцебиения, от нового для меня сложного чувства тайны страха и счастья. Не может быть, чтобы она обманула меня…
Апрельские ночи на юге теплые. За полуоткрытыми окнами шуршал медленный дождь – прошелестел и затих; но беззастенчивое сопение Маши, моей сестры, продолжалось; прежде я не замечал его, сейчас оно раздражало. Я лежал, как больной, не в силах уснуть. Все перепуталось в моей девятнадцатилетней душе. Получив деньги, я остался с глазу на глаз со своим замыслом, действительность приблизилась, и теперь это было вовсе не то, что переживал я полчаса тому назад. В прежние ночи казалось, что я выскользнул из привычного в новый, просветленный мир, но сейчас все реальное возвращалось, мстительно овладевая душой.
С темного неба в окно смотрела круглая маленькая луна. Я ворочался, дурил и потел. Уйти было некуда. Проснувшись, Маша заворчала, что это безобразие – курить среди ночи, и так дышать нечем.
– А ты не храпи, – зло возразил я.
Наконец я заснул, но своей тревоги не переспал; когда я проснулся, в душе было все так же нехорошо и тревожно.
За это время на дворе позеленело. Кричали дети, чирикали воробьи. Маша еще спала. Я оделся, стараясь не видеть смятых ее чулок, небрежно сунутых в туфли.
Этот день посвящался мне, но ликования не было.
Я слонялся по городу, избегая встречи с Митькой Шухманом. Теперь мне стало понятно, что так язвит меня: день, который принадлежал мне, я делал днем Митькиного увеселения.
Встреча с Катей была назначена на шесть. Я успел несколько раз пройтись мимо «Большой Московской», но в конце концов выбрал «Аполло»; с тихой улицы каменные ступеньки вели в небольшой холл; спокойный старик, похожий на часовщика, писал за своей конторкой. Он даже не посмотрел на меня, когда я стал разглядывать доску с фамилиями приезжих.
И запах старого, полутемного помещения успокаивал, внушал доверие.
Митька советовал снять номер заблаговременно. На этом он особенно настаивал, но я решил поступить вопреки Митькиному наставлению, хотя, отойдя от гостиницы, и пожалел об этом.
Как сложно, затруднительно и туманно было все впереди. Времени, однако, оставалось уже в обрез, нужно было действовать, если я решился на борьбу с Митькой…
Не сомневаясь, что Митька рыщет по стадиону, в пять часов я стоял против ворот дома, в котором жила Катюша.
Она появилась в красной фетровой шляпе. Под расстегнутым красным пальто было видно белое платье, несколько, пожалуй, короткое для ее возраста. Она переступила через высокий порог калитки и, заложив руки в карманы, быстро пошла вдоль улицы. На одну минутку я испытал то состояние, в котором позволительно было все, потому что все было просветлено.
Нагнав ее, я позвал:
– Катя!
Она обернулась.
– Скажите, он тут! Здравствуй!
– Перейдем на ту сторону, – пробормотал я в замешательстве.
– Пойдем. Ты давно?
– Да нет… а впрочем, давно.
– Ну, сколько?
– Не знаю. Не очень давно. Ты шикарная.
– Что? Шляпа?
– Да.
– Тебе нравится?
– Конечно. У тебя нет спичек?
– Нет, спичек нет.
– Действительно, откуда у тебя спички? Глупо.
Мы перешли через улицу.
– Ну, куда мы пойдем? – спросила Катя.
Я сломал папиросу и взял другую.
– На стадион не хочется, – отвечал я неопределенно. – Пойдем так.
– Попробуй – влезет в карман? – она взяла мою руку в свою и сунула ее в карман пальто. – Влезла. Хочешь, пойдем ко мне?
– К тебе?
– Да. Сегодня никого нет.
Она смущенно тряхнула головой и зарумянилась.
– К тебе! – повторил я. – Ха, это, пожалуй, интересно. – И с этой фальшивой ноты началась подлость.
Катя быстро оглянулась, но все же не поняла меня. Мы шли молча. Я вспомнил старичка в гостинице «Аполло». У ворот дома я вынул руку из Катюшиного кармана. Пропустив Катю вперед, я всунул руки в собственные карманы, и девушка прошла впереди меня через двор.
Я почувствовал облегчение, когда мы ступили на темную лестницу. Катя вынула ключик и отперла дверь.
– Ну вот… входи.
Ключик застрял в замке.
Едва ли прежде могло случиться так, чтобы в тишине, оставшись вдвоем, один из нас не пожал руки другого. Но вот дверь захлопнулась, а я сказал:
– Так-с… значит, ты одна, – и почувствовал на своем лице глупую, резиновую улыбку.
Катя, не зная, видимо, что делать дальше, остановилась в передней перед зеркалом, поправляя рассыпавшиеся волосы. Пальто и шляпа уже брошены на столик.
От моих шагов зазвенела стекляшка на люстре в большой тяжелой столовой. Катя, очевидно, почувствовала мою неуверенность.
– Они уехали в «Аркадию», – объяснила она, – чудная погода.
Я заметил:
– Живешь шикарно.
– Я и прислугу выпроводила, – продолжала Катюша. – Пройдем ко мне в комнату.
Тут все было неожиданным. Я никогда не видел таких комнат. Перед окном сияла ярко побеленная стена, местами осаждаемая порослью дикого винограда, и тут, в комнате, необыкновенно опрятны были столик с туалетными принадлежностями, полка с книгами, небольшой шкафчик и узкая постель. К накидке была приколота пунцовая шелковая роза.
Катюша села.
– Канапе, – угрюмо сказал я, потоптавшись.
– Что? – удивилась она. – Канапе? Нет, это не канапе – диванчик. Может, тебе не нравится тут?
– И Северянин тут же, – констатировал я, осматривая полочку с книгами.
– Ты садись, – сказала Катя. – Отдохни чуточку.
– Чуточку? Ну и словцо.
– Посидим и пойдем, – неожиданно тихо сказала Катя. – Вот я только напьюсь воды.
Я шагнул к ней.
– Ты хотел покурить, – опять сказала она. – Вот спички.
То, что произошло дальше, я могу объяснить себе только одним: ничего не дается незаслуженно.
Справедливость подстерегла меня и здесь, только она не вполне уследила за мной.
Но я уже был безопасен. Лишь на мгновение, когда я склонился над Катей, чтобы взять коробочку спичек, она слегка побледнела, опустила руки, и в ее глазах еще раз просияло то, что позволило ей впустить меня к себе в комнату с таким простодушием; и она еще ждала от меня того же.
Катя сидела, опустив руки, колени ее были обтянуты полотняной накрахмаленной юбкой, и, когда я приблизился, она, глядя мне в лицо, откинула назад свою голову и улыбнулась, приоткрыв губы. В ее больших сияющих глазах были доброта и спокойствие, и в моей жизни это было в первый раз, и Митька Шухман учил меня, что происходит это иначе…
Митькина рожа в белой капитанке с крабом мелькнула в моем воображении, этот наглый взгляд и усмешка… Минуту-другую, жадно глотая дым папиросы, я еще нес какую-то чепуху про бонбоньерку на туалетном столике, про Игоря Северянина и мещанство, и бессилие мое язвило меня все больше.
Девушка теперь уже изумленно следила за тем, как, подойдя к шкафчику, я вдруг распахнул дверцу. С тем же блеском остроумия я мог, конечно, выдернуть цветок из горшка или стащить манжеты хозяина дома… Зачем я это сделал? Легкие платья покачнулись, повеяло неведомым, необыкновенно приятным, но опять я сказал не то, что хотел.
– А чулки впихиваешь в туфли, – сказал я. – Вместе с подвязками…
– Что?
– Вот, конечно, ты и сопишь…
– Закрой шкаф! – повелительно сказала Катя. – И вообще вам, кажется, здесь не по духу.
– Ну-ну, что вы, – возразил я. – Это не так.
Девушка дышала возмущенно и шумно. Под вздрагивающим вырезом платья я увидел ее грудь. Совершалось чудо: там, как в сказке, влекуще раздваивались завороженные яблоки такой же восковой чистоты и зрелости, как все тело – шея, плечи.
«Катя!» – чуть было не прокричал я, но опять проделал совсем не то, что чувствовал: я подошел к девушке с папироской в зубах и взял ее за руку.
– Пусти! – проговорила Катя. – Пустите!
И тут я начал понимать, что уже ничего не исправить.
Да, я понял, что все кончено. Но, слава богу, не случилось и того, чего я все же смутно опасался. Я еще щеголевато постукивал носками своих сапог, делал какие-то жесты, а прощенья уже не было.
Не произнося ни слова, озаренная гневом, девушка смотрела мне в лицо, и я не мог не взглянуть ей в глаза. Взглянув, я отвел взгляд, опустил голову.
Я стоял недолго, слушая тишину большой пустой квартиры, дальше стоять было незачем, и вот бесшумно и почтительно я вышел из дома.
Благодарю судьбу, что хоть в эту минуту я сделал то, что следовало сделать.
– Канапе! – пробормотал я за дверью.
Но что же возвращено мне после этой утраты?







