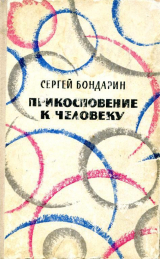
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
Одно за другим являлись первые кунцевские стихотворения. Широкую известность приобрела «Дума про Опанаса». В «ЗИФе»[2]2
«ЗИФ» – издательство «Земля и фабрика».
[Закрыть] вышло первое издание «Юго-запада» в стильном переплете с гравюрой Дюрера, изображающей средневековую мужскую баню.
Выбор был сделан по совету В. И. Нарбута, в то время заведовавшего издательством. Нарбут считал, что Дюрер соответствует духу сборника.
Многие, однако, недоумевали и спрашивали:
– Почему к стихам баня и какая же это баня, где тут вода?
Багрицкий, посмеиваясь, отвечал:
– Не сомневайтесь – это баня. Вода? Вода там, раскройте книжку.
Багрицкий стал желанным гостем в любой московской редакции.
Домик в Кунцеве, третий после пристанища у Рябой Маньки, домик, принадлежащий «человеку предместья», у которого семья снимала две комнатки, охотно посещали видные писатели и поэты.
Да, любое издание открывало теперь свои страницы стихами Багрицкого, но упорная, скрытая дума поэта все еще не была кончена. Вопрос, беспокоивший Багрицкого при создании «Летучего Голландца», не переставал беспокоить его.
Многие современники Багрицкого признают за ним главенство. Это случилось как-то сразу и безоговорочно, и над этим тоже интересно задуматься.
Профессиональный авторитет? Несомненно. Обаяние личности? Конечно. Неудивительно тяготение к талантливому человеку. Но вот что мне кажется еще: тут очень влияло то новое ощущение профессионализма, которое вносил Багрицкий в московский литературный быт. Как иногда говорил он сам, он явился «всем кодлом», семьею, домом – и сразу внес новизну в представления о поэте и его труде. Это было и ново, и странно, и привлекательно.
Багрицкий и литература стали ходить друг к другу в гости, и это сразу придало знакомству особенный характер. Такое знакомство очень нравилось, особенно молодым. Тут прозвучал ответ и на беспокойные вопросы друзей Багрицкого в первые дни его женитьбы: как же теперь писать стихи?
Ну, а в нем самом, в динамике его творчества как начали сказываться житейские перемены? Тут, в Москве, Багрицкий нашел свой дом, тут развилось в нем то чувство, что так значительно и важно выразилось в ряде стихотворений – и в «Ночи», и в «Можайском шоссе», и в «Доме», и в «Бессоннице»… Тут утверждалось желанное и любимое прибежище поэта после всех трудных, буйных, старых и новых, унаследованию покаянных и прозорливых видений и признаний, и тут же, в бревенчатом домике Подмосковья, на новой, как принято говорить, родине, – начало новых размышлений и бурного и усидчивого вдохновения:
Вот они, сбитые из бревен и теса,
Дом мой и стол мой: мое вдохновенье!
Важная особенность самочувствия поэта, круто изменившего свой прежний быт, оставившего город своей молодости для столичной Москвы, которая не обманула его ожиданий…
Это как раз время публикации «Думы», а потом выхода в свет «Юго-запада» и первого горделивого «обогащения» семьи, позволившего Эдуарду растратиться на поездку. Цель поездки – щегольнуть и купить у испытанных одесских рыбоводов те породы, о которых Эдуард мечтал с юности. Но, пожалуй, самое интересное в этих письмах из Одессы – сдержанность и скупость, с какими Багрицкий, окрыленный успехом, даже в письме к жене говорит о главном событии жизни каждого писателя:
«Одесса, 10 июля, 1926 г.
Дорогая Лида!
Промучившись трое суток в дороге, разбитой, покрытый пылью, я приехал в Одессу. Уже день, как я здесь… Тоска и лень. Сплетни и ссоры. Больше ничего здесь нет. Денег у меня рублей пятнадцать, остальные истратил. Вероятно, достану еще в редакции. Думаю выехать не позже вторника.
Смотри же, Лида, корми птиц. Целую Севку.
Э д я».
Через несколько дней, 22 июля, Багрицкий писал – на этот раз в Одессу из Кунцева:
«…приехал и страшно рад! Не жарко, есть работа, веселые хорошие люди и все такое…»
А почти через два года, в апреле 1928 года, Багрицкий снова навестил одесских друзей – и спешит оповестить Лидию Густавовну, оставшуюся дома, в Кунцеве:
«Если будут звонить любители, то сообщи им, что рыба есть, и очень интересная, но мало и дорогая. Сообщи им: есть черные и красные меченосцы, ривулюсы, полиаканты, орданелла, меченосец монтезуло, маллинзия парусовидная… Привезу новых тетрагоноптерусов, очень интересных…»
Вот тут-то, в этом-то письме, переполненном названиями рыбок, Багрицкий сообщает между прочим, имея в виду «Юго-запад»:
«Книжка дошла до Одессы, но распространяется слабо. Вышли, бога ради, деньжат для того, чтобы я мог взять рыбу и вернуться домой 2-м классом. На третий я не способен! Пусть приведут в порядок большой аквариум. Нажимай на «ЗИФ». Брынза, сосиски и колбасы очаровательны. Есть ли какие-нибудь рецензии на книжку?..»
Муза Багрицкого не была похожа на девушку кисти Боттичелли, нет, скорее это была муза в духе Анри Руссо: поэт с цветочком в петлице держит руку супруги, как на свадебном снимке, как на семейном портрете.
Сочетание богемности с семейственностью оказалось привлекательным. Богемность не мешала и Багрицкому ценить людей другого типа, таких, каких он не встречал прежде. Он любовался в людях их внешним видом, например галантностью, приличием, выдержкой Луговского, хотя и тут не удержался от меткого словца – называл Луговского «бровеносцем». Эдуард отличал в Иосифе Уткине новую для той поры черту – склонность молодого поэта хорошо одеваться и неприязнь к развязности, панибратству, весьма распространенным среди молодежи, долгое время казавшимся естественным и обязательным признаком революционности…
Что помогало Багрицкому почти безошибочно угадывать людей способных, талантливых? Ведь широко известно, как много он успел сделать в этом отношении. Среди более чем ста сохранившихся рецензий на сборники стихов молодых поэтов есть и прозорливые рецензии на первые или ранние стихи Дмитрия Кедрина, Алексея Суркова, Александра Твардовского, на книгу Лапина и Хацревина «Сталинабадский архив», сочетающую прозу с отличными стихами. И Твардовский не ошибался, когда позже, вспоминая отношение к нему Багрицкого, писал:
«По-видимому, он обладал и добрым сердцем, и той обширностью взглядов в литературных делах, которая позволяла ему отмечать своим вниманием работу, казалось бы, совершенно чуждую ему по духу и строю».
О молодых поэтах Эдуард всегда говорил с воодушевлением. Любопытная черта: когда Багрицкий о ком-нибудь говорил плохо, это звучало неубедительно, хвалил всегда убедительно. А еще удивительней он говорил о самом себе. Скажет: «Это написано плохо. Плохо пишу», – и в словах ни доли кокетства. Редкая способность судить о себе и скромно и искренне.
Стараясь сжато выразить, что было общим для всех этих отзывов, для всех «путевок в литературу», можно сказать так: он радовался появлению стихов, в которых чувствовал отзвук времени, борьбу нового со старым, разумеется при условии обязательного качества – поэтического таланта.
И от себя и от других Багрицкий требовал трудолюбия, разумной ответственности, безоглядного напряжения сил. Он говорил:
– Сен-Жюст в Конвенте утверждал: «Равнодушие – это страшный удар для республики». Надо карать не только преступников, но и равнодушных. Не должно быть равнодушных и у нас, – говорил Багрицкий, – в нашей поэзии. Мы должны доискиваться до корней действительности. Уметь разбираться в противоречиях, жить творчески со всею страной… Это дается не сразу, я-то хорошо это знаю, и может быть, как раз поэтому мне дорог и близок человек сегодняшний. Но не тот, кто отделывается лозунгом, одною злободневностью, а тот, кто и чувствует и думает глубже… Легко прибегнуть к готовому лозунгу, но это та же маскировка равнодушия…
И дальше мысли сводились к тому, что пора, дескать, молодежи смотреть на себя серьезно. Только через сознание собственного достоинства, уважение к делу можно возвысить работу «молодняка» до уровня признанной литературы.
– Напрасно Уткина хают. Воронский написал о нем: «Не поэт, а драгоценная ваза, идет и боится себя расплескать». А мне нравится эта черта в Уткине, – продолжал Эдуард с оттенком восхищения и даже легкой зависти. – Он держится, как Байрон. Как лорд. Это хорошо. Поэт должен быть таким…
– Хлебников ходил в мешке, – возразили ему однажды.
– О! Это вы знаете, – последовал ответ, – но не знаете, душенька, что в мешке он ходил не всегда. В свои студенческие годы он ходил не в мешке, а в сюртуке на шелковой подкладке. И писал при этом революционные стихи и предсказывал даты революции.
Багрицкий и сам старался одеваться элегантней, хотя и не изменял своему вкусу к простой, несколько военизированной одежде. Бекеша была уже не по плечу, он приискал кожаное пальто, всегда на людях был при галстуке… А ведь все-таки была пора, когда приходилось выступать «в защиту галстука».
По всей своей натуре Багрицкий был расположен к веселому времяпрепровождению, а в молодости даже не прочь был прикинуться забулдыгой. Еще бы, ведь это соответствовало тому образу поэта-песнотворца, который привлек его душу в легендах о Тиле Уленшпигеле.
Никогда не мешал Багрицкий создавать в своем присутствии атмосферу шутки, веселых выходок – и даже способствовал этому. Чего стоит одна «история с телеграммой»! Но вот когда Севка подрос и приблизилось время определить его в школу, супруги Багрицкие вспомнили, что рождение сына не зарегистрировано. По этому поводу Ильф острил:
– Ваш сын существует только де-факто, де-юре его нет.
В загсе на бланках в графе о национальности уже были готовы ответы: русский… еврей… украинец и так далее. Отец Всеволода Багрицкого, отвечая на этот вопрос, написал: чех.
Девушка-регистраторша недоуменно смотрела через плечо Эдуарда.
– Как «чех»? Такого ответа у нас нет.
– Ну что же я могу поделать! – невозмутимо отвечал Эдуард. – Не могу же я писать, что сын итальянец, если он не итальянец, а чех.
Так и написали.
Веселое вспоминать весело! Шла первая всесоюзная перепись. На этот раз ответ Багрицкого на вопрос о его профессии заставил растеряться даже Лиду.
– Канатоходец, – отвечал Эдуард Георгиевич девушке, пришедшей с опросным листком.
Видимо, Эдуард был под впечатлением «Трех толстяков» Юрия Олеши. Он так красноречиво рассказал о трудностях своей профессии, что девушка с сожалением рассталась с канатоходцем.
К этому периоду относится и кунцевская «история о сватовстве».
Ретроградный дух семьи «человека предместья», в доме которого жили Багрицкие, занимал всех нас. Созрел своеобразный заговор против этого быта. Решили во что бы то ни стало овладеть хозяйством и превратить мещанскую усадьбу в Гостиницу для путешествующих в прекрасном. Каким образом? Присватать с этой далеко идущей целью старшую дочь, крепкую, румяную, шуструю девицу на выданье. Кто жених? Складный паренек «с высшим образованием». Автограф Багрицкого на свежем экземпляре «Юго-запада» гласил, что подарок делается будущим шафером в чаянии грядущей свадьбы.
Свадьба не состоялась, но другое серьезное происшествие в семье «человека предместья» послужило поводом к стихотворению Багрицкого «Смерть пионерки».
Трубы. Трубы. Трубы.
Поднимают вой.
. . . . . . . . . .
Валя, Валентина,
Видишь – на юру
Базовое знамя
Вьется на шнуру.
Умерла младшая дочь, пионерка, умерла так, как рассказано в стихотворении.
Шутки не переводились.
Однако хочется сказать еще вот что: как-то по-особенному, по-иному среди этого молодечества, общего щегольства остроумием Багрицкий мог вдруг вздохнуть: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Вот он опять блеснул глазами из-под чуба, скривил тонкие, живые губы характерной усмешкой, готовясь к новой шутке. Всегда ли, однако, это была ничего не значащая комедийная фраза, буффонада? Нет, здесь больше звучала нота иронической тоски, нешуточного глубокомыслия.
Раздумье – желанный удел всякого поэта. Сомнение – дитя этой плодотворной способности, и потому оно не пугает, все настроено дружелюбно в этой семье мысли, тут все направлено лишь к одному – к истине.
Служить идеалам своего народа – потребность, не нуждающаяся в поощрении, но нередко она ищет понимания, не всегда эта потребность выражена в открытой форме. Да, это так! И теперь с грустью думаешь о том, что мы и сами не всегда понимали это. Как много утрачено из-за этого непонимания. Слишком часто уклонялись мы от серьезного и важного, уходили от главного, довольствуясь поверхностным, легкомысленным, второстепенным.
Теперь, при воспоминании о многих часах и днях, проведенных вместе, при воспоминании о беседах, шутках, бойких, метких и хлестких словечках, понятно, как много иной раз за всем этим было близкой, но скрытой душевной боли, как близко за шутками и выходками в духе провинциальной богемы стояло то, другое, серьезное, важное и сладко-мучительное, существенное и главное для поэта, награждаемое в конце концов ясным и радостным сознанием своей собственной силы и своего назначения.
Это время наступило и для Багрицкого. Все отчетливей, все настойчивей, а главное, все внушительней звучит давний и постоянный мотив его поэзии.
В 1929 году написано стихотворение «Вмешательство поэта». В печати оно появилось с подзаголовком «Ответ критику» и эпиграфом: «Багрицкий – романтик, начавший линять». Из журнальной статьи».
Багрицкий полемически отвечал критику А. Лежневу, выступившему со статьей «Разговор в сердцах». Чем же был недоволен критик, чего он требовал и как отвечал ему поэт?
Он (то есть критик) возглашает:
– Прорычите басом,
Чем кончилась волынка с Опанасом,
С бандитом украинским босяком.
Ваш взгляд от несварения неистов.
Прошу, скажите за контрабандистов.
Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром,
Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дыма…
Да, критик, приверженец романтизма, требует от поэта верности прежним романтическим мотивам, доставившим поэту успех и признание. Все это так, но, – отвечает поэт:
…время движется: И на дороге
Гниют доисторические дроги.
Булыжником разъедена трава,
Электротехник на столбы вылазит, —
И вот ползет по укрощенной грязи,
Покачивая бедрами, трамвай…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы,
Побоями нас нянчила страна!
Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровянистые стручки.
Колючие ошметки и крючки —
Начало будущего оперенья.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Я, словно исполинский плимутрок,
Закидываю шею. Кличет рог —
Крылами раз! – и на забор с размаха.
О, злобное петушье бытиё!
Я вылинял! Да здравствует победа!
И лишь перо погибшее мое
Кружится над становищем соседа.
Прекрасное, полное энергии стихотворение!
А легко ли?
Думаю, что мудрый человек Исаак Бабель ошибался, когда оспаривал непрямой поэтический путь Багрицкого, хотел видеть в нем «прирожденного» поэта революции. Багрицкому было прирождено то, что помогало не одному ему в трудные годы, – неспособность, отвращение к пошлости.
Это верно, что среди деятелей и общественных типов революции Багрицкий быстро узнал своих героев. Но механики, чекисты, рыбоводы, рабфаковцы и пионеры далеко не полностью олицетворяют все неохватное многообразие революции, неоспоримой в своей законной последовательности, богатой противоречиями в повседневности.
Багрицкий говорил: «Не умеют наши поэты чувствовать масштабы совершающихся событий», но этот упрек он обращал и к своей неподготовленности выразить чувство современности так, как ему хотелось бы. Он часто твердил о желании вернуться к большим коренным темам революции.
В аспекте ином Багрицкий видел и чувствовал многое, что чувствовал и видел со своей высоты вместе со своим поколением русской интеллигенции Александр Блок. Недаром «Возмездие» было одним из любимых чтений Багрицкого и с эстрады и в кругу друзей; темой возмездия миру, из которого он не мог выйти своевременно, проникнуто и его последнее произведение – поэма «Февраль». В 1930 году Багрицкий задумал было написать пьесу о роли поэта в революции и начал ее вместе с Н. Огневым, автором «Дневника Кости Рябцева».
Это было нелегко. Мы, современники и сверстники Багрицкого, люди одного с ним поколения, знаем, как это было. Для того решения, для готовности «вылинять» с тем, чтобы «с болью напряженья» заново опериться, нужно немало передумать, нужна для этого зрелая вера в себя и острое чувство своего призвания, подобно тому, как нужна сила духа спокойного согласия на опасную для жизни операцию.
Эта решимость зрела, но все еще не наступило время, когда твердая литературная выучка, испытанный вкус, воодушевленность вполне и радостно сочетались с опытом души.
Не знаю, к какому внешнему периоду отнести это время. Определить это невозможно, да и вряд ли нужно определять с календарной точностью. Во всяком случае, это самочувствие начало сказываться уже после успеха «Думы про Опанаса», – следовательно, в поздний, кунцевский период, не ранее двадцать седьмого – двадцать восьмого годов. И своей полноты достигло это самочувствие ко времени появления в печати «Стихов о себе» и «Вмешательства поэта».
Поэт победил.
Он всегда нуждался в деятельности, в сильных ударах крыльями. Как и юмор, это тоже было свойством его натуры, и этот его порыв к действию отчасти и удовлетворялся такими стихами, как «Весна» или «Контрабандисты», появление коих вызвало резкую критику со стороны тогдашних «лефовцев».
Всю жизнь Багрицкий собирался на большую охоту в дикие леса. Он насладился этим не сполна, но все же несколько раз ему удалось побывать на серьезной охоте то в Мордовии, куда он ездил в «охотничий домик» к Тарасову-Родионову, то в Белоруссии, куда он ездил к давним своим друзьям Шульцам. Глава этой семьи, бородатый старик Шульц, в прошлом начальник Пробирной палаты, любил Эдуарда Георгиевича и как поэта и как зоолога. Бородатый Шульц и сам был человеком весьма занимательным. Довольно сказать, что по его квартире бегали лисы. Однажды Багрицкий ходил на охоту на кабана с сыновьями старика. Так появилась «Трясина». Попутно вдвоем с писателем С. Гехтом они выступили в Минске с литературным чтением в саду имени Профинтерна. В дальних поездках Багрицкому всегда был нужен спутник и собеседник. Сохранилась афиша с тезисами доклада Багрицкого:
«1) В башне из слоновой кости: Вяч. Иванов, Вал. Брюсов, К. Бальмонт.
2) Недобрая тяжесть: О. Мандельштам, Анна Ахматова, Н. Гумилёв.
3) Освобожденное слово: В. Хлебников.
4) Вздыбленная улица: В. Маяковский.
5) Слово как самодело: Н. Асеев.
6) Конструктивисты – инженеры сюжета: И. Сельвинский.
Автор читает: «Думу про Опанаса», «Контрабандисты», новые стихи».
В другой раз приятели, повезли его с ружьем и собакой в гости к записному охотнику-вятичу. Из всех состоявшихся и несостоявшихся – воображаемых – поездок эта оставила самый полный след. Не афиша о литературном выступлении – сохранился любопытный фотографический снимок. Снимались на привале. Долгое время фотография эта не убиралась со стола и ходила из рук в руки. Багрицкий любил щегольнуть ею и перед друзьями-поэтами, и перед друзьями-рыбоводами. И говорил он об этой поездке весело и охотно, охотней, чем о поездках в Ленинград или Минск для чтения стихов, и очень дорожил снимком, где сидит он не на обычном неизменном топчане, крытом дешевым ковриком, сложив ноги по-турецки, выложив кулак на стол, – нет, в этом случае Багрицкий сидит на старом бревне, у него в руках ружье, на ногах болотные сапоги, у ног – собака, а вокруг – славные бывалые люди.
4. Записки Сторицына, старого другаДальше еще меньше внешних событий, и опять-таки едва ли не самым заметным из происшествий становится переезд из Кунцева в Москву, в городскую квартиру, в новый писательский дом в проезде МХАТа.
Хозяйство разрослось, достатков стало заметно больше, и, несмотря на общие трудности быта первой пятилетки, даже вопреки этому, как раз теперь Лида угощала гостей не только жареной картошкой.
Светящиеся солнцем аквариумы в новой, чистой, сухой квартире были оборудованы какими-то насосиками, хозяин содержал самые дорогие породы рыбок. Об этом хорошо сказал Виктор Шкловский: «Слава принесла электричество… мотор, который подкачивал рыбкам то, чего не хватало Эдуарду, – воздух».
Ковриком застилалось место, на котором по ту сторону стола у стены в традиционной позе сидел отяжелевший, тронутый сединой Эдуард. Тетрадь в линейку, карандаш и астматол по-прежнему дополняли картину. Все реже Эдуард Георгиевич спускался с шестого этажа для похода в какую-нибудь редакцию. При разговоре с гостями все чаще волосатая, посеревшая голова склонялась над ядовитым дымком астматола, абиссинского порошка, смягчающего удушье. Но никогда ни на минуту не исчезало воодушевление в глазах и голосе, едва только дело касалось стихов, рыб или птиц, открытий и исследований.
Впрочем, к важным событиям этого периода нужно отнести поездку Багрицкого в Ленинград. К этому времени относится один очень интересный документ. Я приведу его. Документ этот как бы подтверждает или, вернее, иллюстрирует то основное, что хочется сообщить мне. Это запись Петра Сторицына, одного из друзей молодости Багрицкого, литератора, журналиста, погибшего в Ленинграде во время блокады города. Запись предназначалась для посмертного сборника «Эдуард Багрицкий», альманаха, вышедшего под редакцией Владимира Нарбута в 1936 году. Рекомендуя эту запись Владимиру Нарбуту, поэт Михаил Кузмин предпослал ей свое небольшое письмо:
«Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
П. И. Сторицын показал мне несколько страниц, написанных им об Э. Багрицком, и спрашивал моего мнения о них, стоит ли их Вам посылать и т. п. Я ему посоветовал послать, так как нахожу, что при всей сумбурности, барочности стиля (почти «противолитературного») в этих страницах настоящее чувство жизни, живописность и живая передача некоторых черт и характерных особенностей Багрицкого. И я совершенно искренно нахожу в статье Сторицына талантливое своеобразие, как и во многих поступках этого человека, которое, может быть, кое что и потеряло бы от «литературной» обработки.
С искренним уважением М. К у з м и н.
21 января 1935 года».
К слову сказать, Багрицкий очень ценил хорошее отношение к нему поэта Михаила Кузмина, с которым он познакомился во время этих поездок в Ленинград. С юных лет Багрицкий знал наизусть весь сборник «Сети», как и многие другие сборники хороших поэтов, и до последних лет любил стихи Михаила Кузмина из его сборника «Форель разбивает лед». О широком и точном понимании Багрицким поэзии я еще скажу несколько слов, – сейчас привожу выписки из статьи Петра Сторицына.
«В 1914 году я познакомился с Эдуардом Багрицким в Одессе, – пишет Сторицын.
…Багрицкий умер 16 февраля 1934 года, но характер и манеру его умирания я увидел раньше. Вот об этом я сегодня расскажу.
Дело было так. 5 декабря 1932 года. Я пошел в артистическую Академической капеллы. Там сидел в ожидании выхода на эстраду Эдя. Шел я, сильно волнуясь. Ждал чего-то страшного. Вошел. Эдя сидит спиной ко мне. С ним почтительно разговаривает сначала поэт Александр Прокофьев (о замене Багрицкого назавтра на подмостках), а затем Николай Семенович Тихонов. Тоже по делу. Стало больно: Эдя свинцовый, угловатый, болезненно-неповоротливый, тяжелый, точно плохо координирует движения. Я сзади положил ему руку на плечо. Он обернулся и сделал нарочно глуповатое лицо. Я понял зачем. Чтобы замаскировать ужимкой, выходкой поток чисто материнской доброты, который его охватил, когда он меня увидел. Он стыдился доброты. Его доброта – это косо хлещущий дождь… Словом, природная доброта, та доброта, о которой Артур Шопенгауэр писал, что она выше всех талантов человеческих.
– Петр Ильич, едем со мной в Москву, будете жить у меня, не надо идти в зрительный зал, когда я буду читать, оставайтесь здесь, там нечего смотреть; я искал вас целый день… Знаю, что это безумие, но мне страшно одному. Я скоро умру.
Мне стало страшно, тоскливо и необычайно радостно…
В нескольких шагах от нас стоял знакомый писатель. Я машинально их познакомил. Затем отвел писателя в сторону и сказал униженно и трусливо:
– Ну как? Как он выглядит? Больным или здоровым?
– О чем говорить, – ответил тот, – он тяжело болен, он умирает, верьте ему.
Бурные аплодисменты в зале. Это Вера Инбер окончила чтение. Выход Багрицкого. Я все же поспешил в зал. Он прочел три стихотворения и оборвал выступление.
Я пошел в артистическую. Там уже его не было. Его отвезли в Европейскую гостиницу, где я нашел его перепуганного и встревоженного. Он стал меня расспрашивать, пытливо смотря в глаза.
– Не надо было приезжать, – сказал я.
– Со мной немедленно в Москву.
– А что в Москве?
– В Москве будете жить в одной комнате с моим десятилетним Севой, он хулиган, но бить вас не будет, я приму меры.
– Ну, а жена ваша, Лида?
– Лида любит тех, кого я люблю. Сейчас же оставайтесь у меня ночевать. Мне плохо.
Ночью начался бред. В бреду он кричал: «Сторицына надо убить и продать очки!», «Лида, дай чаю!», «Зачем дала холодный, дай горячий!», «Надо любить женщин… Не забывайте, что им трудно!»
Внезапно бред прошел. Я сказал:
– Эдя, я вас давно не видел и не знал, что вы такой. Лиде страшно с вами?
Он ответил:
– Она привыкла, ей не страшно.
Мы заснули. На другой день он уже не покидал постели.
Днем пришел Михаил Алексеевич Кузмин.
Вечером его навестили три лица. Они пришли прослушать «Думу про Опанаса».
Больной читал около двух часов. Стали спорить. Один находил, что «Дума» сценична, другой, что несценична. Споры, как всегда. Ушли. Через десять минут стук в дверь. Пришел знакомиться композитор Шостакович, присланный директором Малого оперного театра. Условились, что через неделю Шостакович навестит Эдю в Москве.
Поехали с Эдей на вокзал. Он судорожно держался за меня.
Там, в Москве, комната Эди. Аквариумы. Ими наполнена комната. Постукивает мотор, вгоняя воздух в воду. Аквариумы согреваются системой горелок. Рыб много. В одном из аквариумов за самцом неустанно ходит самка. Самец уходит. Это длится часами.
– В чем дело, Эдя?
Эдя объясняет:
– Самка хочет любви. Самец молодой и не понимает этого. Вот она и ходит за ним неустанно. Петр Ильич, не пугайте рыб! Жизнь одна.
Вечером ушла жена. Мы втроем: Эдя, я и друг их дома, художник Грабе. Эдя посреди разговора внезапно сказал:
– Я умираю потому, что я поэт. Нет в мире творчества, которое так бы разрушало…
Приходили Толчанов (режиссер театра Вахтангова), Олеша, Корнелий Зелинский. Вообще все приходили. Все, кто хотел. Со всеми Эдя благожелателен, ласков, учтив и в каждого всматривался. Дескать, как это у вас на свете забавно, а я уже на нем не жилец.
Вечером говорит мне Эдя:
– Сидите, не убегайте. Что-нибудь читайте, что-нибудь пишите. Никогда никуда не уходите от меня: ни в редакцию, ни в театры, ни в пожарную команду. Сидите возле меня.
Утром говорит возбужденно:
– Обрубайте канаты, переезжайте в Москву. Мне нужно иметь вас при себе. Мне мало рыб, мне нужно, чтобы у меня на квартире копошился чудак…
Я уехал в Ленинград и больше Эдю не видел.
Теперь, когда его нет, я спрашиваю себя, что я узнал от Эди о нашей земной жизни?
Я узнал, что высшая доблесть человека – это дружба, благородство и бескорыстная любовь к товарищу. «Страстное бескорыстие», как сказал о нем Исаак Эммануилович Бабель. Эдя считал, что с мерзавцами и пошляками не следует примиряться, что большевики хотят новой, благородной жизни. Он верил, что они ее создадут».
В этих записках немало ценных наблюдений. Верно и то, что развитие болезни пугало Багрицкого, астма не способствует жизнерадостности и оптимизму. Не избежал этого влияния болезни и Багрицкий. Естественно и то, что при встрече с другом молодости, оставаясь с ним наедине, тяжело больной человек свободней отдался тем чувствам, которые обычно сдерживают. Но в главном Сторицын ошибался: подмеченное им у Багрицкого чувство страха перед неизбежностью не восторжествовало, не обессилило оно человека…
Крылами раз! – и на забор с размаха.
О, злобное петушье бытиё!
Я вылинял! Да здравствует победа!
Так в конце концов мог сказать Багрицкий: «Я вылинял! Да здравствует победа!»
Долгий труд был завершен, напряжение облегчалось. Пути смыкались, и это становилось радостным открытием.
Все силы сомкнулись лишь для того, чтобы неограниченно раздвинуть горизонты. Высшая награда в том, что поэт почувствовал значительность своего существования, право на выражение самого себя перед народом, а это пределов не знает. Не бывает открытия более радостного и плодотворного. Это и есть участь Тиля Уленшпигеля.
Теперь Багрицкий уже не задумывался о «поэтичности» и «непоэтичности» слов. Теперь слова, по выражению Пушкина, стали делом. Слова зрелой души становились словами поэзии.
В этом участвовало все: и ум, и чувство, и жизнь, и книги, и природа, и люди, и знание, и труд. Те три «с», которые в своем сочетании определяют писателя, поэта, своеобразие художника, а именно: смысл, страсть, стиль радостно сочетались, каждым новым произведением объясняя предшествующее, как потомки объясняют своих предков, продолжая и развивая счастливые черты наследственности. Такими после «Думы», «Вмешательства», «ТВС» становятся стихи «Последняя ночь», «Человек предместья», «Смерть пионерки», «Дума про Опанаса» (либретто оперы).
Если бы меня спросили, как назвать этот стиль Багрицкого, я бы назвал его стилем эпической лирики, хотя и понимаю разновидность двух этих понятий.
В создании этого стиля участвовало все: и впечатления давнего прошлого, и стремление к будущему, а главное – та неудержимая и самоубийственная энергия духа, беспрерывное ощущение которой заставило Багрицкого сказать Сторицыну: «Я умираю потому, что я поэт. Нет в мире творчества, которое так бы разрушало».







