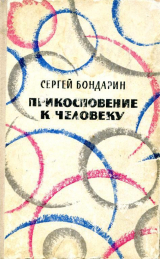
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
У многих еще оставались в Севастополе семьи, почти все бросили на соседский присмотр, а то просто под замком квартиры и обстановку, и все мы знали, что Севастополь уже выдержал два генеральных штурма.
Часа за полтора до наступления нового, 1942 года мы были на фарватере.
Ночь выдалась холодная, морозило, дымка время от времени затягивала студеное небо.
Одетые по-зимнему, в теплых ушанках, в высоких сапогах, многие в тулупах, моряки внимательно осматривали темное море и прислушивались к воздуху. Смутные очертания балаклавских вершин иногда слабо озарялись вспышками выстрелов, и где-то разгорался пожар. Было такое ощущение, будто что-то повторяется в жизни. Наконец я понял, в чем дело: оживлялись впечатления, оставшиеся у меня от одесского похода. Так же беззвучно время от времени доносился отдаленный шум, будто внезапно где-то что-то посыпалось, вспыхивали зарницы артиллерийского огня.
И, как бы угадывая мои мысли, вахтенный командир, минер Либман, молодой, кудреватый, но серьезный и знающий офицер, вглядываясь в циферблат ручных часов, бубнит мне из-под ушанки:
– Без десяти двадцать три… а идем хорошо… Через час люди сядут за стол.
– А сядут ли? – говорю я. – Ой, не везде сядут. Кстати – что ваш отец? Получаете что-нибудь?
– Остался в блокаде, ничего не знаю с октября… Но сегодня старик выпьет-таки… за всех нас… Это он наверное! – И, развивая мысль, Либман восклицает с горячностью: – А подумать только, как же это так?! Ленинград в блокаде… Какого черта! Сидят вокруг Севастополя! Как смеют! Торпедируют, стреляют, топят.
– Да, чудно́, – согласился я. – Крадемся ночью в свой порт, как воры, как будто и не к себе.
Но Либман, должно быть, счел подобные чувства невозможными для офицера и тут же поспешил поправиться с нарочитой грубостью:
– Э, все это чепуха! Лирика! Они стреляют – и мы будем стрелять. Как говорит наш командир: кто кого. «Надо ихнюю гордость смять, а нашу установить», – сказал один мой знакомый.
– Хорошо сказал. А лирика – разве она мешает вам воевать?
– Мешает. Лирика не для войны.
Я решил подзадорить Либмана:
– А средневековое рыцарство, прекрасные дамы, смерть на глазах любимой? Разве все это мешало отваге?
– Э, – не соглашался Либман, – это все литература. Все эти Ромуальды и Роланды – как их? – все это только поэтические вымыслы, а на самом деле чем проще, чем грубее – тем лучше, вот как наш капитан третьего ранга…
– Ершов?
– Ну да, командир корабля. Этот не выйдет куражиться перед глазами прекрасной дамы. Пожалуй, он об этом, и не слышал.
– А я знаю про него другое: говорят, он не только слышал, но и сам так поступает.
– Командир корабля? Ершов? Не смешите…
– Не смешу, а он именно таков. Ершов и есть Ромуальд, хотя он груб, как средневековый конник… Скиф!
– Еще Чернышевский говорил, что главное для войны – это уметь посылать на смерть.
– Точно ли так говорил Чернышевский? Где это?
– Шум самолета! – прокричал у меня над ухом сигнальщик.
Новогодний разговор был прерван.
К этому моменту корабль миновал траверс Балаклавы, минные поля еще простирались по сторонам. Как обычно, мы держали ход до двадцати четырех узлов.
– Огонь по самолетам! – послышался голос командира.
Я пошел к себе в рубку.
Противозенитные батареи открыли огонь: торпедоносец шел на корабль на контркурсе. Слева по курсу тоже слышался шум мотора. Торпедоносцы – их было не менее четырех – то появлялись из морозной дымки, то опять скрывались.
– Торпеда с правого борта, – донесся возглас.
Но корабль уже отвернул.
Еще две торпеды прошли по носу и по корме. Кренясь от крутых поворотов, корабль увеличил ход. Через переборку, отделяющую мой пост от ходовой штурманской рубки, я услыхал взволнованный голос Дорофеева.
Кажется, это был первый случай, когда Дорофеев выдал свое волнение, но причины были достаточные.
– Находимся на минном поле, – сообщал Дорофеев в переговорную трубку командиру корабля.
Не то я где-то вычитал, не то от кого-то слышал выражение, которое мне кажется справедливым: «Смерть на войне воображения не трогает, спасение всегда удивляет». К такому удивительному случаю удачи нужно отнести и этот эпизод нашего хождения по минам в ночь под Новый год…
Мы еще были в минных полях, когда ко мне на пост заглянул Батюшков. Ершов вызвал его проверить аварийную станцию.
О том, что мы не на фарватере, он не знал. Об этом знали только пять-шесть человек.
– Атаки отбиты. Опять ложимся на курс, – весело заговорил Батюшков. – Как живете? Что нового? Слышно ли что-нибудь о Юлии Львовне?
Павлуша продолжал забрасывать вопросами. В рубке уже повеяло его духами.
– Присядьте, – предложил я и стал рассказывать ему все, что мог рассказать о Юлии Львовне, о которой Павлуша знал с моих слов, о последних корабельных новостях, о том, с каким интересом следили мы за ходом десантной операции на Керчь. Рассказывал, а сам весь был обращен к какому-то страшному, волнующему ожиданию того, что могло случиться каждое мгновение.
Взрыва, однако, не было.
Еще через несколько минут я убедился, что мы снова находимся на фарватере.
– А теперь, – сказал я, сам присев, – теперь я расскажу вам самую последнюю и интересную новость: мы только что сошли с минного поля.
Батюшков понял меня не сразу, а понявши, помолчал и потом сказал:
– Знаете, пожалуй, самое страшное я уже видел и пережил… – И он рассказал мне один эпизод из десантной операции на Керчь.
Этот рассказ я хорошо запомнил, могу довольно точно передать его.
«Хейнкели» не отстают ни на минуту и все кружатся над десантной баржей. Ее тянет к берегу пароходик – от нас кабельтовых в сорока. На море волна баллов шесть, не менее, волна солидная. Холодно. Как-никак декабрь месяц…
Дотянет или не дотянет?
И виден дым. Может быть, завеса? Нет! Загорелась.
– Баржа тонет, – говорят вокруг.
И мы пошли к ней.
Все ближе, ближе. Пароходик отдал буксирные концы и, сам едва не захлебнувшись, заковылял к берегу.
Баржа круто легла на борт, так круто, что видны трюмы, в трюмах плещет вода…
Еще ближе – и уже видно: у фальшборта тело убитого. Кубики на петлицах и тугие ремни на плечах. Рука и большая взлохмаченная голова свесились за борт, и кажется, что именно их тяжестью кренит баржу… В трюмах плавают кочаны капусты, барахтаются в воде лошади.
Подошли – кажется, уже рукой достать. Серая толпа бойцов стоит на дымящейся палубе неподвижно, молчаливо, как на молитве, а какая-то светловолосая девушка, должно быть из санчасти, растерянно улыбается, ветер треплет ее волосы, она все машет рукой, призывая нас.
Самое страшное, знаете, никак не может пристать лагом. Только толкнемся – своею же тяжестью отталкиваем баржу… И волна уже отнесла нас.
Плеск… выстрелы… голос той девушки… удар бортом – и опять только плеск волны, а по всему телу звон крови… Стыдно, нет больше сил смотреть. Успел только увидеть: у самого борта рядом с лейтенантом солдатик с винтовкой в руках. Наши подают ему легость, кричат: «Хватай!» А он: «Нет, берите вперед винтовку». – «Хватай, дьявол, некогда». – «Бери винтовку»… Так и оттолкнуло нас опять…
Через минутку оглянулся – баржи нет. Плавают одни шапки и сумки да несколько человек на досках.
За это время спустили шлюпку, сбросили круги, какие-то ящики. Кое-кого удалось подобрать. Сил у них уже не было – уцепится за легость, а взобраться на борт нет сил. Так гирляндами и висят, покуда, смотришь, и этих уже нет, смыло.
Уже под вечер, во время стрельбы на берегу, натолкнулись и сняли с какого-то плотика еще двух.
На канлодке все заняты по расписанию. Из свободных – фельдшер да я. Фельдшер за день с ног сбился, а тут опять – откачивай, отогревай.
Один вполне безнадежен, уже труп. Второй как будто еще дышит на стекло, глаза закатились, но жизнь не потухла в нем. Мы с фельдшером и спирт ему вливаем, и сукном растираем. Одно отчаянье: заледенел. Я присматриваюсь, дышит ли еще, и вдруг узнаю: тот самый молоденький солдатик с ружьем, то есть тот, который не хотел прыгать без ружья, требовал, чтобы сначала взяли его винтовку. Небритая щека, остренький нос…
– Милый мой!..
Дело происходит в кубрике, куда и прежде сносили спасенных.
Не знаю, до сих пор не пойму, как это случилось, как я все это придумал, но только, поверите ли, лежу я, уже раздевшись, рядом с солдатиком, обнимаю его крепко, прижимаюсь к нему – только бы отдать ему тепло своего тела… И, послушайте, чувствую, леденящее тело рядом со мной теплеет и теплеет. Человек моргнул, глаза оживились, уже слышно дыхание, шевельнул пальцами, повел рукою и даже как будто пальцами меня потрогал.
А вокруг тишина.
Только слышно – за переборкой работает машина, а наверху бухают пушки…
Вот и вся история. Звали хлопчика Федя.
Федя – звали его, как и вас.
Больше он не успел сказать мне ничего: вызвали меня к командиру корабля, а наутро я сошел с канлодки.
Минут через сорок после атаки торпедоносцев нам уже открылись створные огни Инкермана. Не сбавляя хода, «Скиф» метил прямо в ворота, раскрывшиеся перед кораблем на отведенных бонах.
Пробили склянки.
Было ровно двадцать четыре часа.
Только что с ходового мостика командир корабля произнес по радио поздравительную речь.
– Бойцов благодарю за умелые действия, – говорил командир, и его слова корабль нес вперед вместе с шумом своего хода. – Этим рейсом мы кладем начало новому этапу борьбы с врагом. Мы включаемся с вами, товарищи, в героическую борьбу черноморцев за наш родной Севастополь. Под Москвой фашистские армии разгромлены. В этих боях участвовала морская пехота с честью и славой. Очередь наша, и мы тоже постараемся с честью выполнить свой долг… Желаю вам, товарищи, чтобы новый год стал для вас годом серьезных, славных боевых достижений. Поздравляю вас!
Ершов еще не закончил своей речи, а над нами вдруг закачались пущенные с обоих берегов прожекторные лучи и встретились в мглистой, морозной вышине.
– Как ворота! – восхитился Лаушкин.
– Да, ворота гостеприимства и призыва, – мечтательно проговорил Батюшков.
«Скиф» причалил в Южной бухте у холодильника.
Севастополь, здравствуй!
Быстро выгрузили бойцов и артиллерию и еще успели собраться в кают-компании, но, видимо, не одного меня одолевала усталость. Новогодний ужин был коротким. Я с большим удовольствием завернулся в одеяло и успел несколько часов поспать. Еще не совсем проснувшись, вспомнил: Севастополь!..
Утро было морозное, чистое.
Опять, как в Одессе прошлой осенью, на мостике столпились командиры, молчаливо осматривали город. Всюду было тихо.
– Севастополь в декабре, – послышался чей-то голос.
И хотя уже был, собственно, январь нового года, слова эти легко вызвали ассоциацию переживаемого нами с «Севастопольскими рассказами». Но этот, сегодняшний Севастополь – как он был не похож на тот, толстовский Севастополь!
Помните?
«Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря уже сбросила с себя сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет, все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет 8-я склянка».
Бог мой! Как это прекрасно!
Да, так было т а м, в условиях т о й войны.
Грохот и вспышки на холмах – по всей линии приземистых бастионов… Но улицы полны шума голосов, движения войск и обозов, гулянье на бульварах, музыка духового оркестра… Смрад и ужас тесного, переполненного госпиталя… И бухты, кишащие яликами… И белые домики, дворы, полные кур… И опять молнии в клубящемся дыму на голубых и желтых холмах бастионов…
З д е с ь же весь Севастополь обрисовывался на холмах каменно-безжизненный. Покинутые дома, книги, куры…
Все скрылось от повсеместного огня э т о й войны.
Вскоре наша дальнобойная артиллерия начала обстрел вражеских аэродромов и скоплений войск. Лидер вел огонь из своего места у холодильника, потом менял точку и стрелял из бухточки вблизи Морзавода.
Опустевшая Северная бухта казалась незнакомо просторной. Лишь у выхода в море по-прежнему пенилась гряда бон, и, как и в прежние дни, у Торговой пристани, положив на причал одну из мачт, покоился под водой крейсер «Червона Украина», потопленный бомбами в ноябре.
И только извечно, как и в дни Толстого, как и в прежние дни, загоралась зарница над Сапун-горою.
Севастополь притих, только что отразив второй штурм.
На заснеженных, засыпанных стреляными гильзами холмах и по долинам, по всей дуге обороны от Бельбека до Балаклавы лежали мерзлые трупы в шинелях мышиного цвета.
Поля и холмы были в розовых пятнах, в других местах бесчисленные разрывы мин и фугасных снарядов обожгли землю – и холмы покрылись черными пятнами.
Все клинья, которые удалось было немцам вогнать в линию обороны, были вышиблены обратно. Однако изменить общее положение в Крыму своими силами севастопольцы не могли.
Ожидались новые удары по армии Манштейна со стороны занятого нами Керченского полуострова, новые десанты в Судаке, Евпатории.
Зимние штормы и внезапное замерзание Керченского пролива спасли армию Манштейна: без артиллерии и тяжелого вооружения наши войска, занявшие Керчь и Феодосию, не могли продвигаться вперед. Немецкая авиация с крымских аэродромов действовала беспрерывно.
Второго января, во время высадки десанта у мола феодосийской гавани, крейсер «Красный Кавказ» был атакован с воздуха и сильно поврежден. Кораблю угрожала опасность сесть на грунт. Командир крейсера принял смелое решение: с затопленной кормой он вышел в море и благополучно довел корабль до базы.
Из-за пурги на кораблях не видели сигналов. Приходилось удивляться, каким образом корабли избегали столкновения и не терялись. При всех трудностях, в Феодосии все же удалось высадить значительные силы.
Днем и ночью шли бригады морской пехоты по молодому льду Керченского пролива, за ними – полки, переброшенные сюда из Ирана. Пулеметы и минометы перетаскивали на салазках или вьючили лошадей, неуверенно ступающих по льду, крепленному соломой и хворостом.
Батареи на Чушке и на Тамани и вмерзшие в лед катера составляли артиллерийское прикрытие, а единственный пробившийся сюда корабль ледокольного типа – канлодка Азовской флотилии «Четверка», помнившая еще бои против Врангеля, днем и ночью пробивала дорогу для сейнеров и барж с войсками, затертых во льду. Лед медленно и тяжело продвигался по течению из Азовского в Черное море.
Был высажен десант в Судаке.
Двенадцатидюймовая артиллерия линкора грохотала у юго-восточного побережья Крыма, действуя по тылам противника.
Однако внезапное похолодание не только затруднило питание фронта, – противник выиграл время, оправился от первых ударов, произвел перегруппировку сил. Громадное преимущество давали ему близкие, хорошо оборудованные аэродромы.
Через двенадцать дней после занятия Феодосии наш левый фланг отошел от нее на восток, и линия фронта установилась на так называемых Акмонайских позициях.
На Керченском полуострове началось накапливание сил для дальнейшей борьбы.
Под Севастополем наступило относительное затишье.
Образы Севастополя тревожат наши души.
Первое болезненно-щемящее впечатление сменилось острым чувством близкого и родного: взглянешь в воду у борта – все такая же она, эта глубина, какою была в детстве в Одессе, когда сидели мы рядками на причалах порта с терпеливыми удочками в руках, так же волнует чем-то таинственным – стоит ли вода спокойно или струится, пузырится, легкой скользящей волной отброшена от борта шаланды или мрачно чернеет вечерами между свай, обросших ракушками… А вот и сейчас медленно проплыла чистая матовая медуза… Можно смотреть часами, потому что все это доставляет счастье познания, и думается мне, это и есть чувство родины, соединения с миром, все это уже от сердца – и холодок воды, и запах горячего песка. И невольно я вспоминаю возмущение Либмана: «Как смеют они быть в нашем Севастополе? Почему это так случилось?» И еще вспоминаю Тургенева, который в год первой Севастопольской обороны писал: «Я каждую ночь вижу Севастополь во сне…» А Толстой! «Увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти…» Да, и тут, пожалуй, Либман прав: какие уж тут лилии и розы!..
Пахло холодной землей на разрытых улицах города. Всюду хрустело стекло. И здесь и там еще зияли на мостовых и тротуарах свежие воронки.
У столба с предупреждением «Неразорвавшаяся бомба» видны люди – работают с ежеминутной опасностью взрыва.
Из-под земли посреди разрушенной мостовой, как из колодца, тянут тросом, и вот показалась черная металлическая туша, облепленная комьями глины. Ее подтягивают, она слегка раскачивается. Движения людей осторожны. Снова подтягивают тросы, закрепленные над колодцем на деревянных козлах. Слышны выкрики, быстрая команда. Инженер штаба ПВО Козлов обычно руководит этими работами. Район падения бомбы оцепляет милиция. Но вот бомба извлечена, и по улице двигается необычайная процессия: с погребальной торжественностью медленно катит грузовик, буксируя на длинном тросе повозку, на которой чернеет туша бомбы. Отрытые бомбы чаще всего обезвреживаются с таким расчетом, чтобы взрывчатка шла в дело, так же как и металл, отправляемый в новые арсеналы Севастополя на выделку минометов и мин.
Но еще чаще, увы, бомба взрывалась… В домах не уцелело почти ни одного стекла. Из верхних этажей люди перетащились в нижние, а еще лучше – в подвалы. Эвакуировать можно не всех, но, кажется, не многие с этим и торопятся.
Начали заселяться знаменитые катакомбы и подвалы шампанских вин в Инкермане. Помню эти высокие, высеченные в скале залы, заставленные шампанским. Теперь, как рассказывают, в этих залах-пещерах расположились не только арсеналы, но и швейные фабрики, обувные и прядильные артели. Тут же и жилые кварталы. Говорят, уже привыкли к новым названиям этих подземных улиц, и когда спрашивают какого-нибудь заблудившегося ребенка: «Где твои папа и мама, где ты живешь?» – дитя, заблудившееся в пещерах (не сказка ли?), отвечает: «На Прядильной, а номер у нас девять».
Воды там не хватает, но в подвалах десятки тысяч бутылок молодого шампанского. Вино не только заменило воду для питья – бреются и даже заправляют радиаторы автомобилей.
А дети! О чем думают малыши в эти дни? Между ними только и разговоров, кто сколько потушил зажигалок, сколько собрали металлического лома, бутылок для зажигательной смеси. В спокойные часы дети разыскивают хвою для изготовления витаминизированного экстракта, а по коробочкам рассыпают семена: весна же наступит, солнышко пригреет – будем копать грядки! Иные и сейчас уже натаскивают землю и заводят теплицы в своих пещерных квартирках.
Больно все это слышать и вместе с тем трудно отвести глаза от этих домов, улиц, далеких высот Инкермана.
В городе тихо. По заснеженной мостовой за город, к окровавленным холмам переднего края, вслед за процессией с бомбой продвигается колонна. Прогремел грузовик с патронными ящиками. Какая-то женщина собирает уголь. Она в стареньком мирном, должно быть мужнином, пальтишке… Люди мои милые, родные, понятные!
Из колонны кто-то закричал:
– Привет на Большую землю!
Лаушкин из-за моего плеча в ответ:
– Порядочек! Передадим как из почты! Еще лучше!
Моему Лаушкину так и не удалось «сойтись вплотную», и, примирившись, он уже давно не просится с корабля в пехоту.
Кто-то другой, однако, взмолился:
– Солдатушки! Братишечки! Не оставляйте моряка – возьмите с собою.
Из колонны прокричали так же весело:
– Выходи. Становись правофланговым.
Но сойти с борта не смел никто. С этим примирился не один Лаушкин.
Доставленные нами войска вливались в действующую часть. Почта шла по адресам. Холодильник принял запасы мяса.
Непривычно безжизненно было на причалах и во внутренних бухтах Севастополя. Высокая холодная труба завода поднималась над затихшими цехами. На стапелях – недостроенные корабли.
Но старенькие катера по-прежнему, хотя и не так регулярно, ходили от Интернациональной пристани на Северную сторону. На внешнем рейде по-прежнему маячила кубообразная, высокая, выдержавшая уже десятки атак с воздуха, ставшая знаменитой плавучая батарея, прозванная матросами «Не тронь меня». Корабли ОВРа – бессменные труженики моря – по-прежнему выходили из своей базы в Стрелецкой бухте.
Я присматривался к Павлуше Батюшкову. Его жена Варвара Степановна по-прежнему работала в одном из батальонов морской пехоты. Как бы угадывая значение моих взглядов, Батюшков вдруг сказал мне:
– А знаете, если бы даже разрешили, я не пошел бы.
Я смотрел на него с удивлением.
– Знаете, не могу забыть того холода… от солдатика Феди. Как-то страшно.
Ночь наступила рано.
Где-то отбивали склянки, и неизменно вслед за спокойным исконным боем рынды разносился по бухте чужой и чуждый грохот: каждые полчаса немцы методично посылали сюда снаряд из своих севастопольских «Берт». Взрыва этого снаряда ждали теперь так же привычно, как боя склянок.
В кают-компании вертели кино: «Три друга». Лесорубы. Сплав. Молодость. Любовь… Бог мой! Какая отдаленная эпоха!
Ровно стрекочет аппарат, живой луч волшебно голубеет над головами. У самого экрана прямо на палубе уселись вестовые, а на экране меняются кадры очередного киносборника: войска Красной Армии проходят по улицам Москвы… угрюмые горы Мурманска… противотанковая батарея поражает приземистую машину с отвратительным клеймом фашизма… подводные лодки выходят в море…
Снаряды осадной сверхтяжелой батареи размеренно ложатся вдоль по берегам бухты от Павловского мыска к вокзалу и потом обратно.
Успели докрутить фильм.
Освещение в кают-компании притушено. В небольшом уютном салоне неукротимые козлогоны могучими ударами потрясают стол.
– Залп!.. Дробь!.. Белое поле!..
– Точно. Забил. Считайте рыбку.
Взрывы приближаются. Пятый… шестой… седьмой – совсем близко от корабля.
– Великое противостояние, – острит Усышкин.
Двадцать один час… двадцать один час тридцать минут…
Опять взрыв.
– Прошел мимо, – говорит король козлогонов Визе, откидываясь на спинку кресла.
Ложится последняя, с шиком пригнанная к крапчатой дорожке кость домино, и головы игроков поднялись, в глазах оживление.
И вот после короткого потрескивания и шуршания слышен голос диктора:
«От Советского Информбюро… В последний час…»







