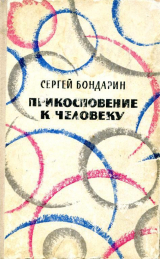
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
ДУХОВНЫЙ ДИСПУТ
Осенью двадцать первого года мальчишкой, едва кончив срочные курсы, я работал землемером в Ананьевском уезде.
В тот год продналог заменил продразверстку, приступали к разделу земли в трудовое пользование. С буссолью и подушными ведомостями я переезжал из деревни в деревню; звание землемера, как незримый доброжелатель, охраняло меня от грустных случайностей.
Уже не в каждую деревню я согласился бы вернуться без надежного спутника. В это время мне предложили сменить буссоль на винтовку – направиться в Ново-Буйницкую волость, славящуюся неукротимостью нравов. Власть Советов на Украине тогда только устанавливалась. Действовать приходилось не одним именем закона или силой убеждения, иногда – и оружием.
Глубокая осень омертвляла дороги. Из-за края пустых черных степей в пасмурное небо лениво поднимались вороны. Еще вчера спекулянты и мешочники носились по уезду, как гуляки из трактира в трактир, а сегодня и они исчезли с дорог.
В волостном Совете ко мне присоединились товарищ Лемеш с двумя красноармейцами, и мы поехали на хутора с задачей выкачать хлеб у баптистов и скопцов.
Товарищ Лемеш, рабочий с завода сельскохозяйственных машин бывш. Белино-Фендрих, сам правил лошадьми, дышал полной грудью и вообще вел себя так, будто всю жизнь только и ездил по степям Одесщины, и никак не может этим насладиться.
А меня одолевало страшное, голодное одиночество. В крестьянских хатах я встречал не только недоброжелательство, хитрость и злобу – я встречал и совет, и радушие. В пасмурных полях я видел не только черствые глыбы черного пара – бывало и солнце, и травы, и жаворонки… Но нет, я все же не мог понять сердцем этой степной, земской жизни.
Что я оставил в губернской Одессе? Голод, горе и разрушение. Но к ее вырубленным с зимы бульварам, к ее панелям, развороченным трехдюймовками, я устремлялся всею душой. Удивляла меня готовность людей жить не в городе, а в деревне, и никак не мог я понять, почему уж в таком случае не выбирают они для жизни самые красивые места, всегда готовые променять сад и речку на голое поле, требующее упорного, знойного, помрачающего ум труда. За полдесятины отдаленного клина, которые я отрезал у одного землероба и передавал другому, прежний хозяин вынимал из меня душу, а другой, наделенный дополнительным участком, не всегда умел устоять под разбойным напором завистников. И никогда я не слышал, чтобы мужик менял свою хмурую хату на другую, потому что с крыльца той, другой видны речка или луг…
Зачем же все это? Кого радует просторный деревенский пейзаж, ставки и лесочки, ветрянки и белые колокольни церквей – красота неоцененная и ненужная?
В старой, почерневшей ветрянке мы и расположились на ночлег, добравшись до хуторов поздно вечером.
Лемеш считал, что искать радушного приема в хатах бесполезно, действовать силой – неразумно.
Хутора располагались между леском и глубоким, непролазным яром – где густо, где пореже; они мерцали огоньками в серых осенних степных сумерках. Запах кизячного дыма растекался по равнине. Лемеш с красноармейцем Сарычем пошли к ближайшим хатам, мы со вторым красноармейцем, Поповым, поднялись в ветрянку по шаткой лесенке.
Ударило запахом горькой мучной пыли, там и тут задувало из щелей. Чиркая спичками, мы наконец выбрали себе угол, сложили там солому. И пока мы укладывались, вернулись Лемеш и Сарыч.
Лемеш был прав – на ужин не нашлось даже хлеба.
– Но вас, – вежливо сказал мне Лемеш, – мы заведем к ихнему председателю, вас они уложат. Пойдемте!
– Уложат, – многозначительно пробурчал Сарыч.
Я отказался.
– Как находите, – отвечал Лемеш рассудительно. – Но имейте в виду, что и тут может случиться всяческая волынка. Вам с нами, может, невыгодно: одно дело землемер, другое – продармеец.
И начались беспросветные рассказы Лемеша – о кулацком лукавстве, о беспощадности, с какою кулаки расправляются с продармейцами и коммунистами, и, наконец, об особо мрачных повадках хуторян-сектантов.
Выходило так, что сам-то Семен Лемеш успел уже раз двадцать выскользнуть из рук свирепых мужиков. То спасала его сметка, то, недобитый, он уползал из ямы на проезжую дорогу, то в последнюю минуту, когда его вскидывали над краем колодца, во двор, сверкая клинками, врывался кавалерийский отряд Котовского.
Но чаще всего Лемеша спасала внезапная любовь кулацкой дочки, постигшей его, Семена, правду и доблесть. Сколько красок находил при этом рассказчик! Взволнованное воображение рисовало подробности любви довольно разнообразно.
– Бабы лезут к мужику под кожух, как тараканы к теплому хлебу, – сказал красноармеец Попов.
Молчаливый Сарыч сидел у входа с винтовкой между коленями.
Лемеш продолжал – и выходило, что по всей Одесщине ждут не дождутся Лемеша нарядные невесты.
– Почему же вы не женились ни на одной из них? – спросил я, стараясь постичь, чего больше в этих рассказах – тщеславия или мечты.
– Нет, – отвечал Лемеш, – все это чужие души. А мне интересно, чтобы чужая красивая женщина покорялась мне всей душой. Чтобы она – вели ей – подожгла родительское гнездо…
Помолчав, Лемеш добавил с грустью:
– Однако же этого они не тямят… Вот я и хожу бобылем.
– Да зачем же вам обязательно девушку из кулацкого гнезда?
– Удовлетворение! – коротко отвечал Лемеш.
А так как нам не спалось, он начал рассказывать еще один случай: в Гнилой Балке его заманили в ветрянку, в такую же старую ветрянку, в какой не спалось нам теперь, заманили под предлогом розысков упрятанного хлеба, а заманив, в темноте набросились, связали и на другой день должны были повесить на крыле.
– Послушай, Лемеш, – сказал Попов, – а может, тут тоже хлеб захован? Не пошарить ли?
– Да в той ветрянке хлеба и не было, – отвечал Лемеш. – Нас ехидно подманули – и только… Ночью вот, скрипит – совсем как тут, – и я думаю: «Сыграл в ящик. Хорошо, что я неженатый, – обойдется без женского воя и детского плача». Тяжко это воображать. А нужно вам сказать, что перед той ночью стояли мы у одного хозяина, и была у того хозяина дочка-чернявка…
– Хорошо рассказывать, когда уже свое пережил и дожил до спокойных лет, – сказал Попов. – А тут только беспокойство учиняешь. Брось лучше.
– А ты разве на фронте не был? – удивился Лемеш. – Вот именно был. Мы с Сарычем пятьдесят первой перекопской дивизии. Я еще на Урале формировался. Спать пора.
В это время Сарыч, несший караул, вступил с кем-то в переговоры.
– Кто там? – встревожился Попов. – А тебя, Лемеш, вздернут-таки на дрючок, потому что ты не о деле думаешь, а черт знает о чем… И чего только тебя назначают!
С винтовкой в руках он выглянул за двери ветрянки.
– Тут с хутора баба пришла, – сказал Сарыч. – Спрашивает – почему землемер не идет ночевать?
В степи была ночь. В холодном воздухе сильнее пахло полевым сушняком и дымом с хуторов. Перед ветрянкой стояла женщина, освещаемая высокой летучей луной. Сложив руки под шалью калачом, она ждала, что ответят ей, – пойдет землемер ночевать на хутор или не пойдет?
Лемеш выступил вперед, присматриваясь к женщине. Та стояла молча и спокойно.
– Ты кто же? – спросил Лемеш. – Работница? Хозяйка?
– А вам не все одно? – усмехнулась женщина. – Меня свекор послал, он у нас хозяин.
Голос у женщины был свободный и сильный.
– А муж где? – допытывался Лемеш.
– Муж? Может, в Турции, может, в сырости…
– Так. Ясно. Ну, землемер, как решаешь? – тихо спросил он меня.
– Нет, я останусь с вами, – так же тихо отвечал я.
Тогда Лемеш подтянул на плечах ремень и спустился по лестнице.
– Пойдем, солдатка, – позвал он женщину.
Попов в замешательстве вскрикнул:
– Эй, Лемеш, куда же ты?
Но наш начальник отвечал не оглядываясь:
– У меня мои землемерные вопросы назрели. Спокойной ночи, товарищи.
Они долго шли через степь, под луной, удаляясь от нас. Луна разгоралась фаянсовым блеском, выскальзывая из-за тонкого, вялого облачка. Лемеш все шел и шел со своей проводницей через степь.
– Он хитер, – сказал Сарыч. – Он не только землемером – и скопцом скажется, лишь бы разведать.
– Да, уж тут скопцом, – иронически заметил Попов. – Опасный он человек.
А я долго стоял в степи, озаряемый длительным сиянием луны. Должно быть, при приближении Лемеша и его спутницы к хутору там усилился собачий лай, потом стало тише, совсем тихо, только продолжали поскрипывать старые крылья ветрянки. Одно крыло скрипело, слегка покачиваясь, и я подумал, что как раз на этом дырявом крыле могут повесить человека…
Но это была лишь одна сторона мысли – одновременно вырастало веселое, задорное, живительное любопытство: чувство, от которого, как от счастья, все приобретает особое содержание, необыкновенность и назидательность, и это чувство побеждало.
Покачнувшийся невдалеке куст репейника, тень, пролетевшая по степи, поскрипывание старого крыла – через все это душа человека, всегда жаждущая трепета, ощущала его и, насторожившись, то приоткрывалась, то пряталась.
В стороне хуторов теперь мерцал только один огонек, и когда потух он, я готов был думать, что он потух не без значения. Как-то там Лемеш? Что делать нам, если он не вернется?
– Не пойти ли нам на хутор? – спросил я, возвращаясь к ветрянке.
Сарыч продолжал дремать с винтовкой между коленями. Отпряженные, повернутые к подводе лошади смирно жевали сено.
– А зачем это? – сонно возразил мне Сарыч. – Чего слоняться? Ложитесь спать.
Попов уже храпел в ветрянке, пробрался туда и я и улегся, зарывшись в колючее сено. То, что наболтал здесь Лемеш, и то, что предстояло нам утром, оживлялось в дремотном воображении, и мне уже чудились выстрелы, бестолковая скачка коней, мешки с зерном, подпрыгивающие на подводе, а на мешках растрепанная женщина, которую умыкает Лемеш… С этим я и заснул.
Разбудил нас он же, Лемеш, притащившись на рассвете. Он был сосредоточен, не отвечал на ехидные словечки Попова, сразу заговорил о деле.
– Хлеба у них – завались. Но действовать тут нужно тонко. Вы бы, товарищ землемер, придумали слова убеждения. А?
– Какие слова убеждения? – удивился я, не вполне проснувшись.
– Вам бы на сходе речь произнести.
– Да я никогда речей не произносил.
– Вот я и говорю: придумайте.
Я вспомнил, что Лемеш выдал себя за землемера, следовательно, мне остается разыгрывать из себя начальника продотряда, но это как раз Лемешу и понравилось.
– Это как раз и хорошо, – сказал он. – Им треба мозги трошки передвинуть. Обязательно придумайте речь, товарищ землемер. С вас мы и начнем. Вот покушайте хлебца – все, что достал.
В ознобе от пробуждения и утреннего холода я с тоской поглядывал на большой ломоть серого хлеба, на тусклую, неохотно светлеющую степь. Ночное возбуждение прошло. Белые ватные дымки, поднимающиеся над хуторскими крышами, напоминали лишь о том, что в той хуторской, чужой недружелюбной жизни нам места нет… Лемеш продолжал сообщать сведения, добытые им за ночь: на сход хуторян прибудет святой Илья – отец Иннокентий…
Наша подвода въехала на поляну, где ожидался сход, одновременно с тачанкой Иннокентия. Беспородные кобылки равнодушно свернули с дороги, когда с другой стороны ворвалась на поляну тройка вороных, гривастых, тучных коней. Чернобородый Иннокентий, бывший кузнец, потом монах и расстрига, стоял в тачанке во весь рост, поворачиваясь направо и налево, благословляя сбегающихся к нему хуторян. Из дверей, распахивающихся навстречу проповеднику, несся, раздражая наши ноздри, запах теплых оладий и борща.
Может быть, для того чтобы уравновесить впечатление от двух въездов, впечатление, невыгодное для нас, Сарыч вдруг выстрелил из винтовки в воздух. Хуторяне, обступившие было нашу подводу, отпрянули; толпа, бегущая за Иннокентием, рассеялась по поляне.
Тачанка, казалось, налетит на нас, но возница с ходу остановил коней, и тяжеловесный отец Иннокентий, покачнувшись, воздел к небу руки.
– Братья! – прокричал он. – Песня наша возвещает утро славы, начнем ее. С востока луч прибудет – восторг душевный и пробуждение. Подымемте ж сильно свой голос… – С речитатива проповедник постепенно восходил к мажорно нараставшему напеву, подхваченному толпой.
Женские голоса, следуя за сильным басом Иннокентия, прозвучали особенно громко, опередили его, повели хор дальше. Мужчины пели, оставаясь там, где настиг их выстрел Сарыча и окрик Иннокентия. Многие из них, не сводя глаз с Сарыча, держали руку за пазухой. Женщины собрались в отдельную группу. Впереди стояла та солдатка, которая приходила ночью к ветрянке, я узнал ее по манере складывать руки под платком, по ее смелому, сильному голосу. Она была снохою местного председателя, сын которого ушел с белой армией: «Может, в Турции, а может, в сырости…»
– Ах ты, дурень! – выругался Лемеш, зло оглядывая Сарыча. – И чего? Чего стреляешь? Ах ты, малохольный! Кинь винтовку!
Сарыч растерянно положил винтовку, все мы удивленно оглядели поляну.
Песня замирала. Позванивали бубенцы на сбруе вороной тройки. Голоса обрывали песню – кто раньше, кто позже, и, как басовая нота органа, последним звучал и наконец оборвался голос Иннокентия.
– «Слава истинному богу, пребывающему в доме у нас!» Здравствуйте, люди! Вы кого хотите изгнать пальбой? Кто мешает вам? Что тут вашего? От кого и к кому вы приехали?
– Не к тебе, молдаванин! – опять не выдержав, крикнул Сарыч.
– Да и не к нам! – выкрикнул кто-то из толпы. – Поворачивайте оглобли!
– Выслушаем людей, – хитря, чувствуя свою силу, пробасил Иннокентий. Он понимал, конечно, что в случае какой-либо беды ему первому отвечать. – Объясните: чего вы ждете от хуторян и чего им ждать от вас?
– Пускай их начальник говорит! – опять выкрикнул кто-то.
Лемеш сильно толкнул меня кулаком, и я встал.
Поднимаясь, я видел вокруг хуторян-сектантов, за ними – потряхивающих гривами коней Иннокентия и его самого, сильного и бородатого мужика в зипуне, в высокой барашковой шапке, насмешливо глядящего на юнца. Слава о проповеднике Иннокентии шла далеко по уездам.
Пятно солнца проступило в туманных облаках над горизонтом, по моему лицу, как я почувствовал, скользнул луч. Почему-то я мгновенно вспомнил притчу о мальчике Христе, проповедовавшем перед мудрецами на ступенях Иерусалимского храма. И только позже я понял, что уже начал говорить.
– Мы явились сюда по праву власти, – говорил я неторопливо, спокойно, веско, – но мы не хотим требовать, а хотим убеждать. Мы люди другой веры: не Страшного суда, а людского. Не для царства божьего, а для самих себя, для нас с вами, граждане, требуем мы справедливости. Слушайте меня, граждане хуторяне!..
Впервые случилось мне испытать чувство самозабвения и убежденности, изливающееся точными, смелыми, неподкупными словами. Все, о чем я думал последние месяцы, сожалея об иной жизни, которой нет, но которая могла бы быть на этих жирных полях, – все прорвалось, как обличение.
Правда обнажила меня, и она же меня защищала.
Не Страшный суд по учению баптистов, а картины революционной борьбы и близкого, всеобщего неизбежного справедливого ликования воодушевляли меня.
То, что я начинал с религиозных представлений сектантов, заставило их прислушаться. А дальше я заговорил о труде людских масс в доках, на заводах и под землей, об усилиях пролетариата и советской власти, утверждающей не загробное утро, а неизбежный рассвет человеческого сознания, говорил и о садах близкого будущего, и о сегодняшнем грозном истощении сил, требующем последнего напряжения. Поросшие щетиной голода, озлобленные отцы, женщины и дети, падающие от истощения у ворот своего дома, ждут руку помощи…
– Вот чего мы ждем от вас, хуторяне!
В моих словах, говорил я, нет угрозы, хотя я мог бы не призывать, а заставлять. Но больше всего моим словам не хватает способности передать то, что мы, городские, знаем о лишениях рабочих людей. «Горе всем беременным и питающим сосцами в эти дни», – звонко возгласил я словами евангелиста. Какой же бог простит человеку, отказавшему другому труженику в куске хлеба? Разве о таком боге думаете вы, хуторяне? А если таков ваш бог, то пастух Иаков, вступивший в борьбу с богом, пусть будет нам примером…
– Сын божий Иисус Христос накормил пятью хлебами пять тысяч человек, – заревел вдруг Иннокентий со своей тачанки, – но это были люди, пришедшие по слову Иисусову!
– Нет, – возразил я, – ты неверно толкуешь, отец Иннокентий. Люди, пришедшие к морю Галилейскому, были вольными людьми – крестьянами, рыбаками и ремесленниками. Они были пролетариями, и Христос не спрашивал у них, какой они веры, прежде чем накормить. Ты неправ, Иннокентий! «Потерян человек, если верят ему только за то, что призывает он имя бога», – вспомнил я стих из Матфея, обращаясь к толпе, опять к Иннокентию, и тут по его взгляду, по гневно потемневшим глазам проповедника увидел я, что меня начинают принимать всерьез: все вокруг приутихло…
Мы съехались вплотную. Я слышал запах бороды и пота. Кони Иннокентия то порывались вперед, то пятились, закидывая головы, гремя бубенцами. Наши кобылки невозмутимо дремали. Толпа окружила нас плотно, многие влезли – кто на тачанку, кто к нам на телегу, – и спор между телегой и тачанкой, давно отвлекшийся от источника и цели, становился все более странным. У нас пошла речь о небесных знамениях. По апокалипсису, семь толкований дал Иннокентий затемнению солнца и багровению луны – я одно объяснение. Но как раз тут, придерживая за пазухой обрез, выступил молодой парень.
– Тебя послушать, отец, – молвил он, обращаясь к монаху, – так повертай как хошь… хошь – так, а хошь – этак… куда язык тянет. А комиссар – як поставил, так и утвердил. Как дерево! Оно и стоит. А? Мне это больше нравится…
И после шустрого хлопца все чаще начали раздаваться возгласы одобрения в мою сторону. Как всегда, спор разделил людей. На каждую цитату Иннокентия у меня находилось две. Во мне все работало: кровь, мысль, голос. Стихи из Пушкина, Беранже, Гейне звучали ничуть не бледнее апокалипсиса, и слова не задерживались, как это случалось у Иннокентия, потому что проповедник верил в слова, а я – в правду.
Прокричали петухи. Сноха председателя протолкалась через толпу. Председатель – старик в рыжей свитке – поднял голову и в наступившей полной тишине спросил:
– Ну, а обидать будете?
– Видно же, что люди хотят исть, а вы пытаете, – укоризненно произнесла сноха.
– Ступайте пообидайте, – подтвердил председатель. – Дело потом обтямим. Сходи с тачанки, отец. Доругаетесь за столом, голубцы стынут.
– Та разве? – пожалел кто-то. – Пускай еще причесывают – занятно.
Иннокентий вдруг туже надвинул шапку, столкнул своего возницу и, сам подобрав вожжи, стоя хлестнул по коням. За ним опять было бросились хуторяне, взвизгнули псы, метнулись куры, но он, не оглядываясь, жестоко хлеща вожжами, с трубным воплем унесся с поляны – в гору, в гору, к самому краю земли, подобно пророку Илье – как, видимо, и замыслил.
С хуторов Ново-Буйницких мы выехали на другой день, сопровождая несколько подвод, плотно и доверху груженных мешками с зерном и мукой.
После диспута, несмотря на обиду, нанесенную Иннокентию, хуторяне поставили нам лишь условие: «Не вмешивайтесь. Всю разверстку мы решаем сами между собой, а будет сделано по совести». Сарыч чуть было опять не испортил дела: в избе, куда его приняли на постой, он закурил. Спас положение Лемеш. Человек ученый, землемер, он солидно объяснил хуторянам, что сей смуглый человек совсем непонятливый, он турок…
Всю обратную тряскую дорогу до волости Сарыч молчаливо дулся на Лемеша. Попов осуждал меня.
Обозревая идущие впереди подводы, Попов говорил:
– Вроде как милостыню выпросили. Ей-богу! Мне тут больше не бывать, я демобилизуюсь, а вам, я думаю, еще придется тут стрелять из винта. Сарыч хорошо сделал. Всех их – к ногтю…
Не знаю, бывал ли еще на хуторах Лемеш, – я больше там не бывал и не могу сказать, насколько прав был Попов…
Как, однако, далеко все это теперь! Трудно поверить, что все так и было! Но именно там, на Ново-Буйницких хуторах, в тот пасмурный день я впервые полностью приобщился к долговременной, вдохновенно-возвышающей житейской борьбе, выраженной разнообразно, щедро сужденной нам революцией.
ЧУЖИЕ РОЩИ
Путешествие наполнит тебя знанием и укажет тебе твою цель.
Арабское изречение
От мешочников не стало спасения несколько позже, когда курская лесостепь сменилась полями Тамбовщины, но за Курском было еще сравнительно спокойно.
Толстая мордовка появилась, кажется, в Мармышах. Игриво поводя головой в белом с цветками платке, приветливо улыбаясь, широколицая и слегка косая, она похаживала вдоль состава…
Среди пререканий с дежурным по станции я забыл про нее и уже после того, как поезд тронулся, вдруг заметил в углу теплушки женский платок.
– Григорий! – осуждающе воскликнул я. – В чем дело?
Караульный начальник эшелона Григорий Лобачов наступал на меня горячо, из его объяснений я понял лишь одно: сопротивляться бесполезно. В сердцах я полез на нары.
Когда на следующей станции мы с Лобачовым вышли проверить пломбы, он стал объяснять дело тем, что ребята-де пожалели женщин. Женщин! Вот как! Стало быть, пассажирок не одна, а две. Мать с дочерью.
Женщины пробирались в свои края, пятые сутки они ждали попутного поезда с добрыми людьми.
По лукавству глаз Лобачова, по тому, как он избегал моего взгляда, я понимал, что карнач недоговаривает, я понимал все.
– Гриша, – осталось сказать мне назидательно, – прошу без хамства: ты же знаешь наше назначение.
– Конечно, знаю, – отвечал нимало не смущенный Лобачов. – Так что же? Пломбы, видишь, на месте.
Маршруты с маисом и кукурузой двигались из черноморских портов. Война кончилась, начинался мир, и зерно, назначенное изголодавшимся людям, день и ночь с шумом горных потоков ссыпалось в вагоны из пароходных трюмов. Не боеприпасы – хлеб шел по стране, возобновляя в полях посевы: мы мирно пересыпали зерно в ладонях, не всегда понимая, что нас так сладко и беспокойно радует.
Я долго помнил ночь отъезда. Мой эшелон стоял готовый и запломбированный, когда я пришел в порт с мандатом коменданта эшелона. В теплушке еще не было огня, красноармейцы караульной команды размещались по нарам в пахучей темноте. Втащил и я свой мешок. Мы обошли состав, и Григорий Лобачов, карнач, тотчас же отвернулся от меня, выражая этим свою независимость и безразличие к коменданту-недолетку.
Доехать до места было не легко: в коридорах опродкомгуба, где коменданты продмаршрутов, толпясь, получали назначение, мы видели длинные списки наших предшественников, снятых в пути по болезни. Свирепствовал тиф. Большинство из снятых в пути не вернулись совсем.
Однако в ту ночь отъезда мне было радостно, несмотря на то, что Аня Альтман обманула меня.
У Платоновского мола смолисто блестел высокий, озаренный электричеством борт американского парохода, стучала лебедка, по сходням быстро шли грузчики. В столбах света густо восходила пыль. Лебедка гремела и истерически завывала, облыжно ругались грузчики, но на путях было темно и тихо.
Подали паровоз, негромко лязгнули буфера, сцепщик проверил сцепление, и мы тронулись.
Аня Альтман так и не пришла.
Покуда проезжали мимо портовых огней, я стоял в дверях теплушки. Почти у колес вагона плескалась вода, потом пошли пески, потом – оттаявшая мартовская степь. До рассвета ехали мы в сыром и теплом воздухе, удаляясь от моря, а забрезжило – я улегся на нары и заснул. Нет, я больше не хотел мелко одарять эту девушку – ни своим пайком, ни другими копеечными заботами, нет, я больше не соглашался носить из отдаленных низинных районов города ведра с водою на четвертый этаж, чтобы беспокойная мама Анны могла замесить коржики или сварить мамалыгу.
С той точи прошло немало времени, пока пробирались мы через страну с юго-запада на восток. Сильно поубавилось в дороге то радостное возбуждение, с каким мы выезжали. Перегруженные вагоны, оседающие под тяжестью зерна, привораживали добрых людей на всем, пути, и чем ближе к Поволжью, тем чаще обнаруживали на маршрутах сбитые пломбы, проломанные днища вагонов. Но наибольшим бедствием становились мешочники.
Гладкая черная земля бежала у нас под колесами.
В пасмурных полях снег стаял, но вдоль дороги то там, то здесь еще лежали клочки грязно-серебристого, траурного снега. Эти пятна снега, да стаи галок, да темные, подернутые пленкой мазута лужицы – вот и вся природа!
А в моем городе к этому времени уже зацветала сирень.
Невзрачная земля была, однако, желанной для других, и удивление мое мешалось с жалостью к бедным, нетребовательным людям. Как они рвались к своей земле! Как хотелось им съесть свой кусок в своем углу! Где? Вот под этими прочерненными соломенными крышами?
Ни брань, ни угрозы оружием не защищали маршрут от толп мешочников. Все равно к следующей станции мы подходили торжественно увешанные тугими мешками и людьми с котомками…
На перегоне после Грязей ограбили маршрут, шедший перед нами, поэтому в Грязях нас задержали на запасных путях.
Двое суток мордовка не спала, прикрывая собою дочь. Женщины сидели за мешками с зерном, отобранными у мешочников, и молодую мы видели только вдруг, когда она попадала в луч света из высокого окна теплушки. На молодом чистом широком лице было столько беспокойства и любопытства, что мать, торопливо прикрикнув, тут же впихивала девицу обратно в угол и снова предусмотрительно размещалась на подступах к ней. От неусыпной заботы женщину отвлекало только одно: с жадностью прощупывала мордовка каждый новый мешок, сваливаемый нами в угол.
Все, чего бы ни пожелал, от безделья и беспокойства, любой из нас, мать исполняла безропотно и, несмотря на бессонные ночи, улыбалась нам снова и снова, защищая своими улыбками дочь.
Больше других дружили с мордовкой, которую звали Макарихой, караульный начальник Гриша и белокурый, шаловливый, кровь с молоком, Федя Локотков. Но, как понимал я, Федя норовил прорваться за Макариху – к Марине.
Не потому ли особенно горячо привечала его мордовка?
Чем явственней, однако, слышались из-за мешков вздохи и ласковые прибаутки Макарихи, тем больше беспокоился Лобачов; его место на нарах было рядом с моим.
Так и на этот раз.
Он ворочался под шинелью, бубнил и наконец сел у печки, подбрасывая дрова. В теплушке стало светлее. Поглядывая в угол, Лобачов поджаривал на жестяном листе зерна кукурузы, и они, накаливаясь, щелкали, как пистоны. Лобачов позвал меня ужинать.
– Нет, – отвечал я, – ешь без меня.
Мне не хотелось ни есть, ни лежать, и я вышел из теплушки.
За эти дни я подсмотрел другое лицо Макарихи – не ту улыбку со смешанным выражением подобострастной готовности и страшного утомления, с какой она встречала мужчин, а темное, твердое, злое лицо немолодой женщины, испытывающей страх перед мужчинами и испуг оттого, что ее с дочерью могут высадить.
Мне она не платила, и потому меня она боялась больше, чем Федьку или Лобачова.
Но как можно с такою настойчивостью желать близости грубой толстой бабы в смазных сапогах, что можно найти под ее засаленным шушпаном? Это желание было мне непонятно так же, как приверженность здешних людей к их безрадостной, нищей земле.
Гришка утверждал, что Макариха с рассветом выходит молиться солнцу. Но какое солнце растит этих людей?
Воспоминание об Анне Альтман, об ее твердой, чистой, живой ладони, пробующей перенять у меня ведро, вдруг примирило меня со всем тем, от чего я, собственно говоря, бежал. Казался невероятным радостный блеск ведра, наполненного водою. Чудесно запахли коржики. Теплом, оставленным там, у печки-румынки, в комнате Анны Альтман, повеяло на меня…
Меня окликнули. У концевого вагона шагал Козлов.
– Ужинали? – спросил он.
Все они, красноармейцы караульной команды, были уральскими и волжскими мужиками. И у них по мере приближения к Волге раздувались ноздри от запаха низких сырых туч и дыма деревень. Сейчас же Козлова заботило сало, что шло в паек. С утра я и сам думал об этом ужине с удовольствием, а сейчас мне хотелось только воды из чистой посуды.
– И ты не шуткуешь? – притворно подивился Козлов. – Вот Лобачов, он воду не пьет – ждет квасу…
От долгого караула Козлов, видимо, заскучал, мы присели на ступеньку тормозной площадки.
– Ты перестань досаждать карначу, – сказал Козлов. – Бабы у тебя места не отнимают. Тебе что? А Григория надо понять: мы все последний месяц сложим, а потому и дразнят нас девки да бабы, квас да сметана. Вот съездим – и демобилизуемся. А Лобачов три года без взыскания отслужил и три раны имеет. У него сердце слабое, больное, доброе, к мирной жизни очень чуткое. Это пойми, комендант! Ты по какому году служишь?
Но я не мог признаться Козлову, что в первый раз закрепил кобуру на поясе лишь две недели тому назад.
В теплушке, у раскаленной, малиновой печки сидел Федя. Вскоре и Лобачов, вылезши из угла пассажирок, подсел к нему – оживленный и довольный. Его большой рыхлый нос от удовольствия и тепла, казалось, стал еще мягче, углы рта улыбались, щурились глазки. Теперь он взялся за хлеб с салом.
Тепло, излучаемое печкой, росло и росло. Хотелось бежать от этого зноя, от запаха сырых щепок, зерна и шинелей, но невещественная, враждебная, злобная тяжесть удерживала меня. Потом в забытьи веяло на меня запахом пригретого, опрятного тела Анны…
Разбудил меня Лобачов.
Поезд маневрировал, чтобы выйти со станции. Брезжил рассвет. Только что приходили люди из железнодорожной ЧК.
– Вставай, – будил меня Лобачов. – Надо обойти маршрут: рядом угнали вагон.
Я встал, пошатываясь.
Тошнотворное чувство, как бы нарочно напоминающее о моем непрочном естестве, снова поднималось; я чувствовал в себе какие-то перемещения, почти скрипящие спазмы желудка. Нужно было собрать все силы, чтобы держаться. Очевидно, со стороны я казался пьяным и грозным.
Я бежал вдоль состава с револьвером в руке, и мешочники при виде меня беспрекословно освобождали буфера и тормозные площадки. Мой бег как бы сдувал их.
Поезд убыстрял ход. Я вскочил на площадку последнего вагона.
На подъеме поезд снова замедлил ход, и мы опять побежали вдоль состава, криками и выстрелами вспугивая мешочников. Бабы и мужики, успевшие опять прицепиться, сыпались с вагонов.
Нередко тугой мешок выскальзывал из рук и, разрезанный колесом, хрустнув, беспомощно поникал у рельса; пшеница или крупа смешивались с грязью и талым снегом.
Я снова палил из своего револьвера, наседая на чернобородого старика; его мешки, связанные попарно, были навешены на буфера и покачивались, как две туши; сам старик сидел на буфере верхом.
– Слазь, дьявол, буду стрелять! – кричал я, поднимая револьвер.
– Погоди, родимый, – отвечал старик, – погоди, не могу!
– Я сейчас тебе подсоблю, – кричал я, – я твои мешки под колеса сброшу!
– Я те сброшу! Я тебя, желторотый, самого под колеса поставлю! – отвечал старик, свирепея, не сводя глаз с револьвера.







