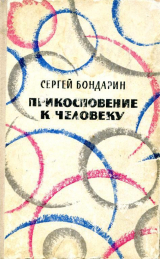
Текст книги "Прикосновение к человеку"
Автор книги: Сергей Бондарин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
И наконец я посетил эти места уже недавно.
Разговор с Осиповым у Трех колодцев я запомнил. Помнил и самые криницы с лужами, порозовевшими от матросской крови, с суетливыми стайками воробьев.
Все, все я нашел здесь таким, каким желал найти, каким оно и должно было быть через годы горя, радостей, трудов.
Таким хотел это видеть и Осипов.
– Вот они! Вот! – чуть было не воскликнул я, увидя неподалеку от шоссейной дороги Одесса – Николаев, на окраине Крыжановки, затененной фруктовыми садами, ложбинку с колодцами.
На этот раз я пришел сюда не с сачком для ловли бабочек и без пистолета ТТ, отягощавшего меня в годы войны гораздо чувствительней, чем струганый карабин в детстве… Но нет, и на этот раз я был не одинок, а с милыми, шумными спутниками…
От лужиц резко и дружно вспорхнули воробьи.
Должно быть со скотного двора, приятно несло запахом навоза. Истоптанная копытцами скотины мягкая сырая почва свидетельствовала о том, что криницы по-прежнему питают водой округу. Дела было много: невдалеке возвышались тучные многолетние скирды соломы, заслоняя полгоризонта. Слышалось мычанье, повизгиванье поросят…
Далеко и стройно легла полоса молодого леса – по самой той насыпи, по которой пятнадцать лет тому назад проходил передний край позиции у Трех колодцев.
ЛОЖКА В САПОГЕ
Я затруднился бы сказать, насколько разнообразны чувства, пробуждаемые картинами войны, но умение видеть войну разнообразно.
Художник наблюдает и запоминает войну с тем уединенным, молчаливом, несговорчивым вниманием, которое одно только и обещает обширность, характерность и долговечность наблюдений.
Восьмого марта, в день женского праздника, мы были на балу с моим другом-приятелем художником С., сильным в рисунке.
Перед этим, надеясь встретить на балу Любу Сахно, долго о ней рассказывал другой мой приятель, балалаечник, пулеметчик и снайпер, старшина первой статьи Игнат Постоев.
Но и сам Постоев заслуживает того, чтобы о нем знали.
О себе Постоев говорит так:
– Хотя я пулеметчик и снайпер, а в школе имел пятерку за штыковой бой. А в чем секрет штыкового боя? За что мне выставляли пятерку? Думаете, я хорошо колол? Нет, а вот что: я бежал на чучело со зверским выражением лица. Все.
И у Постоева всегда такой вид, будто он набегает на чучело с винтовкой наперевес. Ему нравилось зверское выражение лица. Но, между прочим, это редкой души товарищ.
В первую же ночь после высадки десанта, действуя общей боевой группой, Постоев с товарищами овладели проходом железнодорожной насыпи, где у противника был дот. В этой же группе находился пулеметчик Василий Птенцов, а при нем, вторым номером – Люба Сахно.
С рассветом немцы пробовали отбить у матросов дот, но их усилия оставались тщетными. Враги залегли по ту сторону насыпи в окопчиках, отрытых за ночь. Такие окопчики позже можно было видеть вокруг Сталинграда, под Орлом, по всей Украине. Гнездились немецкие автоматчики и на толстой рыжей насыпи среди цистерн, ржавеющих на путях. Матросы видели с насыпи пустынную мокрую землю, а далее, на шпалах и рельсах, опрокинутую цистерну. Открытое горло громадной посудины очень соблазнительно смотрело в сторону немцев.
Люба Сахно была хорошо известна как снайпер еще со времен Севастополя.
Оба они – и Птенцов, и Сахно – со своим пулеметом окопались рядом с Постоевым. Сахно долго дышала у самого уха Постоева, внимательно рассматривая цистерну и местность возле нее.
Потом она спросила Птенцова: «Как думаешь, Вася, долго будем держать здесь оборону?» – «Наверно, долго, – отвечал Птенцов. – Майор велел считать сухари. Хочешь пить? Ребята принесли два сапога воды, достану».
Постоев охотно поделился бы с девушкой своим запасом воды, но она отказалась, и тогда Постоеву оставалось только одно – он поделился с Птенцовым и Любой своим планом…
Так и сделали.
На следующую же ночь, вторую после высадки, они втроем переползли на новую позицию, таща за собою пулемет.
Самым опасным был момент, когда цистерна, опрокинутая в сторону немецких стрелков, оказалась вдруг перед пластунами, а у них не было уверенности, что огромная бочка еще не занята.
На всякий случай Сахно и Птенцов вскинули автоматы и приготовили лимонки. Постоев подполз под железное брюхо цистерны и постучал. «Дома никого нет, – сказал он из темноты. – Занимаем жилплощадь».
Рассвет второго дня застал бойцов на местах. С новой позиции пулеметчики видели то же, что должен был видеть со своей позиции снайпер Постоев. Горло цистерны у самой земли, как огромное дуло, глядело в сторону немецких окопчиков наискось, почти с тыла.
Немцы как будто ушли с насыпи, но в окопах их стало больше. Это можно было заключить по возрастающей силе огня. По-видимому, противник опять готовился к контратаке.
Путь из окопов в тыл, а следовательно, и к окопам пролегал как раз перед отверстием цистерны, и эта дорога особенно оживилась во второй половине дня. И вот наступил момент, когда один из молодчиков не смог пройти к окопам. Следующий был подстрелен, прежде чем, выбравшись из траншеи, он наткнулся на труп. Третьего Постоев пропустил, желая, вероятно, поглядеть, как тот поведет себя.
Сахно и Птенцов выглядывали из-за цистерны. Их время еще не приспело.
Найдя убитого, гитлеровец вернулся траншейкой в окоп, но вскоре показался опять – и на этот раз не один, а с другим солдатом. Они осторожно ползли, оглядываясь на дот, прежде занимаемый ими, а теперь – нами. Нет, они не подозревали, что опасность стережет их с другой стороны.
Больше никто не прошел этой дорогой. И только немногие, как это казалось Любе, успевали, поникая к земле, оглянуться на звук выстрела. Длилось это более часа. Не в первый раз Люба Сахно видела картину войны, но и она начала нервничать. Птенцов чувствовал это по ее дыханию. Она начинала мерзнуть, хотя и не соглашалась в этом признаться. Птенцов с облегчением думал о том, что испытание, положенное ей, уже идет к концу.
В руках у Птенцова забился пулемет. Это был сигнал к общей атаке. Матросы, вставая во весь рост, сбегали под насыпь…
Что еще успел рассказать нам Постоев? О Любе Сахно было известно, что она – буфетчица из Ялты. С приближением немцев к Яйле девушка ушла в Севастополь. Она вступила в экипаж и вскоре стала разведчицей.
Бой у железнодорожной насыпи завершился полным уничтожением противника, засевшего в окопчиках. Огонь фланкирующего пулемета Василия Птенцова и громовой крик моряков: «Ура, вали фрицев на пупок!» – оборвались так же внезапно, как начались. Минут через пять после первой очереди Птенцова «валить на пупок» было уже некого.
Люба Сахно стояла над краем окопа, заваленного телами, и, видимо, эта ее поза крепко запомнилась Игнатию Постоеву, шагавшему с нами на бал вечером 8 марта.
Он говорил с горячностью:
– Жалейте, жалейте, товарищи художники, что вы не видели этого. Вот бы нарисовать! Какая это была фигура! Богиня, а не девушка!
Ни я, ни мой спутник, талантливый рисовальщик, не видели Любу Сахно в тот вечер боя. Теперь нам предстояло увидеть эту девушку. Однако всегда общительный мой друг, выслушав рассказ, шагал молчаливо. Мне показалось даже, что он загрустил…
Из темноты нас окликнули:
– Стой! Кто идет?
Мы назвались.
– А билеты есть? – спросил строгий голос.
– Билетов нет, но нам сейчас выдадут контрамарки, – отвечали мы и развеселились. – Доложите о нас адъютанту.
Нас ждали, и оцеплению было велено нас пропустить.
Из-под земли повеяло винным духом. Скользя по ступенькам, мы сошли в помещение, предназначенное для бала.
Вероятно, не так давно здесь был винный погреб. Сырые, порожние, ароматные бочки поднимались стеною под потолок. Столы, составленные посреди помещения, были накрыты госпитальными простынями, уставлены плошками, чашками, котелками, освещены лампами, собранными со всего фронта; и бойцы у этих столов, слушая речь врача Сермяжкиной, уполномоченной среди жен начсостава, сидели, как трезвые мужики на чужой свадьбе. Не так уж много было здесь женщин, подопечных милой, ласковой Анне Адамовне Сермяжкиной.
Движение и веселье начались немного позже, после речи Сермяжкиной, когда с переднего края, из госпиталя и штаба пришло еще несколько запоздавших девушек. Хлебнув из плошек анапского рислинга, все поспешили начать танцы.
Время от времени у дверей слышался выкрик дежурного:
– Старшина Ларина! На выход!
Время от времени близкий разрыв снаряда, его толчок вытряхивал из невидимых щелей песок и комья земли.
«Богиня, – весело повторял про себя Постоев, настраивая свою балалайку и уже поглядывая с той искоркой в глазах, какая свойственна всем балалаечникам. – Богиня». Видимо, это словечко ему очень понравилось.
По глиняному, утоптанному полу шуршали десятки ног.
Вальс-бостон был объявлен первым, и в первом же танце мы увидели Любу Сахно.
– Вот она! – восторженно выкрикнул Постоев.
Его балалайка удивительно приспособилась к ритму театрально-медлительных, важных шагов бостона. Танец вел гармонист Гладченко из комендантского взвода. В стороне стоял Вася Птенцов и тоже не сводил глаз с Любы.
– Вот она! – повторял Постоев. – Это же надо видеть… Богиня Рафаэля!
Невысокая девушка, стриженная, как мальчик, с острым небольшим носиком на миловидном, несколько огрубелом лице, широко шагала, подталкиваемая партнером. Она только что сняла ватные штаны и надела крепдешиновое платье. В широком ее шаге чувствовалась привычка много и долго ходить – и ходить не одной, не гуляючи, а с теми, за кем нужно поспевать.
Легкая крепдешиновая юбка силой движения отбрасывалась и вилась, взлетала, обнажая сапожок, и вот тут-то вдруг мелькнула засунутая за голенище деревянная ложка…
Я вспомнил все это вчера, рассматривая полузабытый фронтовой альбом зарисовок моего друга художника.
…Легкая юбочка вьется, взлетает, обнажая сапожок с ложкою, засунутой за голенище. Хороший рисунок! В нем есть все – и война, и чувство художника.
ПЛОТИНА
Не всякая птица долетит до середины Днепра.
Н. Гоголь
В первых числах августа мы забетонировали верхний блок семнадцатого быка и этим значительно опередили бетонщиков левого берега. До последних минут мы работали как бы в огромном деревянном ящике, куда ковши длинноруких дерриков один за другим вываливали бетонную массу, а мы разгребали ее и утаптывали. Неожиданно для себя мы появились над верхним краем опалубки, взойдя на дымящемся бетоне, как на хлебной опаре. Еще несколько минут тому назад мы видели над собою только голубое небо, и теперь сразу из голубого день обратился в желтый – преобладающий цвет широких берегов Днепра и самой реки, запруженной вверх по течению строительным лесом.
Невдалеке мы увидели могучий профиль той части плотины, которая шла к нам на соединение с левого берега. Круто обрезанный с водонапорной стороны, в лесах неубранной опалубки, бетонный бык плотины возвышался перед нами, как носовая часть дредноута, приготовленного к спуску со стапелей. В июле на работах правобережной секции мы могли увидеть только отдаленные фигурки людей, снующие туда и сюда, а сейчас я увидел там, на приблизившейся полудуге плотины, моего земляка Потылицу. Мне даже казалось, что я вижу его чиряк на скуле и морщину на переносице.
Края сближающихся секций обрывались к осушенному дну Днепра, в котлован, выстланный гранитом. Сюда, видимо, протянулась полоса тех же гранитов, из которых состояли пороги, а вниз по течению – древняя запорожская Хортица.
Где-то там, под нами, внизу, шумели и взвизгивали сильные струи воды. Струи, пущенные из брандспойтов, вымывали гранитные морщины породы перед тем, как заливать их первым слоем бетона. Вода вымывала остатки земли, щебенку. Струя взвизгивала, как пойманное животное. Там, на дне ущелья, было уже темно, а вокруг сияло солнце.
Всматриваясь в зияющую пустоту между двумя секциями, я начал ощущать ее как бы уже заполненной. Четыре еще не выращенных быка вошли в мое сознание массою, как в клетку – слоны.
Так, замечтавшись, я стоял на высоте семидесяти метров над котлованом с лопатою в руках…
– Бетонщик, бережись! Эй ты, лядащий! – хором окликнули меня рабочие; десятитонная бадья пронеслась надо мною, остановилась и закачалась.
Отмыкая днище, рабочие по кличке Китаец и Калаган вцепились в бадью, как кошки.
– Эй ты, лядащий! – повторил за спиною голос десятника. – Чого уперся? Надо робыть.
Из отомкнутой бадьи-ковша вывалилась зеленовато-серая масса бетона. Неслась на нас следующая бадья. Мы разгребали лопатами и утаптывали сапогами последний, верхний слой быка.
И в эту ночь мне приснился первый сон о бетоне.
…Над страною встала, как радуга, бетонная дуга, потрескивая от собственной тяжести…
Глаза испуганно раскрылись. Надо мною было теплое темное небо, падал легкий дождик. Я перетащился сюда, в кусты, среди ночи, спасаясь от барачных клопов.
Шуршал дождик, а дальше, по всему Днепрострою, и сейчас, среди ночи, хлопало и стреляло, взвизгивало и скрежетало: и в котловане, и в шлюзах, и на Хортице взрывали гранит, разгружались вагоны и бетонные бадьи. Я опять заснул, а когда проснулся, солнце стояло на привычной утренней высоте, еще не грея.
Все, что мне снилось этой ночью – мощные объемы, геометрические линии, голоса товарищей по работе, – все сразу забылось, кроме одного образа: могучей дуги плотины, которую мы выполняем.
Глубокой осенью, когда выпадает первый снег, над нами повиснет последняя бадья. Раскачиваясь, как на весах стрелка, она отметит равновесие между двумя смыкающимися полупролетами.
Передо мною, лицом к лицу, будет стоять Потылица, закончивший разгребать бетон, переводящий дух. В последний раз, отваливая днище бадьи, Китаец и Калаган изогнутся, как кошки, передавая движению замков свои усилия. Из размыкающихся створок бадьи вывалится замес.
И опять, разгребая бетон, моя лопата ударит о лопату Потылицы. Мы остановимся, взглянем друг на друга и, наверно, ухмыльнемся один другому. Я шагну к товарищу и краем своей лопаты с его лопаты счищу бетон… Десятник Демушниченко скажет: «От выдно, шо колы шлы на Днипрострой, то одним лаптем пользувались. Разгортай! От-то лядащий…»
Вот как уложим мы последнюю бадью, последние полтора куба из тысячных кубов плотины…
Когда-нибудь позже, года через два, я пройду по плотине от берега до берега, как по улице. Я постараюсь найти то место, где был утоптан последний замес бетона.
Как все видоизменилось! Ничего не понимаю!
С ровным широким шумом, переваливаясь через порог плотины, Днепр уходит к гранитам Хортицы. По эту сторону, вниз по течению, вдоль плотины пенится сорок семь водопадов. Днепр важно уходит дальше, сверкая, затихая…
Я посмотрю вверх по течению.
Беспредельная заводь напирает на плотину. Плотина выгибается ей навстречу, упираясь на сорок семь быков. Тихая заводь бьет в глаза сиянием, а страшный вес воды, скопившейся на протяжении ста километров, весь этот страшный вес удерживает собою плотина.
Я переведу дыхание.
Может быть, в эту минуту через реку будет перелетать смелая птица. Следя за нею взглядом, я обернусь к Правобережью.
Солнце уже зашло. Сквозь розовое море зари блестит звезда. Вспыхивают огоньки нового города, а вон новые сады, и только водокачка такая же, какою она была два года тому назад в голой степи!
Наступит ночь – я обернусь к Левобережью.
Дует ветерок, несет гарью. Откуда этот запах? Ветер прошелся по степи Левобережья, по ее хлебам и травам. Из-за Мелитополя, из-за Гуляй-Поля, что ли, долетел тот ветерок? От степей ли, когда-то истоптанных конями, избитых тачанками Махно? Да, конечно же оттуда! Да это же запах кизяка, кизячного дыма! Как, откуда он теперь?
Я вспомню гарный запах когдатошнего украинского села, вспомню Потылицу, вспомню Калагана, окрики десятника Демушниченко – и ухмыльнусь с затаенной радостью: хотя и «лядащий», – а все-таки, хлопцы, наша юность умела и мечтать и делать!
У ОКНА И НАД КНИГОЙ
ИГРА
Вся их игра состояла в том, что, выйдя за ворота, они говорили прохожим: «Здравствуйте!»
– Здравствуйте! – говорили они, две маленькие девочки, и ликовали, когда слышали в ответ:
– Здравствуйте! Здравствуйте!
Получилось это неожиданно, но сразу же стало понятно, что необыкновенная игра очень интересна. Сама по себе выдумка, одна лишь эта выдумка стоила многого: за воротами обращаться к взрослым незнакомым людям, получать от них ответ – от этого захватывало дыхание!
Когда одна из девочек в первый раз сказала прохожему дядьке «здравствуйте», другая испытала легкое чувство страха, хотя прохожий приветливо ответил им. Удача ободрила девочек, и вскоре они, раскрасневшиеся и оживленные, не пропускали никого.
Я подумал: ведь это не так просто. Значит, есть у ребят инстинктивное доверие к чужим людям, без чего едва ли получилась бы у них эта игра.
Вот только что они приветствовали какую-то жизнерадостную пару, получили ответное «здравствуйте, здравствуйте», улыбку, приветливый взмах руки – и были страшно довольны, что прохожие, удаляясь, все еще оглядываются и помахивают им руками.
Однако уже приближалась новая компания прохожих, и девочки, взявшись за руки, готовили новую веселую встречу.
Когда компания молодежи поравнялась с ними, они сказали бойко и счастливо:
– Здравствуйте!
Они как бы заново прислушивались к этому чу́дному слову.
– Здравствуйте! – повторили они, не слыша ответа.
Но компания шумно прошла мимо, не ответив игрой на игру.
Девочки замолкли и, постояв еще минутку у ворот, продолжая держать одна другую за руку, так же молча повернулись и перешагнули через порог калитки.
У ОКНА
Улица у нас узкая, тихая.
Палисадник для детей разбит перед нашим домом.
Смотрю как-то из окна. В палисаднике играет мальчик. Ему года три. Он и палку нашел, и камень, и вот начал складывать камни в кучу, посыпать их песком, прибивать палкой.
Он и так посыпал, и этак. Потом собрал песок в ведерко и высыпал его обратно. Потом опять собрал и опять высыпал.
Все было очень интересно и нужно.
Своим делом мальчик занимался с очень серьезным видом. Чудный мальчик! Бессмертная игра!
Еще раз подивился я тому, как немного нужно для свободного детского ума, как счастливо их воображение.
Вот мальчик построил крепость и, довольный незатейливой постройкой, отступил на шаг. Стены крепости, однако, осыпались и здесь и там. Мальчик решил утолстить их. Он деловито оглянулся, где бы еще добыть песку, и вдруг остановился взором на одной точке, очарованно замер, опустил руку с ведерком, потом другую – с совком. Он смотрел не на дорожку палисадника, не на кучу песку, а куда-то в сторону, через мостовую.
Улица у нас узкая.
Я заметил даже, что мальчик слегка побледнел.
Он вернулся к своей игре, но игра расстроилась. Он то и дело оглядывался туда, где что-то привлекло его внимание.
Нет, он не мог продолжать игру. Мальчик тихо опустил на землю ведерко, положил совок, еще раз оглянулся и, виновато счищая со своих ладошек песок, как-то бочком, растерянно и смущенно вышел из палисадника.
Я высунулся из окна, заглядывая через улицу, наискось, туда, куда только что смотрел малютка.
В раскрытом окне дома сидел большой вислоухий сеттер. Пес добродушно провожал глазами мальчика, вдруг прервавшего свою игру…
Боже мой! Так вот кто испугал его. Да, да, ему теперь было не до игры; еще раз оглянувшись, мальчик вдруг побежал, а пес ударил хвостом по подоконнику и, выше подняв голову, резво тявкнул – раз и другой…
Теперь судите: мог ли я завидовать еще неопытному воображению ребенка?
ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Конечно, не редкость дружба собаки с кошкой, хотя и тут есть над чем призадуматься. И дружба дворняжки Белки с рыжей безыменной кошкой из нашей квартиры ничем особенным не примечательна: подружились у общей кормушки.
Но вот интереснейший случай произошел на моих глазах.
Как всегда, чистенькая остроухая Белка увязалась за мною уже на пороге, и только мы вышли с лестницы во двор, одновременно два кота метнулись от Белки. Куда уж тут – Белка за ними! Настигает. Несутся. И в этот момент откуда-то из ниши подвального окна выскочила наша рыжая, и вот она уже на том же курсе, в одной компании с теми двумя, видно только, как взлетают на бегу три кошачьих зада.
Белка опешила.
Нет, нужно было видеть ее выражение!
Я не сказал бы даже, что Белка растерялась. С ней произошло что-то другое.
Мгновенно. Удивительно.
Кошки – разом все три – опять нырнули в какой-то вонючий подвал, но рыжая, несомненно, успела заметить, что Белка как ни в чем не бывало обнюхивает камень, брошенный на асфальте двора.
– Белка! – восхищенно воскликнул я.
Только косит глазом.
Очень симпатичная собачка.
СЛЕЗЫ МУЖЧИНЫ
Мой сосед Сережа был убежден, конечно, что плачут только девчонки. И в самом деле, он никогда не плакал. Велико было его удивление, когда однажды мать сказала при нем по какому-то поводу:
– Это слезы мужчины.
Что это – слезы мужчины? Какие же это особенные слезы?
Мать, однако, не умела объяснить Сереже, что это за слезы, а только улыбнулась.
– Придет время – сам поймешь.
А время, оказывается, уже стояло за дверью.
В тот же день Сережа принес из школы свою первую отметку, и это была тройка. Тройка по письму.
Сережа вошел потрясенный и тихий. Не щегольнул новеньким портфельчиком из желтой кожи, не постоял перед зеркалом в новенькой фуражке. И Алешка, старший его брат, ученик третьего класса, сразу все понял.
Когда Сережа потянулся к телефонной трубке, чтобы позвонить маме, – это он делал каждый день, – Алешка был уже тут как тут, с ликующим, ехидным выражением на лице.
Алешка не сводил глаз с Сережи, Сережа, сосредоточенно морща лоб, набирал номер. И вот Сережа заговорил:
– Позовите маму… Мою маму… Веру Васильевну позовите…
Приоткрылась дверь в коридор, из-за двери выглянула тетя Клара.
– Двойка, – сообщил ей Алешка, продолжая торжествовать.
– Мама, это я, – говорил в трубку Сережа. – У меня тройка.
– Тройка, – уточнил свой донос Алешка.
В тишине коридора звучала мембрана трубки у Сережиного уха, он слушал внимательно, а губы складывались для плача, на глазах появлялись слезы. Но это была только минутная слабость. Мальчик быстро овладел собой и, дослушав то, что говорила ему мать, ушел к себе.
Дверь за ним закрылась.
– Зачем же ты так! – укоризненно сказала Алешке тетя Клара. – Еще неизвестно, какую отметку принесешь ты.
Закрылась дверь и за тетей Кларой, и в коридоре снова стало очень тихо. И тогда из-за дверей Сережиной комнаты послышались безудержные приглушенные рыдания…
Все это вечером узнала Сережина мама, узнала во всех подробностях, и, довольная сыном, она опять улыбнулась и сказала:
– Ну вот, Сережа, теперь я могу объяснить, что такое слезы мужчины, теперь это знаешь и ты.
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
Сева встречал Новый год впервые, ему стукнуло тринадцать лет.
Я видел волнующие приготовления.
Самым интересным было меню: бутылку шампанского им купили папа с мамой, остальные деньги Сева выпросил на руки, уверяя, что только он сам сможет сделать все как надо.
– А как же надо? – спросила мама.
– Прежде всего надо, чтобы вы с папой поскорее ушли.
– Сева! Как тебе не стыдно! Интересно – Федя тоже так думает?
– Да, – отвечал Федя, приятель Севы, – если бы мы встречали Новый год у меня, у меня было бы без канители.
Мама ушла обиженная, но деньги на ужин все-таки оставила. Вот тут-то и наступило самое интересное. Купили еще бутылку портвейна, а все остальное ушло на закуску: триста граммов колбасы и четыре кило конфет. Пришли девочки. В комнате собралось ребят человек пятнадцать, но им не было тесно, хотя половину комнаты занимал огромный раздвинутый и оставшийся почти пустым стол.
На краю стола без отдыха работал патефон.
Сева в комнату никого из посторонних не впускал, за закрытой дверью веселье шло на полный ход. Но время от времени Сева прибегал ко мне и торопливо спрашивал:
– У меня уже блестят глаза?
– Нет, еще не блестят, – жестоко отвечал я.
– Еще не блестят… Ах, черт возьми! А уже выпили почти весь портвейн.
– А шампанское? – сочувственно спросил я.
– Ну что вы! – возмутился Сева. – Так скоро? Мы же будем пить до утра.
И в самом деле, за дверью Севы шум продолжался до первых трамваев. Уходя, его гости топтались в прихожей, усталые, но все такие же шумные, оживленные и, главное, гордые интересной встречей Нового года – без старших.
Ничего не поделаешь, глаза у них блестели.
УЛИЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Странный, необычайный звук поразил меня на шумном перекрестке.
Что-то мгновенно всколыхнулось в душе, заставило меня оглядеться.
Да, да! Это был звук лошадиных подков. Сочный лязг подков, смягченный асфальтом. Выезжала лошадь. Лошадь, впряженная в подводу, выходила из-за угла. Шел конь… И все остановилось.
Остановился поток автомобилей и троллейбусов, сверкали стекла, поблескивал лак. Машины, казалось, остановились сами по себе, понимая, что идти дальше в этот момент нельзя. И только подвода с человеком в фартуке шла за лошадью, и конь-першерон, большой, живой, мясистый, водил красноватым глазом и горделиво выгибал шею.
Мягкое лязганье копыт звучало по городу…
И вдруг опять, как только красный огонь светофора сменился, все зашумело, заревело, двинулось, ушло. И только еще покачивались ящики на подводе; над самым крупом коня, широким, как пустое седло, восседал человек в фартуке, и гордый конь, казалось, внушает своему вознице то же чувство достоинства и горделивости.
Конь прошел по площади, как волшебный Змей-Горыныч по театральной сцене в роскошной опере.
ВНЕСЛИ ЕЛКУ
В декабре были большие морозы. Таких морозов в Москве не помнят.
Мы купили елку. Деревце обледенело, холодно было трогать его.
В комнате деревце начало отогреваться и оттаивать.
Вдруг слышался легкий шум – расправлялась то одна, то другая ветка. Под елкой образовались лужицы. В комнате сильно запахло хвоей.
И когда наступили сумерки, показалось, что к убранству комнаты прибавилось что-то очень важное, что теперь в комнате должно стать лучше, чем было… Да и не только в комнате!
Люди задумались, притихли, за окном тихо садился густой пушистый снег.
Страшится человек уйти от природы. Спокойней ему и радостней, если хоть раз за зиму он побудет с зеленой веткой. Не язычество ли? Придумали – втаскивать в дом деревья!
Такие смешные и спокойные мысли приходили мне в голову.
Деревце, однако, было не без хитрецы. Елочка понемногу привыкала к дому, присматривалась и прислушивалась, и уже мне начало казаться, что елка ждет моего рассказа: «Ну, ну, рассказывай – как живешь?»
И, может быть, я уже был готов рассказать ей все…
«Как знать, – опять смешно думалось мне, – может, мы с ней из одного леса».
Уже я готов был начать рассказывать, а тут елочка согрелась, вполне расправилась, стали ее украшать золотым и серебряным, стала она волшебная и важная – вся в огнях, в блеске… Так я ничего и не рассказал ей.
И очень жаль: елочка стала богатой, а я победнел.
В ДЕВЯТНАДЦАТОМ ГОДУ
И двор и улица были холодными и безлюдными, когда ранним утром я вышел за ворота и тут чуть было не споткнулся о мертвое тело. Мертвый человек лежал у каменной круглой тумбочки, какими украшались одесские подворотни.
В тот год мертвое тело на улице не было редкостью, эта картина мало кого останавливала. Однако сейчас над телом человека, убитого, по-видимому, ночью, по одежде – рабочего, остановился какой-то прохожий, с виду тоже рабочий, и внимательно всматривался в мертвые глаза, в самые зрачки, закатившиеся под веки.
Что остановило прохожего? Может быть, убитый был его товарищем? Может быть, тоже подпольщик, как рисовалось мне в мальчишеском воображении.
Прохожий стоял долго, так долго, как будто не был в силах сойти с этого места. Он не слышал, как к нему подошли два офицера, – Одессу в это время занимали войска генерала Деникина, – оба подвыпившие, в расстегнутых шинелях: поручик и прапорщик в погонах, нарисованных анилиновым карандашом.
Рабочий все стоял над убитым, а эти двое в свою очередь начали всматриваться в прохожего, завороженного видом трупа.
– Интересуетесь? – обратился к нему поручик. – А мы вас-то и ищем, товарищ Усов. – И поручик сунул руку в карман. – Ведь это он, это же и есть тот самый товарищ Усов, – подчеркивая последние слова, как бы иронизируя, объяснял поручик прапорщику свое поведение.
– Да, верно! Это он. – Глядя исподлобья, хмельной прапорщик тоже опустил руку в карман шинели.
Прохожий очнулся, увидел офицеров.
– Ах, вот как! – промолвил он.
Теперь его взгляд был устремлен на глубокие карманы офицерских шинелей. Там что-то шевелилось. Глядя в эту точку, прохожий отступил назад – теперь он стоял спиной к мертвому телу – и при этом толкнул ногою голову убитого. Голова откинулась, как будто мертвый отвернулся.
– Нет, дальше не пойдете, – тонким голосом почти взвизгнул поручик.
И поручик и прапорщик уже вынимали что-то из своих карманов.
Да, было совершенно очевидно, что прохожему дальше не уйти. Это стало понятно даже мальчику, присутствия которого не постеснялись убийцы.
Зато юное сердце стало богаче знанием, ненавистью и любовью.
КРАСИКОВ
Хотя за Красиковым и не признавалось особых талантов, все же Красиков считался в редакции искусным репортером.
Тут его легкомысленность даже помогала делу. Резвость, непритязательность в сочетании с острым чутьем к запахам жизни служат иным журналистам, пожалуй, даже лучше, чем требовательный вкус или глубокомыслие.
Разобраться в интрижке, вникнуть в какое-нибудь «дело с душком» никто не мог лучше Красикова. Он сразу определял следствие и причины, видел, как он выражался, «схему происшествия», и ему оставалось только олицетворить порок и добродетель – это поставить направо, то налево. Лучше других он предвидел, какой материал назавтра приобретет актуальность, и никогда не зевал.
Однако, когда начались события на финляндской границе, не он, не Красиков, был направлен редакцией на фронт, и это, вероятно, по-своему обеспокоило Красикова. Случалось, он теперь отвечал невпопад, не всегда совпадали цвета его носков и галстуков, не всегда галстуки были вывязаны с прежним шиком.
Опасения Красикова оправдались: в один прекрасный день его вызвали в военкомат – и он был мобилизован на общих основаниях.
Его видели перед отъездом. Жалко было смотреть на его неестественную улыбку…
Через месяц пришло письмо с фронта, письмо от Красикова. Все бросились к этому письму, потому что многим еще меньше повезло, чем Красикову… А так хотелось в те дни быть на фронте!
Интерес к письму Красикова подогревался еще тем, что накануне буфетчица тетя Ксюша пролила слезу над письмом своего племянника, полученным оттуда же, с финляндской границы, из действующей армии.
Мы заставили тетю Ксюшу прочитать письмо от племянника. По словам Ксюши, это был славный, честный парень, «не способный отказаться от общественной нагрузки», стахановец и агитатор. Тем более странным и неожиданным показалось нам то, что племянник писал своей тетке:







