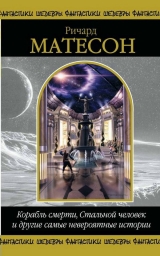
Текст книги "Корабль смерти, Стальной человек и другие самые невероятные истории (сборник)"
Автор книги: Ричард Мэтисон (Матесон)
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 70 страниц)
Когда день сер
© Перевод Е. Королевой
Скажи Земле последнее прости,
Ведь день уж сер, и достоянье человека
Низринуто в застенки времени,
В могильный саван запеленато навек.
Сними нагар с свечи стараний,
И пусть же с глаз твоих вдруг упадет
Та странная вуаль, что слита
С таинственною тьмой.
Он сидел на камне и писал этот текст на доске, используя в качестве пера чей-то измазанный в саже палец. Совершенно очевидно, размышлял он, что финальная тема должна быть записана этим отправляющимся в чистилище пальцем, этим жалким отростком, который некогда нахально тыкал в землю и небо – я твой хозяин, земля, я твой хозяин, небо! – и вот теперь валяется, закопченный и жалкий, среди обломков бытия.
«Я присутствую на поминках по Земле и не лью слез».
Он поднял полные скорби глаза, и застывший взгляд поплыл над равниной. Он перекатывал в пальцах свое необычное стило и с отвращением раздувал ноздри. «Вот он я, – угрюмо размышлял он, – сижу на горячем валуне и изучаю последствия той небольшой шутки, какую человек в итоге сыграл с самим собой».
Он ударил себя по лбу и выкрикнул: «Ах!» – его захлестнула волна чувств. Большая голова упала на грудь, и он прерывисто зарыдал. Право, данное с рождения, отнято, горевал он, золотой шанс упущен, человек отыскал свой путь – но путь к самоуничтожению.
Затем он с вызывающим видом распрямился, словно проглотил жердь. «Я не желаю быть тявкающей дворняжкой, – провозгласил он. – В сей погребальный час я не поддамся. Да, пусть смерть стоит надо мной и сует призрачные пальцы в мои язвы, я не стану молить о пощаде, не согнусь».
Лохмотья величественно развевались на плечах. Он склонился, чтобы записать дальше:
О, дайте насладиться смертью,
Пока Земля, приветствуя погибель,
Глядит глазами гаснущих костров.
Кончик отяжелевшего языка выдвинулся из-за баррикады рта. Стало жарко.
И птицы свищут отходную человеку
Испепеленному, который
Свой изжаренный скелет
Пожертвовал вдруг всем своим богам.
А птицы клювом долбят песню без затей
На ксилофоне преданных забвению костей.
– Отлично! Отлично! – закричал он, опуская босую ногу на покрытую пеплом землю. Взволнованный своей строфой, он уронил стило и встал, чтобы поднять. Ну вот, рассеян как никогда. Он поморщился при этой мысли, а потом снова принялся писать.
«До чего же удивительно, – продолжал он рассуждать, – что за всю свою больную историю человек так ни на миг и не оставил попыток уничтожить себя самого».
Рефрен:
Куда как странно —
Что два чужака
Жили вместе,
Не видя врага.
Он остановился. Как же продолжать, размышлял он, как продолжать, когда под всеми счетами человечества в бухгалтерской книге вечности подведена черта? Требуется истинное упорство, бойцовская хватка и в то же время обманчивое спокойствие морской пучины, когда над головой уже кричат падальщики. «Что тогда, что теперь, – думал он, – я вынужден прикладывать титанические усилия, чтобы породить гладкую и изящно срифмованную строфу». Например, такую:
Спрячь безразличие,
Скажи, в чем отличие:
Сгореть в кислоте
Иль сгореть в пустоте.
«Уменя нет ни публики, ни надежды на ее появление, однако же я продолжаю творить, потому что то, что должно быть сказано, должно быть сказано. А значит, идти вперед – мой единственный выбор».
Он в двадцать седьмой раз сунул руку в карман и достал пистолет, нервным пальцем провел по барабану. Там одна пуля, знал он, ключ к окончательному забвению. Он заглянул в черный глаз дула, не дрогнув. «Да, когда все кончится, когда я досмакую последние глотки темного вина безоговорочного крушения, я приставлю его ко лбу и пресеку навечно жалобные излияния людского рода».
«Ну а пока, – решил он, – надо возвращаться к работе. Я еще не покончил с человечеством. Осталось еще несколько фраз, несколько хлестких поэтических строк. Ведь не стоит же в спешке отказываться от того, чего людям всегда хотелось больше всего, – от последнего слова».
И, в книге человечества
Последним став псалмом,
Он саван шил из атомов,
Могилу рыл копром.
Нет. Нет, это не укладывалось в общий ритм. Он стер это. Дайте-ка подумать, он барабанил ногтем по гнилым зубам. Что можно еще сказать? А!
Прекрасней человека нет,
Мудрее человека нет,
Ведь в одиночку он
Спалил весь белый свет.
«И это только справедливо, – размышлял он, посмеиваясь, – что именно мне, единственному выжившему, предстоит пролить свет на столь невероятную трагедию, как смерть человечества». Так, может, надо исторгать бесконечные сожаления и пышные панегирики, способные смыть всю горечь одной большой очищающей волной? Или же нет?
«Человек, человек, – невесело думал он, – что же ты сделал со своим таким великолепным миром? Неужели он был настолько ничтожен, чтобы ты презирал его, настолько шаток, чтобы ты захотел спалить его дотла, настолько уродлив, чтобы тебе пришлось перекраивать его горы и моря?»
Он горестно заохал.
Руки обмякли. Слезинка, две слезинки покатились по бокам похожего на клюв носа, повисели на кончике, а потом упали на землю. И зашипели.
«Что за чудо, – мысленно стонал он, – что я стал последним представителем изничтоженного племени людей. Самым последним! Фантастика, какое в этом величие – быть одному во всем огромном мире!»
«Это даже слишком, – кричал он про себя. – Голова идет кругом от собственной значимости». Он взялся за пистолет. «Как же я смогу удержать на своих плечах столь сокрушительный груз? Найду ли подходящие слова, будут ли мои чувства отвечать грандиозности возложенной задачи?»
Он заморгал, опустил пистолет. Его возмутил подобный вопрос. «Как, чтобы я не справился, чтобы мои слова не подошли?» Он распрямился и сердито посмотрел на затянутое пеплом небо.
«В самый раз», – заявил он. Прекрасно, что весь последний обряд совершает лишь один человек. Разве было бы лучше, если бы ватага каменотесов суетилась вокруг надгробной плиты, натыкаясь на руки друг друга в неуклюжей попытке выбить на ней эпитафию человечеству? Или же шайка писак бесконечно спорила бы над некрологом Адамову роду, пихаясь и тычась во все стороны, словно футбольная команда без тренера?
Нет, так гораздо лучше – один человек, переживающий блистательную агонию, один голос, произносящий последнее слово, ставящий точки над «i», а затем прощание с господством человека, исполненное пусть и не в возрождающих к жизни, но искусных стихах.
«И этот человек я, я этот голос! Благословленные этой финальной возможностью, только одни мои слова, без миллиона других, сливающихся с ними, только мои строки звенят в вечности, и некому их прервать».
Он вздохнул и снова принялся писать.
И чтобы стать по-настоящему особым.
Уничтоженье всех других людей
По…
Он тревожно вскинул голову – с другой стороны захламленной долины донесся некий звук.
– А? – пробормотал он, – Что такое?
Он заморгал, всматриваясь покрасневшими глазами, наклонил голову набок, сощурился. А потом его нижняя челюсть начала опускаться все ниже и ниже, пока рот не превратился в жерло потухшего вулкана.
По долине ковылял человек и махал ему рукой. Он смотрел, как зола поднимается клубами вокруг хромающего человека, и его разум вдруг совершенно онемел.
Представитель его вида! Товарищ, еще один голос, который можно услышать, еще один…
Человек дохромал поближе.
– Друг! – выкрикнул незнакомец в изумлении.
И внезапно, когда он услышал, как этот голос вторгается в угрюмую тишину, в мозгу поэта что-то щелкнуло.
– Я не позволю себя ограбить! – закричал он. И выстрелил человеку точно между глаз. После чего отошел от обмякшего тела и прошагал про раскаленной земле к другому валуну.
Он сел, закатывая рукав. И перед тем как снова склониться над работой, он крутанул пальцами пустой барабан.
«Что ж, – вздохнул он, – пережить подобный момент одному, остаться с величественной, сияющей судьбой наедине – это того стоило».
«Сонет сожженной планете», – начал он…
Пляска мертвецов
© Перевод Н. Савиных
А я лечу вперед
С девчонкой Рота-Мотой!
Сам черт нас не возьмет
На скользких поворотах!
Куда бы нам забраться,
Залечь и потолкаться!
(По/толкать/ся – гл., жарг. —обозначает любую случайную половую связь, в данном значении стало употребляться во время III Мировой войны.)
Два пучка света, выпускаемые автомобильными фарами, быстро ложились на шоссе. Стедом за ними несся «ротор-моторс»-амфибия, модель «С», 1987 гола выпуска. Яркие желтые струи рвались вперед и стремились удрать от 12-цилиндрового тяжело дышащего преследователя. Застывшая кромешная темень с бешеной скоростью исчезала под колесами. Дорога мелькала все быстрей. «Сент-Луис, 10 км».
– А ты летишь со МНОЙ, – пели они, – мы Рота-Мота дети! С глазами за СПИНОЙ, – пение усиливалось, – и с мыслями в кювете!
Певцов было четверо:
Лен, 23 года,
Бад, 24 года,
Барбара, 20,
Пегги, 18.
Лен с Барбарой, Бад с Пегги.
Бад вел машину. Она с визгом вписывалась в крутые виражи, громко ревела на мрачных горных подъемах, как пуля проносилась по затихшим равнинам. Одна лишь Пегги пела не надрываясь, у остальных слова вылетали из готовых разорваться легких, смешиваясь и соревнуясь с ветром, бившим в их лица и хлеставшим по ним спутавшимися волосами:
К бесу тихие прогулки
При светящем месяце!
На стомильных скоростях
Мне про иное грезится!
Стрелка подрагивала на 130. Еще две пятимильные отметки, и конец шкалы. Внезапно автомобиль куда-то нырнул, Вся компания подскочила, и ночь тут же подхватила и унесла с собой дикий хохот трех молодых глоток. Еще вираж. Еще подъем, затем спуск. Молниеносный скачок через долину – корпус цвета полированного черного дерена едва касался земли.
Водно-роторно-моторный —
И удобный и просторный.
Хоть по суше, хоть по морю
Как ни в чем я рот-моторю!
Голос на заднем сиденье:
– Уколись, Барбарись!
– Спасибо, я уже. Сразу после ужина.
Иголка с приделанной к ней капельницей для глаз перешла обратно.
Голос на переднем сиденье:
– Уж не хочешь ли ты сказать, что это твой первый залет в Сент-Лу?
– Ну да, ведь в сентябре начались занятия.
– Брось об этом, ты же своя чувиха.
Заднее сиденье, обращаясь к переднему:
– Эй, чувиха, ты что, не хочешь вкусно взлететь?
Иголка перешла вперед, светло-янтарное содержимое капельницы заманчиво переливалось.
– Давай, будет здорово!
(Взлететь – гл., жарг. – обозначает переход в состояние эйфории, следующее за приемом наркотика. В данном значении стало употребляться во время III Мировой войны.)
Пегги попыталась улыбнуться, но губы не двигались. Пальцы чуть-чуть дрожали.
– Нет, спасибо, я не…
– Давай, не дрейфь. – Лен навалился на сиденье всем телом, светлые брови выделялись под растрепавшейся черной шевелюрой. Он держал иглу прямо перед лицом Пегги. – Будет здорово, вот увидишь. Взлетишь и все забудешь!
– И все-таки я бы не хотела, если, конечно, ты…
– Ну и девица попалась! – взорвался Лен и с силой прижался бедром к ждущему этого бедру Барбары.
Пегги тряхнула головой, и ее золотистые кудри упали на лицо, полностью скрыв глаза и щеки. Где-то там внутри, под желтой тканью платья, под белым нижним бельем, под молодой грудью тяжело стучало сердце. «Будь внимательна и осторожна, детка. Это все, чего мы просим. И помни, кроме тебя, у нас на этом свете никого нет». Слова матери звенели в ушах. Вид иглы заставил ее отпрянуть поглубже в кресло.
– Ну ты даешь, чувиха!
Машина застонала, входя в очередной поворот, и центробежная сила сдвинула Пегги прямо на худые колени Бада. Рука его моментально спустилась, и пальцы сдавили упругое тело, Под желтой тканью платья, под тонким чулком дрожь пробежала по коже. Губы снова не повиновались, вместо улыбки получилась жалкая гримаса.
– Я клянусь, это черт знает как здорово!
– Отстань, Лен. Если хочешь, коли своих подружек.
– Но должны мы научить ее поймать кайф.
– Лен, отвяжись, это моя девчонка!
Черный автомобиль, рыча, продолжал погоню за собственным светом. Пегги нашла и сжала в руке теплую ладонь. Ветер свистел над ними, запуская холодные пальцы в их волосы. Она бы и не хотела таких пожатий, но сейчас была просто благодарна Баду.
Пытаясь скрыть безотчетный испуг, Пегги молча следила, как асфальт исчезает под капотом. Сзади началась возня. Чувствовались объятия напряженных тел, слышно яростное слияние губ. Тем сладострастнее, чем больше миль на спидометре.
– С девчонкой Рота-Мотой! – страстно выдавил из себя Лен, оторвавшись, чтобы вздохнуть. Молодое девичье сердце на переднем сиденье падало и замирало. «Сент-Луис – 6 км».
– Ты не врешь, что никогда не была в Сент-Лу?
– Да нет же, я…
– И значит, ты никогда не видела пляску хмурых?
Огромный комок подступил к горлу.
– Нет. Я… А мы разве… мы для того туда едем?
– Ну и девица, никогда не видела танцы хмуриков! – отозвался сзади Лен.
Во рту у Пегги пересохло. Она аккуратно и демонстративно одернула юбку.
– Значит, не врешь. – Лен все больше воспалялся, – Тогда считай, что ты еще не жила.
– Она во что бы то ни стало должна увидеть это, —вторила Барбара, крутя пуговицу.
– Так в чем же дело, – не отставал Лен. – Да, чувиха, потешим мы тебя сегодня.
– Ничего, все в порядке, – сказал Бад и слегка сжал ее ногу. – Все о’кей, верно ведь, Пег?
Никто в темноте не видел, что Пегги содрогнулась. Ветер продолжал играть ее прядями. Она слышала об этом, даже читала, но ей и в голову не приходило, что можно и самой…
«И тщательно выбирай друзей, дочка. Не дай себя обмануть».
А что, если целых два месяца с тобой никто не разговаривал? Как хочется поболтать, посмеяться, побыть с приятелями. И что я могла ответить, когда на меня обратили внимание и пригласили на пикник?
– Давайте познакомимся, я – Поппи-морячок! – пропел Бад.
Сзади прозвучало кукареканье в знак высшего одобрения. Бад изучал довоенные комиксы и мультфильмы, и на этой неделе они проходили Поппи. Он буквально влюбился в одноглазого пирата и рассказывал о нем Лену и Барбаре, которые уже наизусть знали все его песенки и диалоги.
– Поплавать бы немножко с девчонкой-кривоножкой, я Поппи, Поппи, Поппи, я – Поппи-морячок.
Взрыв хохота. Пегги стало немного стыдно. Бад убрал руку у нее с ноги и ухватился за руль. Резкий наклон на следующем зигзаге дороги, и Пегги отбросило к дверце. От прохладного воздуха слезились глаза и ныло в затылке. 110-115-120 миль в час. «Будь очень осторожна, родная». «Сент-Луис – 3 км».
Поппи недвусмысленно подмигнул ей.
– О, Олив Ойл, милашка, тебя я обожаю.
Последовал толчок локтем в бок:
– Будешь моей Олив Ойл, ты?
Пегги нервно засмеялась:
– Только не я.
– Именно ты.
На заднем сиденье Уимпи набрал воздуху и продекламировал:
– Я во вторник заплачу, а пожрать сейчас хочу!
Пронзительное трио и робкий четвертый голос продолжали концерт под аккомпанемент воющего ветра:
– Когда полно шпионов, то лучше и не надо. Я – Поппи, Поппи, Поппи, я – Поппи-морячок. Трум! Бум!
– Я есть только то, что я есть, – помрачнел Поппи, и рука его потянулась к ногам Олив Ойл под желтой юбкой. Задний ряд квартета возобновил возню и замолк в жарких объятиях.
«Сент-Луис – 1 км». Рев мотора гулко отдавался в неосвещенных пригородах.
– А ну надеть! – протяжно скомандовал Бад.
Все быстро вытащили и прицепили пластиковые защитные лепестки, прикрывающие органы дыхания.
Нос и рот прикрой скорее,
Биопреп тебя хитрее.
(Биопреп – сущ., разг. —общее название биологических препаратов для уничтожения гражданского населения. Вошло в употребление во время III Мировой войны.)
– Тебе понравится танец хмурых! – донеслись сквозь дорожный свист слова Бада. – Это сногш…ш!
У Пегги было ощущение, что холод идет отовсюду, ночь и ветер здесь ни при чем. «Помни, милая, сейчас в мире происходят ужасные вещи. Держись в стороне от них».
– А не могли бы мы еще куда-нибудь съездить? – спросила Пегги и тотчас же поняла, что никто не слушает. Бад продолжал пение – «поплавать бы немножко с девчонкой-кривоножкой». Рука его снова оказалась на бедре соседки. А на заднем сиденье в это время поцелуи уступали место более интимным и откровенным действиям.
«Пляска мертвецов». Что-то леденящее душу почувствовалось Пегги в этих словах.
«Сент-Луис».
Черный автомобиль летел среди развалин.
Местечко, бывшее целью их путешествия, встретило дымом и вульгарными возгласами. Всеобщее шумное животное веселье подогревалось сумасшедшим диссонансом, исходящим из доброй дюжины медных инструментов – музыка стиля 1987 года. Пульсирующие, трущиеся друг о друга, танцующие тела заполняли все крохотные подковообразные пространства пола вокруг оркестра. В вырывающемся из дыма и духоты всеобщем подвывании, сопровождающем ритмичные движения этой массы людей, можно было разобрать слова:
Рви меня, кусай меня!
В кровь мою добавь огня!
Я – твоя, возьми меня!
Милый, милый, милый,
Ты – мой – дикий – зверь!
Что-то взрывоопасное, готовое вот-вот разлететься осколками, но пока еще единое целое, таилось в этой шевелящейся толпе. «Зверем, зверем, зверем, будь со мною ЗВЕРЕМ!»
– Ну и как тебе это, Олив Пегги Ойл. – Во взгляде Поппи появилась испытующая искорка. Они с трудом протискивались вслед за официантом. – В Сикесвилле ничего подобного не увидишь, не правда ли?
Пегги улыбнулась, сжатая Бадом ладонь онемела, но она покорно следовала за своим кавалером. В тот момент, когда они обходили едва освещенный столик, она вдруг почувствовала чье-то прикосновение. Пегги попыталась отстраниться от невидимых пальцев, но сразу наткнулась на острое, твердое колено. Приходилось изгибаться, лавировать, уворачиваться. Десятки жадных глаз раздевали ее и приглашали предаться похоти. Бад помогал распихивать окружающих. Губы непроизвольно дрожали.
– А вот здесь тебе нравится? – удовлетворенно воскликнул Бад, когда они уселись наконец у самой сцены.
Из сизых сигаретных клубов вынырнул официант. Казалось, он парит над полом с карандашом в руке.
– Что желаете? – удалось расслышать, несмотря на какофонию.
– Виски с содовой.
Бад и Лен сказали это одновременно. Потом обратились к спутницам.
– Что желаете? – повторили они вопрос официанта.
– Зеленое Болото, – выкрикнула Барбара.
– Ты понял, коктейль «Зеленое Болото»! – передал официанту Лен.
Джин, ром, «Кровавое Вторжение» 1987 года, лимонный сок, сахар, мятная добавка и несколько кусочков льда – этот напиток пользовался особой популярностью среди студенток колледжей.
– А что скажет вторая девчонка? – спросил Бад свою спутницу.
Пегги улыбнулась.
– Я буду лимонад. – Ее негромкий, неуверенный ответ потонул во всеобщем грохоте и дыме.
– Что-что? – переспросил Бад.
– Повторите, я не расслышал, – не уходил официант.
– Лимонад.
– Что?!
– Лимонад!
– ЛИМОНАД! – Это уже вопил Лен, но барабанщик, несмотря на весь шум окружающей его банды, расслышал. Тогда Лен рукой скомандовал ему: – Раз – два – три!
Хор:
Лимонад, когда мы были очень молоды,
Был для нас дороже и приятней золота.
И так продолжалось, пока…
– Давайте быстрее, – торопил официант, – а то я здорово занят.
– Два виски с содовой и два «Зеленых Болота»! – пропел Лен, и официант исчез в крутящемся тумане.
Юное сердце Пегги беспомощно трепетало. «Никогда не пей, если идешь на свидание. Обещай нам, детка. Ты должна нам это пообещать». Она попыталась оттолкнуть всплывающие в памяти советы матери.
– Как тебе здесь нравится, дорогая? Не так уж и хмуро,ты не находишь? – Вопрос исходил от Бада, раскрасневшегося, заметно повеселевшего Бада.
(Хмурый (хмурик) – сущ., жарг —получил широкое распространение в устной речи как заменитель аббревиатуры ХМ (УР) – Ходячие Мертвецы (Условная Реакция).)
Пегги из вежливости нервно улыбнулась. Она осматривалась. Лино наклонено вниз, глаза все время возвращались на сцену. Хмурые.Неприятно, как острие скальпеля. Хмурый, хмурик.
Сценой служило невысокое деревянное возвышение полукруглой формы радиусом около пяти ярдов. По периметру, на уровне пояса, шло легкое ограждение. На каждом его конце стояли бледно-красные прожекторы. Они пока не горели. Красное на белом – промелькнула мысль. «Послушай, дочка, а чем тебе не нравится бизнес-колледж в Сикесвилле?» – «Но я не хочу учиться бизнесу. Я хочу изучать искусство в университете».
Принесли заказ. Официант казался бестелесным. Она видела только руку, опустившую перед ней высокий зеленоватый стакан.
Рука исчезла. Пегги взглянула на мутную болотисто-зеленоватую жидкость, от льдинок бежали вверх пузырьки воздуха.
– Хочу тост! Возьми стакан, Пег, – Это снова Бад.
Бокалы встретились над столом и зазвенели.
– За изначальное желание! – произнес Бад.
– За неоскверненное ложе! – добавил Лен.
– За бесчувственное тело! – вставила следующее звено Барбара.
Взгляды троих сфокусировались на лице Пегги. Они ждали, Пегги не понимала.
– Последнюю строчку, – подсказал ей Бад, помогая преодолеть медлительность новичка.
– За… за нас. —Но получилось неестественно.
– О-ри-ги-нально, – хмыкнула Барбара.
Пегги почувствовала, что краснеет. Но этого никто не заметил, потому что Молодость Америки, Для Которой Время Остановилось, уже неистово поглощала содержимое своих бокалов. Пегги вертела стакан в руке, по-прежнему изо всех сил изображая улыбку.
– Пей, не бойся. – Слова Бада донеслись через стол как будто с другого конца света. – Чга-луга-лег!
– Будет здорово, вот увидишь. – Это Лен, думая о чем-то своем. Пальцы его снова искали мягкое податливое тело. Под столом они сразу успокоились.
Пегги не хотела пить, она боялась пить. Голос матери возвращался к ней. «Никогда, если идешь на свидание. Никогда, прошу тебя». Она приподняла стакан.
– Дядюшка Бадди поможет тебе.
И вот уже дядюшка Бадди прислоняется к ней, виски уже ударило ему в голову. Дядюшка Бадди берет холодный стакан и подносит его к трясущимся хорошеньким губам.
– Будь умницей, Олив Пегги Ойл. Раз, и…
Но девочка не слушалась. Она закашлялась, и несколько зеленых капель запачкали ей платьице на груди. А жгучая влага тем временем достигла желудка и огненными ручейками потекла по всем жилочкам.
Бэнгити бум, крэш смэш ПУМ!
Это барабанщик нанес завершающий смертельный удар по тому, что в давние времена называлось вальсом влюбленных. Свет погас. Пегги все кашляла и терла глаза. В дыму, в подвале, в другом измерении.
Она почувствовала, как невидимая рука Бада сильно сдавила плечо. И вот, в темноте, она потеряла равновесие, стала куда-то падать, и падение это остановил влажный горячий рот, властно прижавшийся к ее губам. Пегги инстинктивно отдернулась, и в этот момент вспыхнули пурпурно-красные огни. Пестрое цветное лицо Бада отодвинулось. Он выдохнул – лучше и не надо – и потянулся к выпивке.
– Посмотрите, хмур, вон туда смотрите, – мрачно воодушевляясь, закричал Лен. Он уже делал руками, что хотел.
Внутри у Пегги все перевернулось. Ей захотелось заорать, вскочить и, самое главное, бежать, бежать, куда угодно, лишь бы подальше от этой темноты и тошнотворного дыма. Но рука однокашника цепко удерживала ее на стуле, и Пегги подняла глаза. Прямо перед собой она увидела бледное, отвратительное лицо мертвого человека. Он стоял у микрофона на краю сцены, и микрофон завис над ним подобно железному пауку.
– Дамы и господа, минуточку внимания, – раздался невыразительный потусторонний голос. Взгляд его хаотично блуждал над головами зрителей, глаза зловеще мерцали. У Пегги остановилось дыхание. Тонкие щупальца болотисто-зеленой жидкости уже прошли сквозь стенки желудка, обожгли грудь. Веки отяжелели, глаза то смыкались, то открывались. Мамочка – возникло откуда-то из самых глубин ее мозга дорогое слово. Возникло и затрепетало, вырвавшись наконец на свободу. Мамочка, забери меня домой. – Мы должны предупредить вас. То, что вы сейчас увидите, предназначено только для закаленных сердец и крепких нервов, – Голос звучал приглушенно, словно из-под земли, – Если же вы в себе не уверены, вам лучше уйти отсюда прямо сейчас.Мы ничего не гарантируем и не несем никакой ответственности. И мы не можем позволить себе содержать в штате врача.
Но смеха в ответ не последовало. «Брось трепаться и катись ты…» – буркнул сам себе Лен. У Пегги ногти врезались в кожу.
– То, что вы сейчас увидите, – представление продолжалось, и голос стоящего на сцене постепенно приобретал уверенность и звучность, – это не дешевая сенсация, напротив – это честный научный опыт.
– Хмур для дур! – Реакция Бада и Лена была быстрой и непроизвольной, как слюноотделение у подопытной собаки.
В 1987 году присказка эта настолько вошла в обиход, что употреблялась уже как некая форма вежливости в ответ на любое упоминание «Ходячих Мертвецов» в вашем присутствии. В послевоенном законе существовала лазейка, разрешающая показы такого рода, но при одном условии – с предварительным устным научным разъяснением. Однако последовало столько злоупотреблений и вольных толкований этой оговорки, что всем в конце концов стало на это наплевать. А слабое правительство смотрело на подобные нарушения сквозь пальцы.
Когда свист и улюлюканье улеглись, выступающий продолжил.
Пегги не отрываясь следила за заученными движениями его губ. Сердце ее с трудом наполнялось кровью и медленно, судорожно сжималось. Ноги начали деревенеть. Но все отступало по мере того, как приятное жжение проникало в глубины ее тела, а пальцы все судорожнее сжимали запотевшее стекло. «Я хочу уйти. Пожалуйста, забери меня домой», – последним усилием воли обратилась она к матери.
– Итак, дамы и господа, – эта была последняя вступительная фраза, – возьмите себя и друг друга в руки.
Прозвучал гонг, заполнив пространство вибрирующим звуком, и вслед за гонгом хриплый человеческий голос медленно объявил:
– «Ходячие Мертвецы»!
Сейчас на сцене никого не было. Микрофон исчез куда-то вверх. Зазвучала музыка – приглушенная духовая мелодия. Джазовая интерпретация физически ощутимого мрака. В основе ее бьющийся, пульсирующий стук барабанов, на который нанизывались печаль саксофона, зловещий тромбон и блеяние трубы. Мелодия проникала в тебя независимо от твоей воли.
У Пегги холодок пробежал по спине, она резко опустила глаза и не мигая смотрела на мутную белизну поверхности стола. Вокруг только дым и темнота, духота и рвущая слух музыка.
Сама того не замечая, движимая импульсом нервного страха, Пегги отхлебнула из стакана. Ледяные капли смочили горло и пищевод, все ее тело снова содрогнулось. Но крепость напитка сразу же пустила горячие ростки в ее венах, ощущение немоты достигло висков. Губы разомкнулись, выпуская тяжелое дыхание.
Комната наполнилась перекатывающимся бормотанием, казалось, будто ветер играет с ивами у реки. Взгляд Пегги никак не поднимался на пурпурную тишину сцены, будучи прикованным к светящемуся колыханию в стакане. Мышечные волокна желудка туго натянулись, чутко прислушиваясь к биению сердца. Я бы хотела уйти. Пожалуйста, давайте уйдем отсюда.
Диссонанс достиг кульминации. Медные звуки отчаяния пытались сливаться воедино, но гармонии не получалось.
Кто-то ущипнул Пегги за ногу. Это оказалась рука Поппи. Морячок возбужденно шептал:
– О, Олив Ойл, побудь со мной.
Пегги почти ничего не чувствовала и не слышала. Рука автоматически взяла стакан, еще раз ощутив выступившие на его поверхности капли, и поднесла ко рту. Прохлада в горле моментально превратилась в обжигающую теплоту во всем теле.
ВОТ ОНО!
Занавес открылся так внезапно, что она выронила стакан. Он стукнулся о поверхность стола, и зеленые болотные фонтанчики выплеснулись наружу, дождем окропив ее руку. Музыкальная картечь невыносимо звонко ударила по перепонкам. Пегги слегка задрожала. Пальцы ее извивались и теребили салфетку, белые на белом. А тем временем неведомая, неуправляемая сила заставила ее поднять в ужасе раскрытые глаза.
Волна музыки схлынула, оставляя в бурлящем фарватере лопающиеся пузырьки барабанных переливов.
Ночной клуб превратился в безмолвный склеп. Не слышно стало даже дыхания.
Темно-красная дымовая паутина медленно проплыла на сцене.
Ни звука. Только глухое, ритмичное соло барабана.
Пегги окаменела. Она срослась со стулом, обратилась в кусок скалы с бешено колотящимся сердцем. Сквозь двигающуюся пелену дыма и алкогольное головокружение она начала с ужасом различать происходящее.
Существо это было женщиной.
Спутанные черные волосы обрамляли одутловатое лицо, напоминающее маску. Окаймленные тенью глаза были скрыты гладкими веками цвета слоновой кости. Рот, казалось, не имел губ. Он был похож на запекшуюся резаную рану, застывшую над подбородком. Белая шея, белые плечи, белые руки. По бокам зеленоватого прозрачного одеяния имелись рукава, из которых свешивались словно вылитые из гипса кисти.
Мраморное изваяние в красных отсветах прожекторов.
Все еще парализованная Пегги не отрываясь следила за застывшими очертаниями. Косточки накрепко переплетенных под столом пальцев побелели. Пульсирующее подрагивание воздуха проникало в самое нутро, ритм барабанных палочек управлял сокращениями сердца.
Из черной пустоты за спиной послышался шепот Лена:
– Я люблю мою жену, но этот труп…
Бад и Барбара не выдержали и сдержанно засмеялись. Пегги ощутила нарастающий могильный холод, прилив беспомощного отчаяния.
Где-то впотьмах, в глубине дымного тумана, один из зрителей кашлянул, пытаясь прочистить слипшееся горло. По залу разнесся одобрительный вздох понимания.
На возвышении по-прежнему не было никакого движения. Оттуда не исходило ни звука. Только тягучие барабанные переходы метались по затихшему помещению, как будто невидимый музыкант искал и не находил какую-то потайную дверь. Обезличенная безымянная жертва недавней чумы застыла бледной статуей, и видно было, как дистилляционный раствор струится по ее сосудам, преодолевая кровяные сгустки.
И вдруг барабан захлебнулся, словно не выдержал нарастающей паники. Пегги показалось, что кто-то невидимый и холодный начал ее заглатывать. Шейные мышцы напряглись до предела, раскрытый рот прерывисто глотал воздух.
Веки стоящего перед ними мертвеца дрогнули.
В зале воцарилась мрачная напряженная тишина. Остатки воздуха застряли у Пегги в гортани, когда она увидела, как открылись, подрагивая, выцветшие глаза. Что-то скрипнуло. Это тело ее бессознательно откинулось на спинку стула. Пегги не мигала. Сквозь расширившиеся зрачки в мозгу отпечатывалось изображение мерзкой твари, бывшей когда-то особью женского пола.
Снова заиграла музыка. Снова застонали в темноте медные голоса, словно какое-то животное с клаксонами вместо рта жалобно ныло в полуночной аллее.
Внезапно бессильно висящая сбоку правая рука «ходячего мертвеца» дернулась. Сухожилия стали сокращаться. Левая рука изогнулась, вытянулась вперед и упала обратно, шлепнув по вялой бледно-красной ляжке. Правая вперед, левая вперед. Правая-левая-правая-левая. Так двигаются марионетки в любительском театре.
Музыка соответственно изменилась. Барабанные щетки задавали ритм мышечной конвульсии. Пегги откинулась еще дальше. Тело стало совершенно бесчувственным и холодным. Лицо – застывший синевато-багровый слепок.








