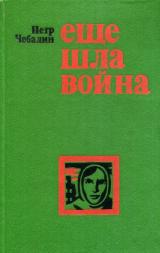
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
I
Кабинет был похож на жилую комнату: белые подсиненные стены, занавески на окнах, плита в углу, подведенная внизу красной глиной, кухонный стол, покрытый чистой скатеркой. Стол Королеву понравился. В нем можно было хранить газеты и разные бумаги. Запирался он на маленький висячий замок с плоским ключиком.
В соседней комнате разместился шахтный комитет.
Как-то Горбатюк сказал с усмешкой:
– Ну вот, парторг, теперь мы с тобой вроде бы приобрели территориальную независимость.
Королев давно заметил, что председатель шахткома и начальник шахты живут не в ладах. Со стороны посмотришь, все вроде бы нормально: встречаются по нескольку раз на день, здороваются, разговаривают и вдруг – вспышка. Даже он, Королев, хорошо, как он считал, знавший этих людей, не мог предугадать, когда произойдет между ними ссора. А иной раз страсти до того распалялись, что доходило до личных оскорблений. Однажды Шугай вернулся из треста хмурый, чем-то недовольный. Горбатюк пошутил, что, мол, Архипыч в баньке побывал. Шугай не то не понял шутки, не то не до шуток было ему, с яростью накинулся на председателя шахткома: ты, дескать, разговорами, убеждениями занимаешься, а я один отвечай за добычу, за все…
– Не ты один отвечаешь, – спокойно возразил ему Горбатюк.
– А кто же еще, ты, что ли? – неприязненно усмехнулся Шугай. – Тоже мне ответчик сыскался. Вот сниму рабочих с твоих стройобъектов: со школы, больницы – и всех в шахту. Посмотрю тогда, как ты заговоришь.
– Попробуй только снять.
– И сниму! – все больше распалялся Шугай. – Фронт требует угля. Спрашивают с меня, а не с тебя, вот я и буду хозяйничать, как нахожу нужным. Обстроимся, когда война закончится.
– Уездный князь свет Архипыч, – рассмеялся Горбатюк.
Шугай, видимо, не понял, какое обидное слово сказал о нем предшахткома, или решил, что просто сморозил, поэтому промолчал.
Но с той поры слово «князек» постепенно прижилось на шахте. Королев понимал положение начальника шахты. Трест каждый день, каждый час требовал от него уголь. Особенно допекал управляющий трестом Чернобай. Он умел выжать из своих подчиненных сверхплановую добычу, как говорится, если не мытьем, так катаньем. Такую жесткую, не терпящую возражений и оговорок требовательность управляющего многие оправдывали обстановкой военного времени, другие считали ее просто нервотрепкой, но предпочитали молчать. Молчал и Шугай, но с каждым днем сам становился все требовательнее, жестче к людям. Откровенный, прямой человек, Горбатюк не раз одергивал его. Возможно, за это Шугай недолюбливал председателя шахткома.
II
На днях к Шугаю зашел Лукьян Грыза. На нем были резиновые сапоги и до белизны выстиранная брезентовая куртка, в руке – обушок с отшлифованной до глянца дубовой рукояткой и даже фибровый шлем на голове – ни дать ни взять заправский шахтер. Все это Грыза сохранил как бесценную память о своей долголетней работе в шахте. Так поступал каждый горняк, уходя на пенсию.
Во время оккупации Николай Архипович старался как можно реже попадаться на глаза Грызе и всем своим людям настрого приказал подальше держаться святоши. И вот этот человек стоял перед ним, просился, даже настаивал, чтобы его послали работать в забой. Что заставило старика решиться на такой шаг? Нужда? А может быть, бывший пресвитер хочет искупить свою вину перед посельчанами? Ни в то, ни в другое Шугай не верил. Знал, без хитринки этот человек жить не мог. У Лукьяна определенно какой-то заранее обдуманный расчет.
– Не в моих силах, Архипыч, в такой тяжкий час отсиживаться сложа руки, – говорил он своим густым, с хрипотцой, голосом, по-медвежьи переступая с ноги на ногу.
Шугай покосился на него с насмешливой улыбкой.
– А при немцах, выходит, было под силу, Лукьян Агафонович?
– При немцах – другой вопрос, – значительно шевельнул тот бровями. Подумал и вдруг, посуровев, сказал с яростью: – Чтоб добывать герману уголек? Да нехай мои руки отпадут!
– А у меня, как видишь, не отпали, целы остались, – и Шугай как бы для убедительности показал свои огрубевшие руки, повернув их вверх ладонями.
– Твои не работали на германа.
– Как это не работали? – удивился Шугай. – А кто шахтой руководил?
Грыза огладил бороду.
– Руководить-то ты руководил, Архипыч, не спорю, только вместо уголька твоего герман шиш получал.
Шугай так и впился в него глазами: откуда знает?
– Как, то есть, шиш? А кто вагонами уголь отправлял? А кто…
– Опять же, не спорю, ты отправлял, – спокойно остановил его Грыза. – Только по твоему велению тот уголек в пути-дороге на воздух взлетал.
– Да ты в самом деле знал или понаслышке? – уже требовательно спросил у него Шугай.
– Воистину знал, – клятвенно приложил руку к груди Грыза.
– Почему в таком случае в комендатуру не донес?
Грыза долго молчал, понурившись.
– Ну, так как же по части забоя, пущаешь или не пущаешь? – не расправляя нахмуренных бровей, спросил он.
Шугай смягчился.
– Ты не серчай, Лукьян Агафонович. Про меня тоже черт знает что балакали. Небось и ты косяком смотрел.
– Может, и косился, да только за предателя тебя никогда не считал, вот как ты меня.
– Я не сказал, что ты предатель, чего изобретаешь! – Шугаю уже стало казаться, что, возможно, Грыза и в самом деле только для видимости пристроился в молитвенном доме пресвитером, в действительности сочувствовал подпольщикам, а может, узнал обо всем после ухода немцев и теперь подлаживается. Все это постепенно прояснится.
И он разрешил Грызе работать в бригаде Богини.
– Только смотри, в бороде не запутайся, укоротил бы, – добродушно пошутил на прощанье. В ответ тот отозвался также шуткой:
– Я ее за воротник упрячу.
Бригада Ивана Богини очищала лаву от обрушений, надежно закрепляла, чтобы можно было приступить к добыче угля.
Грызе было тесно в забое. Выработки плохо проветривались, не хватало воздуха, и Лукьян Агафонович часто прерывал работу. Забойщики советовали:
– Ты, батя, в штрек бы спустился, свежаком подышал.
– Ничего, выдержу, – отвечал Грыза, – задышка у меня от без привычки. Сколько уже годов за обушок не брался… – И опять принимался долбить породу.
Бригадир Богиня, сурового вида лет шестидесяти человек, говорил забойщикам так, чтоб слышал и Грыза.
– Чего беспокоитесь за святошу, на дурик жиру наел, пускай сбавляет.
Лукьян Агафонович помалкивал и еще с большим усердием налегал на обушок.
Когда подоспело время кончать работу, Грыза сказал бригадиру:
– Вы идите с богом, а я свой пай должен дорубать. Иначе не могу, совестно.
– Как же ты один останешься? – удивился Богиня.
– Мне не привыкать к своей шахте, Иван. Закрывши глаза, каждый ходок и закуток отыщу, – успокоил его Грыза. В бледном дрожащем свете шахтерок мокрое от пота лицо его лоснилось и, казалось, переливалось, но в темных блестящих глазах бригадир не увидел жалобы на усталость. Смотрели они с откровенной настойчивой просьбой.
– Ну, дьявол с тобой, оставайся, – махнул на него рукой бригадир, – только учти, случится что, я за тебя не ответчик. Все свидетели.
Лукьян Агафонович добрых десять минут долбил породу без передыха, а когда почувствовал, что силы покидают его, отложил в сторону обушок, улегся на спину, прислушался. Глубокая звенящая тишина царила вокруг. Лишь где-то внизу, в откаточном штреке, неумолчно бормотал ручеек. Немного передохнув, Грыза пополз к штреку. Он знал, где искать сына, – в левом крыле горизонта, за конюшней.
Вот уже скоро месяц, как Лукьян Агафонович не видел Ерофея. А бывало, нет-нет да и заглянет в землянку. Приходил он по обыкновению в полночь. Чаще же встречались в заранее условленном месте, в железнодорожной посадке. Там старый Грыза передавал сыну припасенные продукты, и Ерошка отправлялся обратно к степному шурфу.
В последнее время Лукьян Агафонович несколько раз приходил в посадку, но так ни разу и не повидался с сыном. Возвращаясь домой, терзался догадками: то ему чудилось, что Ерошку привалило породой или залило внезапно хлынувшим потоком подземной воды, – в шахте такое случается, – то видел задыхающимся от гремучего газа… Всякое брело в голову. И когда уже иссякло терпение, решился на последнее: проситься у Шугая на работу. Он знал, что у него, у Грызы, не было сил рубать обушком, пошаливало сердце, и поотвык. Но ему обязательно надо было знать, что с сыном.
Лукьян Агафонович поспешно шагал по слякотному, наполненному дурманящим тленом штреку. У поворота, где узкоколейка сворачивала к западной лаве, встретил крепильщиков. Они подлаживали бревенчатую раму под кровлю, начавшую прогибаться. С кровли тонкими струйками просачивалась вода.
– Зря стараетесь, – безнадежно сказал он.
– Почему так думаете, Лукьян Агафонович? – узнал его один из крепильщиков.
– Сам должен соображать, – уже начальственным тоном заговорил Грыза, – рама без затяжек не удержит. Видишь, как вода напирает.
– И то правда: нудота, а не работа.
– Промокли до нитки.
– Значит, жди, вот-вот порода рухнет, – мрачно пообещал Лукьян Агафонович.
– А где возьмешь затяжек, десятник? На всей шахте поганенького обапола не отыщешь, – жаловался другой крепильщик.
Грызе льстило, что его назвали десятником. Так его величали многие годы, и чтоб не поколебать веры в свое начальническое звание, наставительно строго сказал:
– Умеючи и ведьму бьют. Пошарили бы в старых выработках – небось нашли. – И нетерпеливо, так, словно его ждало неотложное дело, зашагал своей дорогой. Когда отошел несколько шагов, услышал у себя за спиной:
– Выходит, Грыза опять выбился в десятники. А при немцах баптистами заправлял.
– Ловок мужичишка. Но шалишь! Поплела петли лисичка да нарвалась-таки, – сказал другой голос.
Лукьян Агафонович пошел еще быстрее, но через каждую минуту невольно останавливался, гасил свет, чутко прислушиваясь. Ему казалось, что крепильщики следят за ним. И когда убедился, что его опасения напрасны, немного успокоился. По мере того как он удалялся от рудничного двора, все затхлее становился воздух. Подопревшие стояки и дощатые перекрытия сплошь обросли белоснежной пушистой плесенью. У подножия покосившихся крепежных столбов целыми семьями росли на длинных ниточках-стеблях грибы-поганки. Лукьян Агафонович с трудом узнавал эти, прежде не раз исхоженные им, горные выработки. Прошел еще с десяток шагов, и вдруг лучик лампы уперся в обрушившуюся стену породы. Бесформенные ребристые глыбы преградили дорогу. Дальше идти было некуда. Постоял с минуту, по-звериному чутко прислушался. На какое-то мгновенье ему почудилось, будто все вокруг жило своей жизнью, только притаилось, поджидает роковой минуты, чтобы внезапно обрушиться. Припав спиной к холодной стене, он принялся истово вслух молиться. И ему как будто стало легче и не так боязно. Грыза собирался уже идти в обратный путь, как вдруг кто-то сзади коснулся его плеча. Он окаменел от ужаса. Но все же нашел в себе силы, обернулся. Рядом с ним стоял человек, похожий на страшный призрак – в ватнике, с обросшим лицом, с косматой нечесаной головой, с темными провалами глазниц. Видение это показалось Грызе сродни мрачному подземному миру: от него так же, как и от каменных стен, веяло плесенью и тленом.
– Ерошка!.. – с превеликим трудом узнал Лукьян Агафонович сына. Они обнялись и долго стояли онемевшие, тяжело, прерывисто дыша.
Когда разняли руки, Ерошка первым заговорил:
– Вначале я думал, кто-то чужой идет. А потом чую, вроде бы твой кашель…
Грыза всматривался в полупрозрачный лик сына и не видел в нем ни радости, ни уныния. Оно как будто застыло. Лихорадочно блестели, жили одни большие и какие-то загадочные глаза.
– Почему не приходил? – спросил Грыза-старший.
Ерофей опустил глаза, помолчал.
– Страшно, батя…
В его голосе Лукьян Агафонович уловил странную незнакомую нотку, словно в нем вдруг оборвалась какая-то струна. Вспомнил, как вскоре после возвращения Ерофея из плена скрытно спустился с ним в шахту, показал забытый всеми выход к степному шурфу. Сын был с виду спокоен. Наверное, тогда он, как и сам Лукьян Агафонович, верил, что это ненадолго: уйдут немцы, и Ерошка снова появится на свет божий. Но получилось не так, как было задумано. Когда пришли наши, Лукьян Агафонович уже готов был объявить всему поселку, что сын жив и что могилка, которую он выкопал в балочке, его хитрая уловка. Кое-кто догадывался, что Ерофей скрывается в землянке, могли выдать. Как-то надо же было спасать его. Лукьян Агафонович немедля сообщил Ерофею о приходе наших. Думал, обрадуется, но сын только тяжело нахмурился и не сказал ни слова. Лукьян Агафонович вначале удивился, но потом вспомнил о слухах, какие ходили в поселке, будто бывших военнопленных сурово наказывают, посылают их в штрафные роты, откуда почти никто не возвращается живым. Подумав хорошенько, Грыза решил: закончится война, а конец ее, судя по всему, близок, и Ерошка, ничего не страшась, выйдет из своего заточения. Но время шло, война не кончалась, а сын буквально таял у него на глазах. Знал: что-то надо предпринять. А что? Совета ни у кого не спросишь…
Лукьян Агафонович тяжело перевел дух и долго молчал. И сын не говорил ни слова. Но Грыза слышал, как он шептал когда-то заученные на память молитвы.
– Где же твое жилье? – наконец спросил Лукьян Агафонович.
– Пойдем, покажу, батя, – с готовностью сказал Ерошка и поспешно зашагал по отсыревшим скользким шпалам узкоколейки. Лукьян Агафонович только сейчас заметил, что он бос. «Как же ходит здесь, в кромешной тьме, без обувки?» – с щемящей болью в сердце думал, едва поспевая за сыном. Но вот Ерофей свернул в сторону и исчез. Грыза ускорил шаг. Осветил углубление в стене, но Ерошку там не увидел. Некоторое время стоял в недоумении: где же он? И вдруг откуда-то из глубины донесся глухой неузнаваемый голос:
– Проходи сюда, батя.
Лукьян Агафонович с трудом продвинулся в узкую нишу и дальше уже ползком добрался к сыну. Он сидел, скрестив ноги, на испревшем сене и проницательно глубоким, вдумчивым взглядом смотрел на отца. Каменное логово было не более двух квадратных метров. Угрюмый, низко нависший свод и стены – влажны, острые выступы на них блестели, как отполированные.
– И денно и нощно здесь? – спросил Лукьян Агафонович.
– Твоя правда, батя, – денно и нощно, – подтвердил Ерофей, продирая ногтями густые волосы.
Грыза не стерпел, сказал:
– Скоро шахту пустят, сынок, надо думать, и до тебя доберутся, куда денешься?
Темные глаза Ерошки загорелись:
– Я, батя, буду денно и нощно молиться всевышнему, и он скроет от чужих мою обитель.
«Денно и нощно, – с горечью подумал Лукьян Агафонович, – а знаешь ли ты, когда кончается ночь и начинается день?..»
– Нет, сынку, надо что-то придумать… – задумчиво сказал он.
– Что, батя, что собираешься придумать? – испугался Ерошка, – Выходить на люди?!
– Да нет же, – поспешил успокоить его отец, – я про то, что надо бы место тебе понадежней отыскать.
Ерофей потупился в тяжелом молчании. Затем глухо и словно самому себе сказал:
– Не надо, не делай этого…
Молодой Грыза не мог далее родному отцу сказать, почему не надо. Это было и должно оставаться его и только одного его тайной. Отцу известна лишь ничтожная доля правды последних двух лет его, Ерошкиной, жизни, которые провел он в стороне от родительского дома. То были страшные годы…
Ерофей, бывший сапер, обезвредил мины не ради спасения шахты, а думал этим поступком заслужить себе прощение, спасти свою жизнь. И этого не знал отец…
Он вдруг обхватил голову руками, упал лицом на подобранные колени, и весь затрясся:
– Не надо, батя, – сквозь рыдание бормотал он. – Мне не простят они…
Грыза испугался: еще кто-нибудь услышит. Обнял сына, прижал лицом к своей груди.
Только теперь он понял, какими живучими оказались семена, которые заронил в душу сына с юных лет. Грыза вспомнил, как принуждал его молиться, не разрешал ничего другого читать, кроме Библии. И когда замечал, что Ерошка нет-нет да и прикоснется украдкой к запретному чтению, свирепо наказывал его.
Немного успокоившись, Ерофей оторвал лицо от отцовской груди и, не вытирая слез, пристально посмотрел на него.
– Как там моя могилка, батя? – спросил тихо.
– Могилку я оберегаю. Все верят, что ты помер.
В ответ Ерофей сказал задумчиво:
– Пусть остается… Еще пригодится…
Лукьян Агафонович сознавал, что заживо похоронил свое единственное чадо, и, потрясенный, даже не придал значения загадочным его словам.
С того дня он не упускал случая навестить сына. Приносил что-нибудь из съестных припасов, рассказывал о земной жизни…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯКоролев давно отправил письмо Никите Пушкареву на фронт, но ответ до сих пор не получил. Возможно, Никита написал Аграфене? И Королев решил пойти к ней.
Встретила она его как незнакомого, чужого человека. На него смотрели тревожно строгие карие глаза. Из-под платка выглядывали белые пряди. Вначале Королев подумал, что белы они от строительной пыли, но, приглядевшись, убедился – совсем седые. Лишь высокие, круто изогнутые брови – черные, точно нарисованные углем.
Королев знал Аграфену Пушкареву до войны. Работала она телефонисткой, и все называли ее просто Агата. Перед войной у нее родилась двойня. Вначале никому не было известно, кто их отец. А когда Агата и врубмашинист Никита Пушкарев – с виду ничем не приметный парень – в один из воскресных дней появились в ЗАГСе, все в поселке ахнули от неожиданности и удивления: ну и пара! Самый лучший жених был бы под стать Аграфене. А тут на тебе – Никита. Но позже завидовали молодоженам. Жили они на редкость дружно.
Пушкарев ушел на фронт в первые дни войны. Аграфена, как и многие другие, не смогла эвакуироваться. С большим трудом ей удалось сохранить детей. Она знала, в какой день и час пригоняли к госпиталю на убой корову или овец. Подстерегала, когда выбрасывали внутренности в помойку, несла домой, мыла в горячей воде, скоблила ножом и тем кормила детей. Ходила Аграфена в тряпье, неумытая, волосы неприбраны. Ни дать ни взять – побирушка. На такую никто не взглянет, никто не польстится. А когда пришли наши, Пушкарева встретила их в новом платье, в неизношенных туфлях, аккуратно причесанная. Прозрачное от худобы лицо ее светилось радостью. С первых же дней она с головой окунулась в работу. И все начинали угадывать в ней прежнюю Агату – подвижную, жизнерадостную. Но, бывало, вдруг становилась задумчивой и молчаливой. Многие уже давно получили весточки, кто от мужа, кто от сына, а ей все не было писем. Она каждый день выглядывала почтальона, но он всегда проходил мимо ее землянки. Наконец пришло письмо и ей. Только бы лучше его совсем не было.
После того как Аграфену сняли с петли, женщины зорко оберегали ее. Под предлогом того, что девушке – беженке Анастасии Волк негде приютиться, ее поселили в землянку Аграфены. Анастасия неусыпно стерегла каждый ее шаг.
В землянке было чисто прибрано, крохотная беленькая шторка над вмазанным в стенку стеклом, вместо кроватей – нары, застланные простынкой с кружевным подзором. Пол подмазан глиной и посыпан душистым чабрецом, как в троицын день. На глухой стене в деревянной рамке – портрет Никиты, с вихрастым чубом, счастливо улыбающегося.
– Это все Стаська лоск наводит, – сказала хозяйка, не то осуждая, не то одобряя свою жиличку, а скорее всего желая отвлечь внимание гостя от фотографии.
– А где же дети, Агата? – поинтересовался Королев, пропуская ее замечание о Стаське.
– Бегают, где же им еще быть, – все так же спокойно ответила она, – при немцах больше под замком держала, а теперь пришло время и порезвиться.
Королев успел уловить на ее лице нежную материнскую улыбку, которую она сейчас же сгладила.
– Работа твоя нравится тебе? – спросил он.
– А я, право, и не знаю – нравится или нет, – вздернула она плечами. – Работаю, надо же восстанавливать…
– Скоро привезут телефонную аппаратуру, пойдешь на свое место, – пообещал Королев.
Она заметно смутилась, опустила глаза.
– Теперь я, наверно, не сумею работать телефонисткой, всех абонентов перепутаю. – Подошла к столу, провела по чистой суровой скатерке ладонью, словно сметала с нее что-то невидимое. – Раз ты, Сергей Платонович, пожаловал в гости, – сказала она, опасливо взглянув на дверь, – то и угостить я тебя обязана.
И куда-то вышла, но вскоре вернулась с глиняным полумиском, наполненным малосольными огурцами и помидорами. Нарезала хлеба. И задумалась: чем же еще приукрасить стол? Что-то вспомнила, пошарила рукой под кроватью, опустившись на корточки, достала бутылку, до половины наполненную мутноватой жидкостью.
– Прости, Сережа, что неполная, – виновато взглянула она на него, – знать, что такой дорогой гость явится, с утра бы не прикладывалась.
Королев с ужасом подумал: неужели пьет? Но промолчал и даже не подал виду, что смущен и удивлен… Аграфена разлила в граненые стаканы самогон, примериваясь глазами, чтобы было поровну, и присела на скамью, уложив на коленях руки.
– Ну, рассказывай, что пишет тебе Никита? – неожиданно спросила она. Лицо ее было спокойное, будто спрашивала о самом обыкновенном.
Королев замялся.
– Я сам хотел спросить у тебя об этом, Агата.
– Меня чего спрашивать, мне писать он не станет, – убежденно сказала она. – А я ему свое написала. Раз он не поверил моему слову, то его письма мне теперь ни к чему. Вот как. – Что-то мстительно-жесткое появилось в ее остановившихся на одной точке глазах.
– Это ты зря, Агата, – осторожно возразил ей Королев. – Никите просто наклеветали на тебя. Только бы узнать, кто…
– А зачем тебе знать? – скосила она на него сощуренные глаза.
– Как это зачем? Ведь эта гадина способна облить грязью и других.
– К здоровому грязь не пристанет, а с хилого ее и мылом не смоешь, – безнадежно сказала она.
– Но ведь Никита хороший, честный парень, любил тебя…
– Выходит, не любил, раз поверил грязной ябеде. – И уже другим тоном добавила: – Ну, поднимем, Сергей Платонович, – и взяла свой стакан.
– За что выпьем, Агата? – медлил Королев. Ему не хотелось пить, тем более что он не успел еще ни о чем серьезном поговорить с ней, ничего толком не узнал.
– За что выпьем? – задумчиво переспросила Агата. – Чтоб наш «Коммунар» снова стал, каким был раньше, и еще краше, – в ее карих глазах на мгновенье вспыхнули и погасли живые искорки.
– Что ж, тост хороший. Выпьем.
Аграфена медленно цедила самогон и все время следила поверх стакана за гостем. Королев поставил свой опорожненный и, морщась, стал торопливо заедать огурцом. А женщина все еще тянула мутную жижу, словно желая продлить удовольствие. Лицо ее было спокойно, ни одна морщинка не дрогнула на нем. Выпив, округлила рот, раз-другой шумно втянула в себя и тут же выдохнула воздух, взяла огурец и принялась медленно, с хрустом жевать.
После выпитого с минуту молчали. Пока Аграфена не охмелела, Королев решил до конца выяснить, кого она подозревает в тайной переписке с Никитой.
– Догадываюсь, но не скажу. Не пойман – не вор, – упрямо ответила она. – Да и зачем он тебе, этот ябедник, Сережа? Придет время, сам себя выдаст. Ты лучше вот на что мне ответь: моих мальчиков в детдом примут?
– Что за вопрос, конечно примут.
– А говорят, что только совсем безродных будут зачислять.
– В первую очередь круглых сирот, это ясно.
Агата задумалась. Странный лихорадочный блеск вдруг вспыхнул в ее глазах.
– Зря они меня отходили, – в отчаянии выговорила она. – А во всем виновата эта Стаська. Говорит, что случайно увидела, как я вешалась. Брешет, отрава! Не иначе, как выследила. И зачем только приставили ее в квартирантки. Места, видишь ли, другого для нее не нашлось. Брехня! – И уже почти шепотом: – Чтоб ты знал, Сережа, эта Стаська настоящий шпион, глаз с меня не спускает. Пойду, извини, в бурьяны по нужде – и она за мной.
А то еще такую моду взяла: приметила, что я самогоном пробавляюсь, и как что – дыхни, говорит, Агата. Дыхну, а она и прицепится: у кого да за какие деньги покупаю. Марфу Кутейникову, ту, у которой я самогон брала, выдала, отрава. Женщина, считай, ни за что пострадала. – Она смачно пососала огурец и уже с хитроватым прищуром глаз убежденно добавила: – Но эту, другую, у которой я беру, ей ни за что не разоблачить.
И вдруг спросила:
– Еще выпьем, Сережа?
– Ну что ты, достаточно, – даже испугался Королев.
– А то я могу сбегать, тут недалеко.
– Не надо, Агата. Да и тебе хватит.
– Ну, как знаешь, – недовольным голосом сказала и поднялась. Сняла со стены фотографию, стерла с нее пыль ладонью и долго смотрела на улыбчивого вихрастого парня.
– Дурень ты, дурень, Никита, – промолвила, задумавшись, и слезы сами собой полились из ее глаз. Словно испугавшись их, она быстро вытерла пальцами глаза, повернулась спиной к Королеву и долго пристраивала фотокарточку на стене. А когда обернулась, лицо ее было по-прежнему замкнуто-спокойным, только глаза блестели. Села на свое место, сказала:
– Деток моих, Сережа, пристрой, не забудь. А то я могу надолго уехать.
– Куда тебе ехать? – удивился Королев.
Она помолчала, как будто не знала, что ответить.
– На фронт поеду, – нашлась вдруг. – Женщины на войне тоже нужны. Зенитчицей выучусь или снайпером…
С улицы донеслись детские голоса. Аграфена проворно упрятала под кровать бутылку, отодвинула в сторону стаканы.
В землянку ворвались два мальчугана лет по шести, удивительно похожие друг на друга, темноголовые, остриженные под бокс, с карими, как у матери, глазами. Припухлые губы и задорно вздернутые, с круглыми ямочками подбородки малышей напоминали Королеву их родителя. На мальчиках были одинаковые осенние костюмчики из китайки (Сергей вспомнил: недавно такие выдавали в магазине по талонам) и одинаковые ботинки на резине, тоже выданные по талонам.
Мать обняла детей, расцеловала.
– Где мотались? Небось опять в посадке? – спрашивала она ласково и строго. – Я же наказывала, чтоб туда не ходили, там поезда теперь ездят.
Дети приумолкли, насупились. Один из них, не поднимая головы, буркнул:
– Мамка, ты опять…
– Что – опять? Петя, сынок? – встревожилась она.
А другой просяще посмотрел на Королева, проговорил:
– Дядя Сережа, скажите, чтоб мамка не пила, ну скажите.
Королев смутился, не зная, что ответить. Мать тоже смутилась и, чтоб сын не заметил перемены в ее лице, прижала его к себе.
– Ну какой же глупенький, – говорила она. – Мы с дядей Сережей на радостях по рюмочке выпили. Папка должен скоро приехать…
– Это правда, дядя Сережа? – уставились на него близнецы.
Агата соврала, чтобы оправдаться перед детьми, а Королев, не желая ее подводить, сказал:
– Может и приехать. Сейчас многих горняков отпускают, чтоб шахты восстанавливали.
– Наш папка шахтер, – с гордостью сказал Петя, – он на врубовке ездил.
– И рекорды выдавал, – в тон ему вставил брат.
Пришла Анастасия Волк – молодая девушка, одетая по-мужски, в косоворотке, заправленной в парусиновые брюки, запятнанные присохшей известью.
– Бригадирша велела передать, чтоб вы в ночь выходили на работу, – сказала она Аграфене, – тетка Федора захворала.
– Ладно, – сказала Агата, даже не взглянув на нее. – Накорми деток, а я нашего парторга провожу.
Когда вышли из землянки, Королев глубоко вздохнул, но не почувствовал облегчения. То, что он узнал и пережил за короткое время, находясь один на один с Аграфеной, было для него неожиданным, взволновало и насторожило. Что-то надо предпринимать, иначе все закончится непоправимым. У него пока что была единственная надежда – это ответ Никиты. Королев верил, что его письмо заставит Пушкарева изменить свое мнение о жене и он непременно напишет ей извинительное письмо.
Когда вышли на улицу, Агата придержала Королева за локоть:
– Спасибо, Сережа, что не забыл, заглянул. – Глаза ее все еще блестели от выпитого. – Об одном тебя прошу: про мальчиков моих не забудь. В детском доме им лучше будет, чем со мной.
Королев еще раз успокоил ее, пообещав, что все будет сделано как надо, и поинтересовался:
– Ты куда сейчас направляешься?
Агата немного смешалась.
– К подруге загляну, не всегда же быть одной.
Королев ничего ей не сказал, но догадался, что ни к какой подруге она не пойдет, а скорее всего подастся к самогонщице, которую Анастасия Волк «ни за что не разоблачит».
Все последующие дни Королев не забывал о Пушкаревой. Часто приходил на строительство детского дома. Агата, как и всегда, была молчалива, замкнута, поглощена работой. От Никиты письма все не было.
И вот однажды, когда он сидел один в своем кабинете, зашел письмоносец.
– Ну, ну, Максимыч, выкладывай, что хорошее принес, – от радостного нетерпения он даже вышел из-за стола навстречу желанному гостю. Почтальон порылся в своей объемистой брезентовой сумке, вздохнул и печально пошутил:
– К сожалению, парторг, тебе пока еще пишут. А вообще радостного мало, – он снова порылся в сумке и опять же ничего не извлек из нее. – Сегодня прилетело два письма, – глядя поверх очков на Королева, говорил Максимыч, – одно вручил, а второе не смог, сил не хватило. Ей-ей не брешу. Раз пять подходил к двери. За щеколду брался и обратно уходил. А теперь вот к тебе пожаловал – советуй, как быть, парторг: вручать или подождать?
– А кому второе письмо?
Максимыч опасливо огляделся, нет ли кого постороннего, и вполголоса проговорил:
– Аграфене Пушкаревой.
Королев как стоял, так и окаменел на месте. Чтоб Никита был убит да еще в такое время, когда его жизнь нужна была не только ему одному, показалось чудовищным и невероятным.
– Только не убит Никита, а пропал без вести, – как бы желая его успокоить, сказал почтальон. – По моему рассуждению, это еще хуже, чем «убит».
В письме действительно сообщалось, что артиллерист-наводчик Никита Пушкарев во время боев за безымянную высоту на правом берегу Днепра пропал без вести.
«Да, старик прав, – думал Королев, прочитав письмо, – раз по документам убит, значит уважение к памяти воина. А как это «пропал без вести»? Захвачен в плен? Сбежал с передовой или погиб случайно, так что никто не видел его подвига?.. Это, действительно, еще страшнее, чем «убит».
Королев спрятал письмо в стол, предупредив письмоносца, чтоб никому не проговорился о нем.
– Пусть пока это письмо останется нашей тайной, Максимыч. Выждать надо, понимаешь?..
– Чего ж не понять, все как есть ясно…







