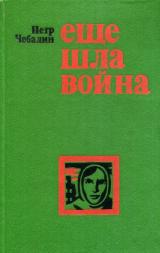
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
Вот теперь, кажется, все. Война подхватила твоего Гаврика, как бурлящий водоворот, и унесла невесть куда…
Ополоснувшись теплой водой, Варя оделась во все чистое, вошла в комнату. Кровати стояли прибранные каждая на свой манер. В комнате была одна Тоня Ломова.
Варя остановилась у нее за спиной. Девушка перекладывала из папки на кровать вырезки из газет и журналов – фотографии солдат и офицеров, отличившихся на фронтах войны. Этот своеобразный альбом Тоня начала собирать давно. Одни добродушно подсмеивались над ней, другие относились к ее занятию безразлично, дескать, чем бы дитя ни тешилось… Варя также без всякого интереса относилась к увлечению прицепщицы. Одни собирают марки, думала она, коллекционируют фотокарточки кинозвезд, а Тоня – фотографии воинов. С какой целью она это делает, Варя никогда не задумывалась.
Наблюдая, как Тоня под каждой фотографией аккуратно вписывает карандашом адреса полевой почты, поинтересовалась:
– Со всеми переписываешься, что ли, Тонька?
Девушка посмотрела на нее через плечо и, казалось, удивилась ее вопросу:
– Не со всеми, конечно, некоторые не отвечают, – с легкой грустью сказала она.
– А почему не отвечают?
Тоня теперь уже с упреком взглянула на подругу.
– Ты как маленькая, Варька. Они же воюют, а на войне всякое случается…
Варя смутилась. Ее необдуманный, наивный вопрос, видимо, искренне удивил и огорчил девушку. И она впервые подумала, что Ломова не только ради какой-то забавы коллекционирует фотографии. Присела на кровать к ней, обняла за плечи, спросила:
– О чем же они тебе пишут, Тоня?
Девушка вздернула плечами, словно затрудняясь ответить.
– Как тебе сказать, разное пишут. Признаются в любви и всякое такое…
– Все признаются? – усомнилась Варя.
– Почти все. А чего ты удивляешься?
– Я не удивляюсь, просто интересно, как это все вдруг в тебя одну влюбились, а как же ты…
– Что я? – остановила ее Тоня. – Я им тоже пишу, что люблю, и благословляю бить гадов-фашистов.
Она хитровато подмигнула, вынула из папки свою маленькую фотографию, подала ее Варе.
– Такую карточку я, считай, отослала всем, вместе с письмами.
С фотографии-пятиминутки смотрела доверчиво улыбающаяся круглолицая с приоткрытыми пухленькими губками дивчина. В такую влюбиться солдату-фронтовику нетрудное дело.
– И тебе не стыдно, Тонька? – возвращая карточку, строго спросила Варя.
– А чего мне должно быть стыдно? – вопросительно посмотрела на нее Ломова.
– Ведь ты всех обманываешь, что любишь. Зачем ты это делаешь?..
– Как это зачем? – в упор, пристально глядя на подругу, спросила Тоня. – А если я их правда всех люблю, что же в этом плохого? Или мне кто может запретить?
– В таком деле нет запрета, совесть должна быть, – уже с горячностью продолжала Варя, – представь себе – все они, – показала она на вырезки, – узнают, что ты такая щедрая на любовь, знаешь, как тебя обзовут…
Тоня рассмеялась.
– Чудная ты, Варюха, – сказала она беззаботно. – Ну как они могут догадаться, что я всех их люблю, если они в жизни друг друга в глаза не видели и никогда не увидят. – Она взяла вырезки, принялась, как карты, раскладывать на кровати. – Вот этот лейтенант, который два немецких танка подбил, с Первого Украинского, а вот солдат с Белорусского, а морячок этот на эсминце на Балтийском фронте рулевиком. Все они в разных местах воюют. Так что ты зря опасаешься, что они узнают про мою щедрую любовь, – и заключила уже уверенно и серьезно: – Если хочешь знать, от моей любви им легче воюется. Они сами пишут об этом.
– Все равно нехорошо, Тонька, – с задумчивой грустью сказала Варя.
Ломова, казалось, не расслышала ее слов, продолжала перебирать фотографии.
– А этот сержант уже не отвечает.
Варя взяла вырезанную из какой-то газеты бледно отпечатанную фотографию. Под ней было написано: «Пулеметчик Иван Нырков – настоящий художник своего дела». Тоня подала ей еще одну фотографию.
– Этот тоже перестал писать.
На Варю смотрел с жизнерадостной улыбкой парень в шлеме танкиста.
– И этот, и этот… – Тоня подавала Варе фотографии одну за другой.
– Почему же не пишут, Тоня? – серьезно спросила она. Девушка подняла лицо, посмотрела прямо в глаза подруге, сказала почти шепотом и так, будто в самой себе к чему-то тревожно прислушиваясь:
– Наверно, убиты, понимаешь…
Варя почувствовала, как мгновенный холодок пробежал по всему телу.
– Откуда знаешь, что убиты. Может, их перебросили в другую часть или ранили, – робко возразила она.
– Нет, нет, – протестующе покачала головой Тоня, – эти убиты, их уже нет. Вот послушай, что писал мне Ваня Нырков перед самой смертью.
Она ссунулась с кровати, достала из-под нее фанерный самодельный чемоданчик, вынула из него пачку писем-треугольников. Нашла нужное, развернула и, побегав глазами по строкам, остановилась, стала читать вслух:
…«пишу тебе в окопе. Фриц совсем близко. Постреливает, а в атаку не идет, видать, кишка тонка. Вчера мы ему хорошей прочуханки дали. Но вот, кажется, зашевелился. Если меня убьют, милая незнакомка, знай, сердце мое с тобой. Думая о тебе, мне хорошо воевать и жить легче в сырых окопах…»
– Слыхала: «если убьют»?.. – тревожным взглядом посмотрела на подругу Тоня. – Значит, предчувствовал. И вот у этого матросика тоже предчувствие было.
Она откладывала в сторону одни письма, не читая их, другие оставляла в руке. Варя, изумленная, молча смотрела на нее. Никогда прежде она не задумывалась над тем, что Тоня ведет такую обширную переписку с фронтовиками. И все это не ради забавы или какой-то любовной шалости. От писем веяло откровением, задушевностью. Варя не знала, какими были Тонины письма к бойцам, но, судя по ответам, в них ничего не было легкомысленного. Тоня писала о шахте, о работе подруг, а ей – о ратных делах.
Когда Тоня рассортировала треугольники предполагаемых «убитых» и «живых», первых оказалось больше. Ломова взглянула на подругу, и глаза ее застлал испуг.
– Вот видишь, а совсем недавно этих было больше, – показала она на конверты «живых».
Варе сделалось страшно и жутко от этих подсчетов и догадок.
– Я всех люблю, и они меня все до единого любят, – говорила Тоня, – а хоть одного из них дождусь, как ты думаешь, Варечка? – полными слез глазами смотрела она на подругу.
Варя не знала, что ей ответить, пошутила:
– А если целым взводом явятся, что тогда будешь делать?
Ломова сгребла в кучу письма на кровати и упала на них лицом.
– Может, никто не вернется, Варечка, ни один… – с трудом выговорила она. Плечи ее вздрагивали.
С этого дня, когда случалось им оставаться вдвоем в комнате, Варя спрашивала:
– Ну что, получила письмецо от кого-нибудь?
И если такое письмо было, садились рядом, и Тоня читала вслух. Как-то пришло письмо от молодого солдата, фотографию которого Тоня привезла из города. В горвоенкомате, оказывается, работала подружка Ломовой, она-то и снабжала Тоню вырезками из газет.
Молодой воин был награжден тремя орденами солдатской славы. Он писал:
«Получил Вашу фотографию, за что низко кланяюсь и от души благодарю. Вы просите, чтобы я рассказал о своей жизни. А что рассказывать, я, право, не знаю. Вырос в детском доме, не помню ни отца, ни матери. Окончил ФЗУ и не успел поработать на заводе слесарем, а тут война. Теперь воюю. Два раза был ранен. Вот и вся автобиография. А за то, что поцеловали в своем письме, вовек не забуду. Вы первая девушка, которая поцеловала меня. Ваше письмо буду носить под гимнастеркой у самого сердца. Мне с ним легче будет воевать и, если хотите, даже гораздо охотнее. Жду ответа, как соловей лета, и крепко, крепко целую.
Ваш до гроба Григорий Соловьев».
Тоня опустила руку с письмом на колени, задумалась.
– Ну ты скажи, Варечка, почему так получается, – не глядя на подругу, с грустинкой заговорила она, – одно-единственное письмо ему послала с фотокарточкой, а он сразу любовный ответ: «Ваш до гроба». Неужели у них там на фронте обстановка такая влюбчивая?
– Тоскуют по мирной жизни. Хоть в письме откроются, и то легче, – сказала Варя.
– А вот я не на войне, а почему мне охота писать им про любовь?
Варя промолчала, пряча улыбку.
– Вот этого Гришу Соловьева, если не считать его фотокарточки, я ни разу в глаза не видела, а влюбилась. Явись он хоть сейчас и скажи: «Пойдем, Тоня, в загс, распишемся, чтоб навеки вместе», – глазом бы не сморгнула, пошла. Любому б, с кем переписываюсь, не отказала в замужестве. А ведь меня еще, как и моего Гришу, никто не целовал, – застенчиво опустила она веки. И вдруг спросила: – А чего ты ни с кем не переписываешься, Варя?
– Не с кем, подружка.
– Чудачка, – искренне удивилась Тоня, – да я тебе сколько хочешь дам адресов. Только пиши. Может, со временем настоящую судьбу свою найдешь.
– Нет, я так не могу.
Но Варя всегда интересовалась новыми вырезками и письмами фронтовиков.
ГЛАВА ВТОРАЯI
На шахте начали восстанавливать подъемную машину и подорванный копер. А пока-что уголь приходилось подвозить к рудничному двору вручную. Гоняют женщины, надрываясь, груженые вагонетки, толкают их под гору, сдерживают на уклоне. Шугай решил опустить в шахту в помощь откатчицам Берту.
Специальный ящик – клеть для лошади смастерили плотники под наблюдением Остапа Недбайло. Кузнец, никому не доверяя, сам оковывал ящик обручным железом. Как-то, показывая ящик главному инженеру Кругловой, которая часто приходила в кузницу с разными заказами, Остап Игнатьевич спросил:
– Как думаешь, выдержит лошадь, Татьяна Григорьевна?
– Сделано прочно, думаю, что выдержит.
– Хоть об дорогу бей, не разобьешь, – с гордостью сказал старик.
На шахтный двор влетел на Берте Тимка, держась одной рукой за недоуздок, другой размахивая кепкой. Забегая наперед, звонким лаем заливалась Жучка, раз за разом подпрыгивая и взвиваясь, будто хотела цапнуть лошадь за морду. Тимка на ходу круто осадил Берту, и она под веселый лай Жучки вдруг протяжно и радостно заржала.
– С белым светом прощается, – невесело сказал кто-то. Но она и не подозревала, что ее ожидает. Берте всегда было весело, когда верхом на ней сидел сорванец Тимка, приятно щекотал бока пятками. И ко всему эта Жу-Жу – резвая звонкоголосая собачонка. От ее лая хотелось скакать и прыгать, неся хвост трубой.
К Берте подошла Лебедь, стала ласково гладить гриву с вплетенными в нее красными тесемками. Лошадь, вытягивая шею, доверчиво смотрела на Клаву блестящими фиолетовыми очами, тыкалась упругими теплыми губами в ее руки.
Лебедь взяла из рук Тимки недоуздок и первая вошла в клеть. Берта, осторожно переступая, пошла вслед за ней. Гулко прогремели копыта по пересохшим доскам. Незаметно в ящик прошмыгнула и Жучка.
– Закрывайте заслону и опускайте! – крикнула из ящика Клава.
Шугай запротестовал:
– Ты не дури, Клавка!
– А что такое, Николай Архипович?
– А то, что взбунтуется животное – косточек не соберешь.
– Берта не такая, как вы думаете, она смирная, – и уже решительно потребовала: – Опускайте клеть, нечего волынить.
Но Шугай настоял на своем, ей пришлось выбраться из ящика. Однако отпускать Берту в шахту без ее любимицы было рискованно. Лошадь действительно могла взбунтоваться и натворить беды. Тогда решили на ящике сверху пристроить из досок специальное сиденье для Клавы, чтоб она вместе с Бертой опустилась в шахту. Она уже уселась на своем месте, как вдруг раздался голос Тимки:
– А Жу-Жу?!.
– Что еще за Жу-Жу? – сердито посмотрел на него начальник шахты. Ему надоела канитель с Бертой, а тут еще, оказывается, какая-то Жу-Жу.
– Собаку так кличут, Николай Архипович, – чуть не плача, пояснил Тимка, – в ящике она.
– Ну так что, по-твоему, теперь делать? Открывать ящик? – сердито спросил у него Шугай.
Но Тимка не успел ему ответить. Заговорила Клава:
– Пусть Жу-Жу едет, – просяще сказала она, – Они привыкли друг к другу.
Тимка, глядя на нее исподлобья, проговорил ворчливо:
– Взбунтуется Берта, еще задавит.
– Не задавит, – обнадежила его Клава и позвала Жучку.
Собачонка сейчас же очутилась на спине у лошади. Вильнув хвостом, вскочила Клаве на колени, лизнула руку.
Послышался одобрительный смех.
А кто-то мрачно предрек:
– Кобелек черный. Как бы чего не вышло…
– Бери, раз такое дело, – с трудом согласился Тимка. – Все забрала: Берту, Жу-Жу… – он шмыгнул носом, огорченно махнул рукой и побежал прочь.
Шугай с облегчением произнес:
– Ну, слава богу, кажется, карета готова, – и кому-то крикнул: – Запускай лебедку!
Деревянная клеть вздрогнула и слегка приподнялась. Из-под нее вынули дощатый настил, и клеть медленно стала погружаться в ствол. Клава приветливо помахала всем рукой.
II
Берта долго не могла привыкнуть к шахте. Кромешная тьма, сумрачный мигающий свет «шахтерок» настораживали и пугали. Ходила она в упряжке шагом, почти ощупью. Горный мастер Соловьев, глядя на такую езду, шумел на Клаву:
– На кой черт мне такие твои темпы, небось не яйца возишь!
Лебедь, казалось, не обращала внимания на его окрики, продолжала ездить по-своему. Но вот как-то десятник привел в шахту старого коногона Егорыча. Пришел он с кнутом. Кнут был особенный – из сыромятной, унизанной узлами кожи с нарядным махром на конце короткого кнутовища. Старик подошел к Берте, сделал строгие глаза.
– Ну! – и, внезапно ударив ее под брюхо кнутовищем, дернул за повод. Затем вывел из конюшни и ретиво принялся за дело. Перед тем как поставить лошадь в упряжку, старик гикнул на нее и со всего маху озлобленно ожег кнутом. Берта испуганно метнулась в сторону, взвилась на дыбы. Ударившись головой о верхняк, попятилась задом по штреку, увлекая за собой коногона. Тот изо всех сил упирался, удерживая ее за повод. Чтобы пересилить лошадь, за повод ухватился и десятник.
– Попробуй без кнута, Егорыч, – посоветовал Соловьев, – может, оно лучше.
Жучка металась вокруг, заливаясь визгливым лаем. Старик улучил момент, перетянул ее кнутом. Собака обиженно заскулила, но сейчас же снова перешла на затяжной истошный лай.
Пока Егорыч с десятником безуспешно возились с лошадью, пришла Клава. Узнав, в чем дело, вырвала из рук коногона кнут, сломала о колено кнутовище и швырнула в водосточную канаву.
– А ну-ка улепетывайте отсюда, изверги! – ожесточенно накинулась она. – И где только совесть у людей, – и тут же приказала: – Куси их, Жу-Жу!..
Собачонка вихрем заметалась вокруг старика, хватая его то за штаны, то за полы брезентовой куртки. Тот отмахивался руками насколько хватало проворства и не выдержал, взмолился:
– Да уйми ты эту анафему, Клавка, а то как есть без порток останусь.
Клава, успокоив Жучку, решительно сказала:
– Чтоб к моей лошади и близко не подходили, сама обучу.
– Без кнута не обучишь, девка, – отдышавшись, самонадеянно проговорил старик. – Всякой лошади кнут необходим. – И, взглянув на сломанное кнутовище, предмет своей гордости, сказал с сожалением и укором: – Зря ты, Клавка, с моим самохлестом этак… Считай, годов двадцать службу нес, не одну супротивную лошадь обучил.
Клава подняла изуродованный кнут и сунула ему в руки.
– Можете взять свое добро, только сюда дорогу забудьте!
Вскоре, однако, Берта обтерпелась, привыкла и уже без страха бегала по штреку.
Помощницей у Лебедь была Тоня Ломова. Клава никогда не опасалась, что партия вагонеток оборвется где-нибудь в пути, наделает беды в штреке – выворотит рельсы или выбьет крепежные стойки. Тоня сцепляла вагонетки умело и надежно. Не нравилось Клаве в своей помощнице одно: уж очень она тихая, задумчивая. Решив, что всему виной переписка с фронтовиками, Клава как-то спросила у нее:
– Небось неласковое письмецо от возлюбленного получила, что такая смурная?
– Давно не пишет, – пожаловалась Тоня.
Клава рассмеялась:
– Чудачка! Ну не пишет, и ладно. Стоит ли мучить себя. А вообще, Тонечка, брось ты почтой заниматься. Сама терзаешься и другим от твоих писем покоя нету. А все попусту.
В шахту Лебедь обычно приходила задолго до смены, но с некоторых пор стала замечать: как бы рано ни пришла, Тоня уже была на месте. А однажды застала прицепщицу с Макаром Козырем, рослым русокудрым парнем-красавцем. Козырь появился на шахте недавно, работал проходчиком в откаточном штреке. Они стояли возле вагонетки и о чем-то негромко переговаривались. Увидев Клаву, Макар как старой своей знакомой протянул широченную ладонь, сказал:
– Первой девушке-коногону нижайший поклон, – и расплылся в сладенькой улыбке.
Клава пристально посмотрела на него.
– Чего кривляешься, в цирк пришел, что-ли? – сказала сердито.
Но парень не обиделся.
– Извините, Клавдия, люблю пошутить.
Лебедь, казалось, тут же забыла о парне, обратилась к прицепщице:
– Готовь партию, я пошлю за Бертой.
– Партия уже готова, Клава, – с застенчивой улыбкой отозвалась Тоня, – мы вместе ее… – и запнулась, Клава только сейчас увидела: стоявшие в ряд вагончики были сцеплены, готовы к выезду. Промолчала и пошла в конюшню. А когда вернулась, Макара уже не было.
– Небось приехал, с кем переписывалась? – спросила, затаив лукавую улыбку.
– Угадала, – откровенно светясь, ответила Тоня и опустила глаза.
– Выходит, не зря переписывалась.
На этот раз Козырь пришел на рудничный двор, когда Тоня сцепляла вагонетки. Она не сразу увидела его. Первым желанием у парня было в шутку испугать ее – потрубить паровозом у самой ее головы или внезапно захватить ей глаза руками и молчать, пусть отгадает, кто такой. Но потом передумал, негромко окликнул:
– Тоненькая… Ты что это одна, а где же твоя начальница?
– Сейчас придет, пошла на конюшню, – не поднимая смущенного взгляда, сказала Тоня.
Вскоре пришла Клава. Делая вид, будто не заметила Макара, впрягла лошадь, примостилась на первой вагонетке.
– Поехали, Берточка.
Партия вагонеток, лязгнув сцеплениями, плавно двинулась. Козырь стоял рядом с Тоней на буфере. Когда состав покатил быстрее, Макар, словно боясь упасть, обнял девушку за плечи и тихо нараспев продекламировал, касаясь губами ее уха:
Тоненькая, Тоненькая,
Тоней называлась потому…
В последние дни он, еще издали завидев Тоню, встречал ее этими стихами. Какому поэту принадлежали они, она не знала и до того привыкла к ним, что ей казалось – никто другой, кроме Макара, не мог сочинить их. Никогда еще стихи не звучали для нее так волнующе трогательно, как сейчас.
В пути Клава несколько раз пронзительно свистнула, и Берта во всю прыть катила «партию» до самой лавы.
Немного в сторонке от насыпного люка на обаполе, примощенном на глыбах породы, сидели в ожидании смены насыпщица Шура Бокова и ее товарка Нюра Гуртовая. Девчата грызли семечки и о чем-то тихо беседовали. Заметив Козыря, Нюра смахнула с колен шелуху, хотела было встать, но передумала и насмешливо сказала:
– Видать, прямо с гулянки, Макар, что так рано?
Яркие глаза ее блеснули из-под бровей.
– А вас чего спозаранку принесло? – будто не заметив шутливого тона Гуртовой, спросил Макар.
– Пришли подсолнечники грызть, а то в общежитии не дозволяют, – заиграла глазами Нюрка. – Хочешь? – Поднялась и протянула ему полную горсть.
– Ну их, сама ешь, – отвел ее руку парень.
Лицо насыпщицы сразу же преобразилось. Ярко накрашенные губы сжались, тонкие ноздри вздрогнули, глаза заискрились, заполыхали веселым смехом.
– Что, небось Тонька накормила?
– А если и Тонька, так что?
Нюра вдруг рассмеялась безудержным девичьим смехом.
– Ну чего ты… Вот дурочка, – недовольная подругой, сердито сказала Шура и отвернулась.
– Не твое дело. И чего это тебе Тонька далась, семь раз некрасивая девка. А я-то, взгляни какая, глаз не отведешь. Чего б тебе такую не полюбить, Макарушка? – И лихо подбоченясь, вдруг выпрямилась так, что лицо ее стало вровень с лицом парня. В глазах у Нюрки, дробясь, лучились огоньки от «шахтерок».
Глядя на подругу, теперь уже Шура засмеялась, но тут же, как бы поперхнулась, спрятала лицо в ладони.
Рассмешила и Макара поза Гуртовой.
– Что ж, полюбить можно, – сказал он будто серьезно, сдерживая улыбку. И вдруг сильным движением подхватил дивчину. Она сначала засмеялась, потом крикнула от боли, а потом вдруг испугалась и рванулась из его рук. Но парень крепко держал ее в своих сильных объятиях и не выпускал.
– Пусти ты, бугай!
– А вот и не пущу!
– Поцелуй, пустит, – послышался голос Клавы.
– Так уж и поцелую, смотри, – отозвалась Нюрка. Надавила рукой на его подбородок и резким движением выскользнула на землю, выпрямилась, сильно размахнулась и ударила ладонью парня по спине так, что руку себе ушибла. Макар даже не сдвинулся с места.
– Еще, что ли? – посмеивался он.
– Да ну тебя!.. Чего пристал, смола.
– То-то ж… – игриво подмигнул ей парень и зашагал по штреку.
– Вот чертяка, какой сильный… Даже косточки захрустели, – пожаловалась Нюра.
Подошла Тоня.
– Он мне так стиснул руку, что до сих пор болит, – жалостливо сказала она.
– Тебе, Тонька, другое дело, а мне за что? – лукаво улыбнулась ей Нюрка.
– За то, за что и мне, – не поняв ее намека, ответила прицепщица.
– Ну-ну, девка, так я тебе и поверила…
Нюрка подошла к вагонетке, припала к ней спиной, раскинув по железным бортам руки, как крылья. Не сводя горящего взора с Тони и затаенно улыбаясь, заговорила в каком-то восторженном отчаянии:
– Эх, Тонька, отобью я у тебя Макара. Вот захочу и отобью, не веришь?
Тоня с изумлением смотрела на Гуртовую, не понимая, что с ней творится.
– Не веришь, скажи? – даже в свете ламп видно было, как зарумянилось ее лицо.
– Ты сумасшедшая, Нюрка, – испугалась ее вида Тоня, – очень мне нужен Макар. «Отобью!» Вот чудачка! – и расхохоталась так, что взмокли ресницы.
– Скрываешь, думаешь, не вижу, – подозрительно сощурилась на нее Нюрка.
– Да ну тебя!.. – сквозь смех сказала Тоня, махнула рукой и пошла к вагонеткам.
Какое-то странное чувство пережила в эту минуту Тоня. Она удивилась, обрадовалась и в то же время испугалась его. Еще никогда до этого ей так не говорили про Макара, и самой ни разу не приходилось отвечать так, как она ответила Нюрке. Что же это такое? Неужели соврала, что ей, Тоне, и в самом деле не нужен Макар и безразлично, что сделает с ним эта вертлявая Нюрка? В эту минуту красивое лицо откатчицы, ее вызывающий взгляд и вольность, с какой она обходилась с Макаром, неприятно задели что-то самое дорогое в ее душе. И она вдруг решила, что теперь не сумеет спокойно видеть Нюрку вечно живой и веселой. И больше уже никогда не будет водить с ней дружбу.
Когда Берта под звонкий лай Жучки и озорной свист Клавы мчала по штреку груженную углем партию вагонеток, в размеренном стуке колес, шуме встречного ветра Тоня ясно слышала: «Тоненькая, Тоненькая, Тоней называлась потому…»
Она невольно стала произносить эти слова вслух, подбирая к ним красивую мелодию, и уже твердо верила, что на всю жизнь запомнит ее…
III
Женщины из бригады Варвары Быловой разместились в забоях во всю длину лавы. Угольный пласт был тонок – пятьдесят-шестьдесят сантиметров. И к тому же дьявольски крепкий, с холодным, суровым блеском, – без привычки не урубишь. Забойщицам приходилось работать лежа на боку, орудуя поочередно то обушком, то ломиком. Когда в лаве скоплялось нарубанного угля и трудно было передвигаться, его ногами ссовывали вниз.
Особенно тяжело приходилось забойщицам в верхней части лавы – температура достигала тридцати градусов, а приток воздуха – слабый. Досаждала и вода. Она просачивалась из почвы, дождилась с тяжело нависшей низкой кровли. От одежды валил пар, как от белья во время стирки. Вначале Былова никому не уступала верхний забой, сама работала в нем. Видя, как ей тяжело, женщины настояли, чтобы каждую смену меняться забоями. С той поры трудный пай приходился на каждую забойщицу один раз в неделю.
Работали полураздетые, подостлав под себя какую-нибудь рвань.
Когда Шугаю надо было побывать в женской бригаде, он еще в штреке предупреждал о себе громким кашлем. Заслышав его, в лаве снизу доверху, как по цепочке, передавались сигналы о приближении начальника шахты, и женщины поспешно набрасывали на себя одежонку. На этот раз Шугай влез в лаву с верхнего вентиляционного штрека. Прополз метра два-три, кашлянул и прислушался. По всей лаве раздавались глухие частые удары обушков, стук топора, и только в первом верхнем забое было тихо. Слабый мерцающий свет струился оттуда, дробясь и переливаясь в кусках мокрого угля. Шугай прополз еще и остановился: в забое, разбросав руки, откинув голову, лежала женщина. Обушок и топор были рядом, подвешенная на деревянной стойке лампа едва тлела.
– Спишь, что ли? – стал тормошить он забойщицу. Но та даже не шевельнулась. Шугай громко крикнул.
Первой появилась Пелагея Неверова. Мокрое от пота, в тонких темных морщинах лицо ее было чистое, словно вымытое.
– Попробуй-ка еще ты ее растолкать, Пелагея, – сказал Шугай.
Женщина осветила лампой мертвенно застывшее, с сжатыми, запекшимися губами лицо забойщицы, сказала:
– Это Зинка Постылова, Николай Архипович. Вчера она кровь сдавала. Донор она. Ей бы с недельку отдохнуть, сил набраться… – и не договорила. Набрала из фляги воды в рот, брызнула на лицо забойщицы – не помогло. Разжала ей зубы, принялась поить из фляги, приговаривая:
– Ох, дура, дура… Говорили же, нельзя тебе, Зинка, в этот забой, квелая ты, определенно не сработаешь, так нет же, характер решила показать!
Вскоре появилась Былова, а следом за ней еще несколько женщин в худых, словно дробью изрешеченных майках и мужских рубашках.
Былова наклонилась к притомленной:
– Зина, ну, Зинка же…
Та приоткрыла опушенные угольной пылью ресницы, судорожно вздохнула и едва слышно спросила:
– А что со мной?..
– Ничего, притомилась, и только, – успокоила ее Былова. – Тут душно, пошли на воздух, Зина.
Шугай помог вывести забойщицу в штрек. Он чувствовал себя пристыженным и все время угнетенно молчал.
Шугай знал, что многие женщины после изгнания немцев стали донорами, сдавали кровь в госпиталь, за это получали специальный продовольственный паек. После сдачи крови им полагался недельный отдых, но некоторые уже на второй или третий день возвращались к своей работе. Так поступила и Зинаида Постылова.
В штреке забойщице полегчало, и Шугай собрался уже уходить, как из темной глубины штольни донесся залихватский свист и звонкий лай вперемешку с железным лязгом вагонеток. В полосу рассеянного света, не замедляя бега, влетела Берта с партией порожних вагонеток. Клава спрыгнула на ходу. Поезд медленно проследовал на запасной путь и остановился. Сейчас же смолк и лай Жучки.
– Лихачеством занимаешься, – осуждающе покосился на Лебедь начальник шахты.
– Порожняк можно и с ветерком промчать, Николай Архипович, – ответила ему Клава. И уже сердито: – Скоро копер поставите? Бадьей много уголька не накачаешь. По часу приходится простаивать на рудничном дворе.
Шугай ничего не ответил, только нахмурился. Этот вопрос ему задают все, хотя каждому известно, что не от него зависит установка копра. Был бы подъемный кран или хотя бы пара мощных лебедок в помощь тем, что имеются…
Он стал смотреть, как насыпщицы наполняют вагонетки, выдвигая и задвигая железную заслонку. Угольный поток с шумом и грохотом устремлялся из люка в вагончик, вздымая клубы густой черной пыли. Пока загружалась партия, в штреке было почти совсем темно. Лишь по тусклым оранжевым огонькам «шахтерок» можно было разгадать движение людей. Время от времени слышался призывный ласковый голос Клавы:
– Грудью, Берта, грудью!..
Лошадь подходила к вагонетке и заталкивала ее грудью в глубину штрека. Там их в один состав сцепливала Тоня Ломова.
Былова вернулась в лаву и заняла забой, в котором работала Зинаида Постылова, – нельзя допустить, чтобы верхний уступ отставал от остальных. Искривится лава, и тогда продвижение угля по ней усложнится, образуются заторы. Искривление лавы часто допускала мужская бригада, которой руководил Прохор Богиня. Силы в его бригаде были неравные: больше старики-пенсионеры. Когда на смену им приходила бригада забойщиц, лава была похожа на покривившуюся изгородь. Ее приходилось подчищать, выравнивать. Это отнимало немало времени. Прием и сдача лавы, как правило, сопровождались крикливой перебранкой, упреками и язвительными насмешками. Женщины называли себя набитыми дурами, что связались с мужиками, подписали с ними договор о соревновании, «а они только мычат, а не телятся». Языкатая Нюрка Гуртовая советовала Лукьяну Грызе, чтобы он почаще бил поклоны в забое за всю бригаду, может, его молитва дойдет до бога и он подбавит им силенок. Женщины хватались от смеха за бока, а Грыза, тяжело хмурясь, усталой походкой молча уходил прочь.
Былова понимала, что женщины пересаливают в своих шутках, но не сдерживала их. Она видела, с каким азартом после каждой такой перебранки со своими «соперниками» забойщицы брались за работу. Но не упускала случая пожаловаться начальнику шахты на бригаду Прохора Богини. Шугай в ответ добродушно посмеивался и разводил руками.
– А где полноценных мужиков для вас набраться? Нету их!
– В таком случае разрешите, я собью еще одну бригаду из женщин, – с упрямой готовностью заявляла Былова.
– Хочешь шахту в бабий монастырь превратить, – смеялся Шугай, – потерпи, скоро с фронта горняки привалят.
– Небось опять калеченые да контуженые, – вырвалось у нее, – это не работники, а бабье горе привалит.
На шахту действительно стали возвращаться с фронта шахтеры. Среди них – легкораненые, были и здоровые. Приходили на «Коммунар» и из других шахт, так как там пока что нечего было им делать, шахты взорваны, приведены в полную непригодность.
Вскоре мужская бригада забойщиков почти полностью обновилась. Бригадира Богиню сменил Матвей Костров – лет двадцати семи, высокий, худощавый парень с седой прядью в густой рыжей шевелюре. Ходил Костров всегда в тельняшке, в широченных брюках клеш, на груди и на руках – замысловатая татуировка. Говорили, что Костров был моряком.
Знакомясь с Быловой, он задержал ее руку в своей трехпалой, но сильной, и сказал так, как будто за что-то сердит на нее:
– Договорчик, синьора, придется пересмотреть. Тот, который вы сочинили, меня не устраивает.
– Это почему же не устраивает? – пропуская мимо ушей слово «синьора», с лукавой строгостью спросила Варя.
– А очень просто: в договоре сказано, что ваша, то есть дамская бригада… – начал было пояснять он, но Былова резко оборвала его.
– Женская!
– Простите, женская, – нисколько не смутившись, поправился Костров, – ваша и мужская, выходит, взяли одинаковые обязательства: выдавать на-гора пятьдесят тонн в смену. Считаю такой порядок несправедливым.
Варя вопросительно и все еще удивленно посмотрела на него, но смолчала.
– Моя братва решила давать вам каждую смену десять тонн «форы». Только в таком случае у нас могут быть деловые договорные отношения.
– Это что еще за «фора»? – спросила Былова, уже недоверчиво, с подозрением глядя на парня. Что-то в нем было наигранное, заносчивое.







