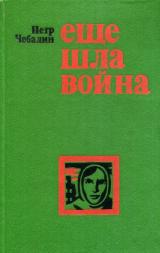
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
Когда Шугай вошел в кузницу, рыжий смрадный дым валил из горна. В нем метались, задыхаясь, багровые и фиолетовые длиннопламенные языки.
– Ну, Архипыч, – приветствовал его кузнец, – клеть готова, можешь начинать разведку хоть сегодня.
Сплетенная из толстых железных прутьев клеть стояла у входа. Шугай осматривал ее тщательно и долго, будто искал, к чему придраться. Кузнец строго следил за ним, и казалось, вот-вот обиженно скажет: «Напрасно ищешь, у коваля Недбайло брака не бывает». Но только спросил:
– Как решил: сам первый в ствол окунешься или Андрея Казака пошлешь?
Шугай промолчал. Он никому не мог доверить такое ответственное дело, тем более инвалиду Казаку. В шахтных стволах Андрей толк знает – спору нет. Но в самой шахте ему, безногому, делать нечего.
Шугай подозревал, что шахта заминирована. Не ради же прогулки немецкие солдаты перед самым уходом из поселка спускались в нее. Он, Шугай, лучше любого другого знал горные выработки и, как ему казалось, без особенного труда отыщет место, где заложена взрывчатка. Но не стал объясняться, только сказал:
– Казак инвалид, Игнатьевич.
– То не главное, – возразил ему кузнец, – ты видал, как он молотом садит? Видал. Значит, силы у него предостаточно. А кто до войны ствол ремонтировал, под чьим он наблюдением числился? Под Андреевым. Может, ты забыл, а я помню. Казак небось там каждую щелочку на память вызубрил.
– Может, и вызубрил, не спорю, да только выше меры и конь не скачет. Не положено в шахту инвалидов допускать, есть закон.
Пока спорили, пришел Андрей Казак, опираясь на деревянные костыли, выбрасывая вперед обрубки ног, обшитые толстой резиной. Опаленное горном, почти коричневое широкоскулое лицо его довольно улыбалось.
– Ну что, понравился наш агрегат, товарищ начальник? – спросил он весело.
Шугай добродушно пошутил:
– Гондола! Не хватает пузыря к ней, а то б не то что в шахту, на самый Марс можно лететь.
Посмеялись. Даже старый кузнец расправил на лице хитро сплетенные морщинки, но тут же снова согнал их к месту и сказал:
– Ну кузнецы-молодцы, хватит балачек, – и заторопился к горну. За ним следом пошли его подручные.
Шугай сразу не ушел, стал наблюдать. Кузнец поворошил в горне короткой железной пикой, затем ловко выхватил щипцами из огня прямоугольный, добела накаленный брусок, небрежно положив его на наковальню, и, как только очистил с него молоточком окалину, два молодых парня тут же принялись отчаянно избивать нагретое железо молотками – один с левой, другой с правой руки. Кузнец так и этак переворачивал брус, постукивая звонким молоточком то по наковальне, то по накаленному металлу. Затем подключился тяжелый молот. Им с удалью орудовал Андрей Казак, примостившийся на прочном деревянном помосте. Удары его были размашисты, из-за плеча, и такие мощные, что под ногами вздрагивала и гудела земля. Каждый удар молотка как бы завершал музыкальный аккорд, и сейчас же с напевного молоточка кузнеца начинался новый. Казалось, кузнецы не железо куют, а со знанием дела, вдохновенно подбирают заветный ключик к какой-то удивительно бойкой, веселящей душу мелодии.
Подручными у старого кузнеца были близнецы Торбины – Петр и Павел. Во время отступления Советской Армии братья раздобыли снаряд и принялись вскрывать его. Снаряд разорвался. Павлику оторвало правую руку почти по локоть, Петру – кисть левой. Операцию сделал им военный хирург, проезжавший с госпиталем через шахтный поселок.
Петьке и Павке исполнилось по шестнадцать, но, когда спрашивали, сколько им лет, братья в один голос отвечали:
– По двадцать на Петра и Павла стукнет, – и, как бы наперед отвергая всякие сомнения, добавляли: – А что, скажете, нет?!
И им верили. Это были рослые, крепкие хлопцы.
Забойщик Кондрат Торбин ушел на фронт до того, как случиться беде с его сыновьями. На днях Шугай встретил его жену Прасковью, высохшую женщину с увядшими глазами. Она рассказала, что ее Кондрат лежит в госпитале и скоро вернется домой. Слезы не дали ей говорить. Николай Архипович, выжидая, пока она успокоится, думал: «Эге, как ее потрепала жизнь».
– Пишет, что без одной ноги вернется, – опять заговорила Прасковья, – а того не знает, что у нас в доме уже двух рук нет. Я ведь ему ни словечка про Петьку и Павку не отписала. Вот и выходит: было в доме три мужика, а теперь и двух целых нет, – и пошла, спотыкаясь, прижимая конец платка к глазам, ничего не видя перед собой.
Во время оккупации Николай Архипович как-то по другому воспринимал людское горе. То была просто нищета, унижение, оскорбительное существование человека. Оно было общим. Такой жизнью жил и сам он. Постепенно свыкся со всем. Да и не до того было, чтоб присматриваться, как кто живет. Все жили одинаково худо. А теперь, когда, казалось, надо бы радоваться и было чему радоваться, почти в каждый дом непрошенно, нежданно ломилось горе за горем, беда за бедою.
В поселок все чаще стали приходить похоронные. Прежде, бывало, как дорогого гостя встречали письмоносца. Теперь же, когда он стучался в дверь, у каждой солдатки отнимались ноги от недоброго предчувствия. При встрече с почтальоном и на сердце Николая Архиповича становилось тревожно. Единственный сын Григорий в первые дни войны ушел на фронт, и с той поры ничего не слышно о нем – жив ли, здоров…
Все это бременем ложилось на душу.
V
Шугай, можно сказать, дневал и ночевал на шахте. Появлялся домой в полночь, наскоро съедал приготовленное и заваливался в постель. Вставал рано, не спеша одевался, отвечая на вопросы жены или что-нибудь рассказывая.
– Ну вот, Ксюша, и подоспела пора окунуться в шахту, – говорил он. – Молодцы наши ковали, такую клеть соорудили!..
– А куда же опускать вашу клеть, ствол-то захламлен, – вставила жена.
– Спустимся – узнаем, может, там хламу того – кот наплакал, – самоуверенно говорил Николай Архипович.
Слушая его, Ксения Парамоновна в душе радовалась за мужа: изнуряющая работа все же не погасила в нем прежних сил, энергии, доброй радости. Чутьем своим угадывала: сегодня он не оттого по особенному радушен и словоохотлив, что в кузнице смастерили какую-то клеть. Подошла ближе, пристально посмотрела на него своими всегда затуманенными материнской скорбью глазами.
– Знаешь что-нибудь о Грише, Коля?
Николай Архипович обнял жену за плечи, привлек к себе.
– Говорят, Гриша наш жив-здоров, – сказал он не совсем уверенно. – Пришел с фронта сын Дудки Данько. Горняков стали отпускать налаживать шахты. Данько воевал вместе с Гришей в одной части, виделся с ним. С Гришей ничего, говорит, жив и не ранен…
Ксения Парамоновна оторвала от его груди лицо, и он увидел в ее увлажненных глазах ясный радостный свет.
– Чует мое сердце, что наш Гриша живой, – проговорила она задумчиво, чуть слышно, – я каждое утро и вечер за него молюсь… – Плечи ее вздрагивали от сдержанного рыдания. Немного успокоившись, сказала: – Ты, Коля, приведи к нам Данька. Поговорить бы с ним…
По дороге на шахту Николай Архипович думал о словах жены: «Я за него утро и вечер молюсь…» Это было удивительно и ошеломляюще неожиданно. Он никогда не видел, чтобы жена крестилась или била поклоны. Да и молиться-то не было чему: в доме ни теперь, ни прежде не держали даже плохенькой иконки. Правда, старуха Агафья Павловна, покойная мать Ксении, хранила у себя под подушкой небольшую, величиной в ладонь, темноликую иконку – родительское благословение, но незадолго до того как умереть старухе, она и ту, единственную, поколола на мелкие дольки и выбросила в печь. Случилось это в день смерти пятилетней внучки Любаши. Старуха дни и ночи, не смыкая глаз, ни на шаг не отлучалась от своей любимицы, нашептывала молитвы, время от времени осеняя иконкой, прикладывая ее к пылающим детским губам. Но ни что не помогло, Любаша умерла. С той поры умерла в старухе и вера в бога.
И после всего этого – молитвы Ксении…
К дугам люльки прицепили канат, перебросили через шкив, укрепленный над самым центром шахтного ствола, другой конец протянули к лебедке.
Люльку сначала наполнили балластом. Стальной канат звенел от натуги, как струна. Но люлька благополучно достигла уровня воды в стволе и поднялась на-гора.
– Все в порядке, – обрадованно сказал Шугай, – очередь за мной.
– Ты там поосторожней, Николай Архипович, – предупредил его Королев, – чуть что – сигналь, мы тебя сразу вытащим.
Подошел кузнец Недбайло.
– Может, возьмешь с собой Казака или еще кого?.. Одному-то как-никак моторошно.
Шугай помолчал и влез в люльку.
Освещая вокруг себя фонариком, Шугай медленно спускался в темный, пахнущий застоявшейся погребной сыростью шахтный ствол. Люлька, раскачиваясь, цеплялась и билась о расстрелы, запутывалась в оборванных канатах, в электропроводке, а когда коснулась деревянного полка горизонта 220, Шугай дернул за веревку, дал наверх сигнал «стоп». Не выходя из люльки, посветил фонарем перед собой. Рудничный двор сплошь был залит водой. То, чего Шугай больше всего опасался, сбылось. Вспомнил единственный насосик, который день и ночь старательно выкачивал воду из шахты, и сердце его тревожно сжалось: не управиться ему одному! Волоча ноги по воде, повел фонарем вокруг. Свет вырвал из темноты мрачно нависший железобетонный свод, черную, жуткую своей подстерегающей неизвестностью пасть штрека. Когда-то из него, весело перемигиваясь яркими огнями фар, выкатывали юркие электровозы с составами, груженными углем. Теперь здесь властвовала зловещая тишина.
Николай Архипович, борясь с леденящим страхом, продвигался осторожно, знал: где-то должна быть заложена взрывчатка. Но где? На рудничном дворе он ничего подозрительного не обнаружил.
Прошел шагов двадцать, как вдруг заметил: из глубокой глухой выработки, где находились насосы, широким потоком лилась вода. Прошел почти по колено в воде в глубь выработки. Насосы были затоплены. Решил: надо, пока не поздно, вызволять. А как это сделать? Ведь насосы намертво прикреплены к рельсам. Но они нужны позарез. В теперешнее время их, как говорится, днем с огнем не найдешь и ни за какую цену не купишь. Не успел он подумать об этом, как почувствовал легкое головокружение. Газ! Шугай поспешно выбрался обратно в штрек. Глубоко, облегченно вздохнул. «Вот и вызволяй их, – с огорчением подумал он о насосах, – без респираторов черта с два что-нибудь получится, а на шахте – ни одного исправного». Подошел к лазу, который вел в угольную лаву, забрался в нее. Поднял над головой фонарик. Острый луч высветил сплошную рваную стену каменных глыб. Лава была завалена. Этого и надо было ожидать: простояв много дней без продвижения, ненадежно закрепленная, она сама по себе обрушилась.
Спустя несколько минут он тем же путем побрел обратно к рудничному двору. Нагибаясь, протиснулся в узкий обходной ходок. Кепка, зацепившись за что-то, слетела с головы. Осветил кровлю – и ужас в мгновенье сковал все тело: провода! Целая паутина проводов. А вдоль стен ходка на незначительном расстоянии один от другого разложены небольшие ящики из потускневшей жести. Шугай не сделал больше ни шагу: под рельсами и под воздухосборником – всюду могла быть взрывчатка. Чутко прислушался, и ему почудилось, как в темноте что-то настойчиво и неумолимо отсчитывает секунды. Возможно, до страшного взрыва осталась какая-нибудь минута, две… Огромным усилием он все же поборол в себе страх и еще раз осветил провода, стараясь разобраться в их путанице. Николай Архипович проследил за двумя, параллельно тянущимися откуда-то из глубины ходка к ящику, и ему показалось, что провода оборваны. Не веря самому себе, еще зорче пригляделся: провода действительно были перерезаны. Сделал несколько осторожных шагов ко второму, третьему ящику – та же картина. Что за чертовщина! Неужели провода обрезали сами немцы? Но этого не могло быть. Он вспомнил, как в поселке говорили, что гитлеровцы силой затянули в шахту сторожа Чубука, чтоб тот сопровождал их. И у него мелькнула мысль: может быть, это его, шахтного сторожа, работа? Но как мог Чубук обезвредить мины, когда за каждым его шагом следили немцы. Но пусть даже все это дело рук старика, тогда где он сам, почему не дал о себе знать? Ведь Чубук опытный горняк, без света, по воздушной струе мог отыскать ход к стволу или шурфу. Нет, что-то не то.
В голове все спуталось, пошло кругом.
Николай Архипович еще раз осмотрел заминированное место и стал осторожно выбираться из ходка. Надо немедленно ехать в город и обо всем доложить начальству.
Он уже собрался войти в клеть, как вдруг почудилось, вроде б кто-то пробежал совсем неподалеку. Круто обернулся – и сердце его будто окунулось в ледяную купель: в свете фонаря он увидел, как чья-то тень скользнула по мокрому железобетонному своду и тут же исчезла.
– Кто такой?! – невольно вырвалось у него. Голос прозвучал басовито, гулко, как в пустой бочке. Но никто не отозвался. Николай Архипович с минуту не мог прийти в себя. Ноги одеревенели и словно приросли к земле. Что за человек, чья тень?.. Возможно, то был дед Чубук? Если в самом деле он, то чего б ему прятаться?
Шугай почувствовал, что не в силах оставаться один, поспешно влез в люльку и дернул за веревку, – качать!..
Не заходя домой, он на попутной машине отправился в город. А спустя некоторое время возвращался с двумя саперами – молодыми солдатами. Всю дорогу Шугай не переставал думать о разговоре с управляющим трестом Чернобаем. Все время ждал, что управляющий вот-вот спросит: как же это ты, Николай Архипович, проворонил, не выполнил задание своего партизанского вожака, кто-то другой обезвредил мины. А ведь это ответственное дело было поручено лично тебе. Но Чернобай ни словом не обмолвился. Или не знал о таком задании подпольной группы, или просто умолчал, решил отложить разговор до более подходящего случая.
Шугая угнетало не то, что не он обезвредил мины. Ему было нестерпимо обидно и больно, что, видимо, на него не особенно надеялись, не полностью доверяли и кем-то подстраховали.
С вожаком подполья Шугай никогда не виделся с глазу на глаз. Знал только его кличку – Бесстрашный. Задание от него получал через связного – девушку-железнодорожницу со станции Ясиноватой. При встречах в условленном месте она называла себя Любой. От нее узнавал, как развертываются события на фронтах, через нее получил и последнее задание. Это было незадолго до ухода немцев из Красногвардейска. Никто еще не знал, заминируют ли они шахту, но это само собой подразумевалось, и Шугай был предупрежден, что к этому надо быть готовым каждый день, каждый час. Одним словом, он промедлил, упустил ответственный момент.
Шугай показал саперам заминированное место, а сам пошел по штреку, куда, как ему почудилось, метнулась чья-то тень. Светя себе фонарем, он шагал медленно, словно опасаясь, что вот-вот перед ним откроется пропасть. Прошел шагов сто, завернул в конюшню – довольно просторное помещение, выдолбленное в породе. С потолка пышной бахромой свисала пропитанная угольной пылью паутина. Когда-то здесь стояло до десятка лошадей. Шумный народ, коногоны, каждую смену впрягали их в шахтные вагонетки и с гиком и лихим свистом летали по штрекам. В конюшне еще сохранился стойкий запах конского пота.
Шугай еще походил по штреку, по-хозяйски ко всему присматриваясь, а из головы не выходила промелькнувшая перед глазами человеческая тень, ящики с зарядами, оборванные провода… Ведь все это не случайно и не сон же в конце концов. И он окончательно уверился, что в шахте, видимо, давно скрытно жил специально подосланный Бесстрашным человек, который и сделал свое дело.
Солдаты, соблюдая осторожность, выносили из ходка в штрек жестяные ящики. На шпалах узкоколейки кто-то неподвижно лежал. Шугай посветил фонарем и узнал шахтного сторожа Чубука. Он был мертв.
– Где нашли?
– Да там же, где и ящики, – пояснил солдат.
Для Шугая теперь было ясно, что не Чубук порезал провода. Чтоб не поднимать живого свидетеля на-гора, немцы просто пришибли старика.
Кто же предупредил катастрофу?..
ГЛАВА ШЕСТАЯДома Королева ждала большая радость. Приехала мать, и с ней молодая женщина. Мать ласково называла ее то Тонечкой, то «солнышком». После первых волнующих минут встречи уселись за стол. Татьяна достала из рюкзака консервы, вяленую рыбу, хлеб и в завершение торжественно водрузила в центре стола поллитровку «Московской». Остап Игнатьевич от великого удивления прокашлялся в жесткий кулак и нетерпеливо поерзал на табуретке.
– Ну а посуда твоя, Игнатьевич, – сказала Арина Федоровна. – Везти стеклянки из Караганды не было расчета.
Старик засуетился, заговорил:
– Такого добра хватает, Аринушка… Этот грабитель, – с затаенной улыбкой на строгом лице взглянул он на Тимку, – когда удирали немцы, всего понатащил. Даже бороды приволок. – Подошел к деревянному сундучку, открыл его, показал несколько париков и царский халат, вытканный золотой фольгой.
– Я же тебе говорил, деда, что все это Годунова, – наморщив лоб, обиженно сказал Тимка.
– Какого еще Годунова? – удивился Остап Игнатьевич.
– Царя Бориса, какого же еще, – и, глядя то на Арину Федоровну, то на Татьяну, словно в свое оправдание, пояснил: – Все это немцы в нашем клубе заграбастали. Хотели, видать, отправить в Германию, даже в ящики упаковали, да не успели.
Арина Федоровна обняла паренька, погладила его голову.
– Умница. Все это наше, пригодится…
Остап Игнатьевич извлек из сундучка граненые рюмки, вилки. Тимка принес из подполья полный полумисок капусты и малосольных помидоров.
Когда выпили за приезд, Арина Федоровна рассказала о Караганде.
Слушая ее, Сергей вглядывался в дорогие материнские черты. Как же ты исхудала, состарилась, родная! Последний раз он видел мать, уезжая на фронт. Тогда она была, как теперь казалось Сергею, еще совсем молодая – ни одной резкой морщинки на смуглом суровом лице. Собирая сына в дорогу, она не пролила ни единой слезинки, была сосредоточенная, серьезная, будто собирала сына не в далекий путь, твердо веря, что расстаются они ненадолго. На перроне вокруг нее суетились, разноголосо перекликались, шумели люди, а она, выпрямившись, стояла оцепеневшая. А когда эшелон тронулся, вдруг вся встрепенулась, но не сошла с места, только прощально вскинула высоко над головой дрожащую руку. Такой мать и осталась в памяти Сергея – сильная, гордая, любящая.
С той поры прошло каких-нибудь два года, но, видимо, это много для стареющего человека. Глубокие морщины избороздили ее сильно похудевшее лицо, увяли иссеченные тонкими морщинками когда-то полные губы. Но мать не гнулась, ходила бодрая, прямая. Движения ее по-прежнему были уверенные, нетерпеливые; живые темно-серые глаза смотрели все так же напористо и молодо.
Татьяна больше молчала, часто задумываясь. В ней действительно было что-то от солнышка. Подстриженные светло-русые волосы, голубые глаза, прозрачные, точно размытые, мелкие веснушки на чуть впалых щеках, прямые белесые брови и только ресницы смолянисто-черные от въевшейся угольной пыли. В ее лице просвечивалась какая-то грустная, как бы притаившаяся красота.
Татьяна вместе с матерью работала в Караганде на одной шахте. Мать – бригадиром забойщиц, Круглова – горным мастером. До войны она жила на Луганщине. Там у нее была семья: муж – горный инженер и пятилетний сынишка Васик. Муж в первые же дни войны ушел на фронт и вскоре погиб.
По дороге на восток эшелон, в котором ехала Татьяна с сыном, немцы расстреляли с воздуха. Васик был тяжело ранен и умер на руках у матери. Приехав в Караганду, Татьяна сразу же попросилась на фронт, но людей, знающих горное дело, не хватало, и ее направили работать по специальности.
Дом разделили на две половины – мужскую и женскую. В одной комнате поселились Остап Игнатьевич с Сергеем и Тимкой, во второй, которая поменьше, Арина Федоровна и Татьяна. Вскоре после приезда Круглова была назначена главным инженером шахты.
С приездом Арины Федоровны в квартире стало по-домашнему хлопотно и шумно. Раньше всех уходили на работу Остап Игнатьевич, затем Сергей и Татьяна. В обязанности Арины Федоровны входило стряпать еду и постоять час-другой в очереди за продуктами.
Когда, бывало, Сергей или Татьяна забегали домой поесть, то редко заставали мать. По обыкновению, на столе стояла завернутая в теплый шалевый платок кастрюля с картошкой в мундирах или супом из пшеничной крупы и рядом записка: «Ешьте, я ушла…» Когда ушла, по какому делу, никому в доме не надо было объяснять. Ясно было: ушла по делу. А дел у Арины Федоровны с каждым днем становилось все больше.
Потомственная горнячка, она была из тех редких женщин, в которых любая беда, постигшая окружающих ее людей и ее самую, никогда не приводит в уныние, а лишь возбуждает энергию. Еще до революции и в трудные годы первых пятилеток она работала наравне с мужчинами откатчицей, насыпщицей породы и даже забойщиком. Когда мужа привалило в шахте, это несчастье как-то даже укрепило ее, удвоило ее силы. Вскоре о ней говорили как о лучшей стахановке-общественнице. Работая в шахте, она возглавила санитарную комиссию домохозяек-активисток по благоустройству рабочих поселков, общежитий. Группа энергичных бывалых женщин совершали «налеты» на столовые, буфеты, магазины, проверяли, контролировали, наводили законность и порядок. За внимание к горнякам, за душевную заботу о них ее стали называть матерью.
Возвращаясь из Караганды, Арина Федоровна знала, что немцы много бед натворили на родной земле, но то, что увидела, превзошло все ее ожидания. В дороге она часами простаивала у раскрытой двери товарного вагона. Перед ее глазами проносились развалины станций, разрушенные города и заводы, заросшие бурьяном необозримые поля. И ее родной поселок не обошла война. Коммунар лежал в пепелищах и развалинах. В первый же день приезда она побывала в квартирах, в землянках. Многих прежних своих знакомых Арина Федоровна узнавала с трудом. Поблекли, состарились молодые женщины и даже девушки. Все ходили в заштопанной рвани.
В старом заброшенном бараке, служившем до войны хозяйственным складом, теперь жили бессемейные женщины и девушки. В нем ни коврика, ни цветов, ни зеркала, без чего прежде трудно было представить рабочее жилье. И она вспомнила прежние годы, когда созданные ею бригады домохозяек-активисток благоустраивали рабочие поселки, создавали уют в общежитиях. Но теперь не было домохозяек. Все женщины были заняты работой. И все же ей удалось уговорить некоторых солдаток, и они пошли по квартирам, собрали простыни, наволочки, скатерки. Когда все это принесли в общежитие, обитательницы его ахнули от удивления: где раздобыли столько добра! Вскоре в поселке появилась и свой библиотека. Стоило Арине Федоровне поговорить с Тимкой, как уже на другой день он с группой школьников обошел все дворы и собрал много разных книг. Ребята находили их на чердаках, в сараях. Во время оккупации людям было не до книг.
Арина Федоровна чуть ли не каждый день бывала у начальника шахты, об одном просила, другое требовала.
– Зима не за горами, а школа – одни развалины. Копошатся в них бабы и ребятишки. А что толку?.. Подбрось двух-трех каменщиков.
Шугай вздыхал. Арина Федоровна хорошо понимала, как трудно приходится начальнику шахты. Разных дел – пропасть, а умелых рук не хватает, и взять их негде. Нет и строительного материала. Куда ни кинься – гвоздя не раздобудешь, не говоря уж об оконном стекле, кирпиче или шифере. Но никто не сидел без дела. Люди допоздна, словно муравьи у разоренного гнезда, копошились на шахте, у своих жилищ, благоустраивались, как могли. Не зимовать же под открытым небом. Но нельзя оставаться без школы, без дома для сирот, а их немало. Пока не похолодало, детишек раскрепили по чужим семьям. А нагрянет зима, тогда как быть? Кто за ними присмотрит, если с утра до позднего вечера все заняты на работе?
Шугай терпеливо выслушивал Арину Федоровну, мучительно думая, как все же уважить ее просьбе. А знал: уважить надо, без школы, без детского дома никак не обойтись.
– Ладно, мать, – словно решившись на невозможное, наконец говорил он. – На худой конец одного каменщика выделю, сорву с самого что ни на есть важного объекта. Но учти: как только сколотит добрую бригаду, сейчас же заберу обратно.
Теперь, когда на строительство пришел опытный каменщик, сколотил бригаду из женщин и подростков, не хватало камня, глины, песка. Договорились, пока совсем не испортилась погода, возить строительный материал из заброшенного степного карьера. Мобилизовали местный транспорт: тачки, тележки, возки. Одни были на колесах, снятых с лобогреек, другие на деревянных, ошинованных и неошинованных. Встречались и на резиновом ходу – на скатах от мотоциклов, легкие, бесшумные. Их называли в шутку «лихачами». Весь этот разноликий, поистине всенародный транспорт еще совсем недавно колесил по дорогам и проселкам Украины. И теперь, после освобождения, продолжал нести свою безотказную службу. Ни свет ни заря тачечники – женщины, старики, дети выстраивались в длинную вереницу вдоль улицы. Обоз до позднего вечера, при любой погоде – в жару и слякоть – двигался от шахты к каменному карьеру и обратно.







