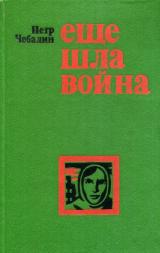
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
I
Незадолго до дневной смены Королев решил зайти к начальнику шахты. Кабинет его оказался закрытым. Сергей знал, что Шугай, когда ему надо было без посторонних свидетелей поговорить с начальством по телефону, имел привычку закрываться на ключ, и условным стуком дал знать о себе.
– Горбатюк не заходил? – с ходу спросил он. Шугай отмолчался, сел за стол и, чем-то обеспокоенный, принялся рыться в ящиках стола, мучительно сводя на переносице густые темные брови.
– Ты что, не слышишь, Николай Архипович? – уже начал сердиться Королев. – Через полчаса сменное профсоюзное собрание, а предшахткома как в воду канул.
– Проводить собрание придется без Горбатюка, парторг, – наконец мрачно отозвался тот.
– Опять захворал?
– Не захворал, здоров, но… – начал было Шугай и замялся. Как-то убито посмотрел на парторга и тихо добавил: – Нет у нас председателя шахткома. Арестовали, ясно?..
Королев онемел от ужаса, а потом улыбнулся: ему показалось, что Шугай шутит. Он иногда мог шутить совсем некстати. Но лицо его было серьезное.
– Такими вещами не шутят, – казалось, прочитал его мысли Шугай. – Пришли двое, предъявили ордерок, и извольте бриться. Вот тут сидел Горбатюк, – показал он на стул рядом со своим. – Вот такие-то дела, парторг… – выговорил он вместе со вздохом.
В тот же день, сразу после сменного профсоюзного собрания, Королев позвонил секретарю горкома, рассказал о случившемся. Туманов долго молчал, видимо, затруднялся ответить что-либо определенное. Затем сказал: «Я выясню, в чем дело, а потом позвоню тебе…»
Королев часто допоздна засиживался в кабинете – перечитывал горкомовские директивы, просматривал свежие газеты. Дня ему для этого никогда не хватало: выступления в нарядной с информацией о событиях на фронтах, беседы по разным вопросам с людьми отнимали у него почти все дневное время. Теперь же, когда случилось такое с Горбатюком, он с вечера до глубокой ночи никуда не отлучался из своего кабинета, ждал, что вот-вот зазвонит телефон и он услышит ободряющий голос Туманова: ничего особенного не случилось, произошла ошибка, досадное недоразумение.
Но звонка из горкома все не было.
Сидя за столом, Королев невольно прислушивался к соседней комнате. В ней было тихо. А всего несколько дней тому назад оттуда то и дело доносились то строгий, то спокойный голос председателя шахткома, людской говор. Горбатюк редко бывал один. Часто заходил к Королеву посоветоваться или сообщить что-нибудь новое и никогда не сидел на месте, все ходил, нервически подергивая головой. За что могли арестовать Горбатюка? На шахте в эти дни плелись разные слухи: одни шептались, будто он продался немцам, когда во время атаки, раненый, несколько часов оставался на нейтральной территории; иные утверждали, что на председателя шахткома наклеветали злые языки. Последнее – более вероятно. Прямой, откровенной натуры человек, он не терпел людей с нечистой совестью и порой был не сдержан, даже груб с ними. Вероятно, они-то и отомстили ему.
Сегодня, как и в предыдущие дни, Королев до полуночи просидел в кабинете и, решив, что напрасно ждет звонка Туманова, уже собрался идти домой, как вдруг настойчиво, резко зазвонил телефон. Королев вздрогнул от неожиданности и в нетерпении схватил трубку.
– Королев? – услышал он далекий голос.
– Я слушаю.
– Ты здорово занят?
Он не узнал голос Туманова: как будто по-приятельски прост и в то же время холоден. И ответил неопределенно:
– Дел всегда хватает.
– Тогда вот что: приезжай к нам в горотдел КГБ, ты срочно нужен, – говорил далекий голос. – Пропуск тебе уже выписан, зайдешь в седьмую комнату. Жду. – И в трубке раздался характерный сухой щелчок.
Королев некоторое время сидел, точно прикованный к стулу. Он догадывался, что вызывают по делу Горбатюка, но почему именно сейчас, в полночь?
Позвонил в гараж. К счастью, дежурная машина была на месте, и через полчаса он уже ехал в грузовике в Красногвардейск. Сидя в кабине с шофером, с огорчением подумал, что второпях не предупредил мать о своем отъезде, и теперь она всю ночь не сомкнет глаз, будет ждать.
– Знаешь, где помещается КГБ? – спросил Королев у шофера.
Тот, напряженно всматриваясь в освещенную фарами дорогу, не поворачивая головы, ответил:
– Садовая, 19. А что?
– Туда меня подбросишь.
Шофер на секунду скосил на него вопросительный взгляд.
– Небось по делу нашего председателя шахткома вызывают?
– Не знаю, – нехотя отозвался Королев.
Молчали долго. А когда въезжали в город, шофер снова заговорил:
– Запустили слух, будто наш Андрей Константинович немецкий шпион. Какой же он шпион, если весь фашистскими пулями прошит? И душа у него рабочая. Не иначе как наклеветали на человека, гады!
Королеву не один раз приходилось слышать такое, и он все больше убеждался, что с арестом Горбатюка определенно произошло какое-то недоразумение и что ошибка эта обязательно будет исправлена.
Когда подъехали к двухэтажному дому, Королев велел шоферу подождать и скрылся за массивной дверью. Он задержался в коридоре у крайней комнаты № 7. За дверью было тихо. Торопливо согнал за спину складки гимнастерки под ремнем, постучал.
– Можно, войдите, – послышалось за дверью.
Королев приехал домой под утро. Не успел он ступить на порог, как мать открыла дверь. Пока умывался, она, не расспрашивая, где был и почему так поздно пришел, поставила на стол вечерю. Сидели вдвоем. Остап Игнатьевич и Тимка спали в своей половине. Первой заговорила Арина Федоровна.
– Что ж молчишь, сынок, рассказывай.
И Сергей понял, что матери известно, куда ездил и по какому делу. Сказать ей об этом никто не мог, так как, уезжая в город, он никого не предупредил. Видно, как и всегда, подсказало материнское чутье. Сергей рассказал все, ничего не утаивая, и заметил, как вдруг померкли ее всегда ясные глаза. Она долго молчала, задумчиво глядя в одну точку, затем внимательно и озабоченно посмотрела на него, спросила:
– Сам-то ты веришь, что Горбатюк оборотень?
– Нет, мама.
– Тогда борись, сынок! – с побледневшим сурово напряженным лицом настойчиво сказала она. – Честного человека негоже оставлять в беде.
Поднялась, подошла к нему, провела по голове ладонью, потеребила, помяла густые волосы, как делала в детстве, и молча пошла в свою комнату. Голова его горела. Он не в силах был ничего сказать, только с болью посмотрел ей вслед…
II
Через несколько дней после поездки Королева в МГБ на шахту прибыл представитель горкома. Под вечер того же дня было созвано внеочередное партийное собрание. Королев обрадовался: возможно, теперь все прояснится с Горбатюком и можно будет сказать людям правду, чтобы прекратить судачество.
Оказалось, представитель привез готовое решение – исключить Горбатюка из рядов партии, как изменника – и недвусмысленно добавил, что за потерю бдительности еще кое-кто должен понести соответствующую меру наказания.
– Правильно говорю, товарищ парторг? – спросил он у Королева.
– Правильно или неправильно, будут судить сами коммунисты, – ответил тот, – не нам же с вами решать.
– Вопрос решен, – удивился представитель. – От собрания всего-навсего требуется, чтоб оно согласилось, подтвердило.
Королев больше ничего ему не сказал.
Представитель говорил при гробовом молчании коммунистов. Факты, которыми располагал он, были чудовищны и, казалось, неотразимы. Их невозможно было опровергать и в то же время трудно было поверить, что товарищ, которого все хорошо знали, мог докатиться до такого падения. Представитель иначе не называл Горбатюка как «предатель». У коммунистов при этом никли головы, и каждый, казалось, боялся смотреть в глаза своему соседу, словно обвинялся в тяжких грехах не только Андрей Горбатюк, но и все присутствующие на собрании.
Во время выступления представителя кто-то подкинул с места:
– Еще не закончено следствие, а вы его врагом обзываете…
Представитель промолчал, словно не расслышал реплику или просто не счел нужным на нее отвечать.
Первой попросила слово Арина Федоровна. Пока она шла к столу, чуть наклонив голову и ни на кого не глядя, по комнате катился сдержанный говорок: «Королева взяла слово. Мать будет выступать…»
Королев, председательствуя на собрании, не призывал к порядку, не успокаивал, хорошо понимая, что после долгих напряженных минут молчания, пока представитель докладывал собранию суть дела, такая разрядка просто необходима. Арина Федоровна стала у края стола – сухонькая, прямая, лицо строгое, глаза ясные и сурово спокойные. Сергею всегда казалось, что все в матери ему хорошо и давно известно. Каждая складочка на ее лице, каждый ее жест близки и понятны ему, как и всякому любящему сыну. Но, когда она выступала на собрании, он всякий раз неожиданно открывал в ней для себя что-нибудь новое и с благоговейным трепетом ждал ее слов. С тем же чувством слушали ее и все присутствующие.
– Я – старая большевичка и знаю, как тяжко приходится человеку, когда его разлучают с родной ленинской партией, – говорила она. – Все, что там в вашей папочке собрано, товарищ представитель, насчет коммуниста Андрея Горбатюка, может, правда, а может, и нет. Мы Андрея Горбатюка принимали в партию, перед нами он и должен держать ответ. А как же можно за глаза решать судьбу человека! Такого права никому не дадено. Пусть Горбатюк явится в свою партийную ячейку, и мы сообща решим, как с ним поступить. Ежели окажется, что он правда оборотень или, как вы, товарищ представитель, выразились – изменник Родины и предатель, пощады ему от нас не ждать.
Все дружно зааплодировали. Послышались одобрительные возгласы:
– Правильно, мать!
– Как можно человека за глаза исключать!
– Пусть придет Горбатюк, тогда и решим!
Арина Федоровна выждала, пока собрание утихнет, и продолжала:
– Я высказываю свою думку, товарищи коммунисты, а там сами решайте. Только пускай лучше рука моя отсохнет, а за глаза ни «за», ни «против» голосовать не стану. – И, вскинув голову, пошла на свое место.
Все снова загудели.
Королев, видя, что других мнений нет, чтобы не тратить время, решил поставить предложение старой большевички на голосование. Представитель нервничал, пытался что-то говорить, но ему не дали. Проголосовали единогласно. Воздержался один Шугай. Он сидел в самых задних рядах, в углу, притихший, нахмуренно задумчивый.
Когда стали расходиться, Королев подозвал его, сказал, чтобы на минутку остался. Шугай недовольно поморщился, помялся, но покорился.
Заложив руки за спину, он с мрачным отяжелевшим лицом стал вышагивать по комнате. Королев, делая вид занятого человека, что-то искал в сейфе и, украдкой поглядывая на него, думал: «Опять ты, Николай Архипович, остался при своем мнении. Когда-нибудь тебе это припомнят коммунисты». – И, замкнув сейф, сказал:
– Присаживайся, Николай Архипович, поговорить надо.
Шугай вскипел:
– О чем говорить?!.. По-моему, все ясно.
– Для тебя ясно, а для меня – не ясно, – спокойно выговорил Королев и уже настойчиво: – Садись!
Шугай нехотя сел напротив, боком к парторгу. Королев всмотрелся в профиль его лица и не впервые для себя отметил, что Шугай заметно сдал, похудел.
– Я как председатель собрания, – начал Королев, – не требовал от тебя объяснения: почему воздержался? Да это и не положено. Может, мне объяснишь?
Шугай резко, всем корпусом повернулся к нему. Глаза его были накалены.
– Извини меня, парторг, но ты чудак! Не знаешь, с кем имеешь дело.
– А с кем?
– С органами, вот с кем! – пуча, точно от испуга глаза, сдавленным голосом выговорил Шугай, – там, будь уверен, похлеще нас с тобой разбираются, кто чист, а у кого рыльце в пушку. Сказали, что Горбатюк – немецкий шпион, перебежчик, значит, так, в прямом смысле, и понимай.
– А ты как считаешь – перебежчик он? – спросил Королев.
– А что я?! – удивленно переспросил Шугай и, помедлив, неопределенно ответил: – Я своего твердого мнения на этот счет пока что не имею.
– Выходит, умываешь руки?
– А у меня они чистые, – с усмешкой сказал он и, как бы для убедительности, посмотрел на свои широкие ладони.
«Хитер», – подумал Королев. Вспомнил, как однажды во время очередной стычки с Горбатюком Шугай, распалившись, зловеще пообещал председателю шахткома: «Ты, Андрей, когда-нибудь допрыгаешься…» Тогда Королев не придал значения его словам. Мало ли что эти горячие головы могли наговорить друг другу в порыве раздражения. Теперь же с ужасом подумал: «Неужели и Шугай приложил к делу Горбатюка свою руку?.. Это невероятно! Но не исключено».
Отмалчиваться нельзя было, и Королев решил продолжить разговор:
– Я считаю, что коммунисты правильно решили, потребовав Горбатюка к себе на собрание. В конце концов, пока он не исключен из рядов партии, является членом нашей организации.
– Оно, может быть, и верно, – в сомнении пожал плечами Шугай, – да только кто его отпустит, раз уж он у них числится…
– Должны отпустить. Там тоже разбираются.
– Смотри, так и отпустят, – безнадежно протянул Шугай. – Органы, брат, в теперешнее, военное время – сила. Власть у них – неограниченная.
– Ты так говоришь, будто имел с ними дело, – вставил с улыбкой Королев.
– А ты думаешь, одного тебя вызывали по делу Горбатюка? – лукаво сощурился он, – таскали и меня и не один раз, так что – в курсе.
Королев опешил. Ему даже и в голову не приходило, что не один он побывал в доме по Садовой № 19. Оказывается, вызывали и начальника шахты, и, наверно, не только его одного…
Шугай поднялся со стула, пристально посмотрел на парторга.
– Ты с ними, Сергей, не того, – предостерегающе многозначительно покрутил он кистью, – мой тебе совет: не прись на рожон, дело серьезное. А то как бы сам не допрыгался. Ясно?..
– Запугиваешь?
– Не пугаю, по-дружески советую, – так же спокойно сказал ему Шугай. – Ты думаешь, я просто так, сдуру воздержался при голосовании? Как бы не так! – негромко воскликнул он и добавил, словно секретничая: – Чтоб лишний раз не таскали, не отрывали от работы. Ясно?! Один ведь черт, как решат – так и будет. Теперь они в защитниках Горбатюка не нуждаются. – Он пресекся на полуслове и предупредил: – Только чтоб разговор этот остался между нами. Я дал подписку, должен понимать… – и, сославшись на занятость, поспешно вышел.
Королев сидел в одиночестве, думал о начальнике шахты. Что-то в нем было загадочное, неясное: или страшится за свою шкуру, или согласился с чьим-то доносом и теперь ловчит.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯI
В шахту спустили еще несколько лошадей. В конюхи напросился Лукьян Грыза. Он ходил по пятам за Шугаем, умолял:
– Пойми меня, бога ради, Николай Архипович: в забойщики я негож, задышка у меня, сам знаешь, а без шахты моготы моей нету. Ко всему – никого у меня, один, как обкошенный куст. Не дай загинуть от тоски смертной.
Шугай вначале решил назначить конюхом девушку. В эти дни из сел целыми партиями прибывали в трест девчата, пожелавшие работать на шахтах. Человек пятнадцать приехало и на «Коммунар». Шугай знал: у женщины всегда больше заботливости и ласки к животным, чем у мужика, но ему стало жалко одинокого старого человека, и он не устоял, уважил Грызе.
С того дня Лукьян Агафонович почти невылазно находился в шахте. Поднимался на-гора только за тем, чтобы получить продовольственный паек, похлебать горячего. Теперь он виделся с сыном почти каждый день. Последнее время Ерошка редко выходил из своего заточения, ел плохо, отощал и сильно ослабел. Лукьян Агафонович мучительно думал над тем, как вызволить его из подземелья, спасти от неминучей гибели, но пока что никакого выхода не видел.
Лебедь терпеть не могла Лукьяна Грызу. Знала, что во время оккупации он дружил с Бурлаком, бывал у него дома. Они часто допоздна просиживали за выпивкой.
Клава делала вид, будто не замечает конюха или просто не узнает его. Но однажды, когда они остались в конюшне одни, Грыза первый заговорил:
– Вроде б и правда не узнаете, Клавдия?
– Узнаю, чего там, – отозвалась она. – Вас, Лукьян Агафонович, невозможно не признать, слишком приметная личность.
– Это чем же… приметная? – осторожно полюбопытствовал конюх.
– Как же, при немцах, можно сказать, первым человеком в поселке были – пресвитер! Не шутейное дело, – не без ехидцы сказала Клава.
Грыза решил платить ей тем же:
– Да и ты была иной, сестрица. Выходит, не веровала, обманывала Иисуса Христа?
– А чего б и не так! – насмешливо ответила она. – Людей можно обманывать, а бога нельзя? Важность какая!
– К чему эти слова? – обиделся Грыза.
– А к тому, что ты был первый обманщик, – пошла в наступление Клава, – да еще твой приятель Бурлак.
– Черт ему приятель! – отмахнулся Лукьян Агафонович.
– Теперь-то он тебе не нужен. А припомни, как ночами просиживали да паутину сообща против людей вплели.
– Какую паутину, бог с тобой, сестрица! – Грыза уже не рад был, что затронул эту сумасбродную девицу. А поди знай: была ведь смиренная да набожная.
– Еще спрашиваешь какую, дьявол пегий, – обожгла его взглядом Клава, – кто с верующих отмольные греб? Ваша компания. А кто на просвирах да на подаяниях благоденствие свое строил, гульбища устраивал?.. Или, может быть, пресвитера Лукьяна Грызы на них никогда не бывало?
– Да замолкни ты… нечистая сила, чего орешь-то!
– Ага, правды боишься! – сверлила его глазами Лебедь, – погоди, пресвитер, придет время, все выплывет. И Бурлаку не миновать расплаты.
– Да ведь он твой муж, опомнись, – до шепота понизил он голос.
Клава метнула на него дикий взгляд и сейчас же громко рассмеялась.
– Клавка, хватит тебе ржать, выводи Берту, – послышался из штрека недовольный девичий голос, – порожняк гнать пора.
Клава внезапно оборвала смех, напряженно сдвинула брови.
– Так говоришь – муж?.. Бурлак – мой муж? – и опять рассмеялась и, не отсмеявшись, повела Берту из конюшни.
Всю смену она гоняла партию за партией без передыху. Отчаянный свист и звонкий лай Жучки не умолкали ни на минуту. Когда Нюрка Гуртовая насмешливо спросила, какая ее сегодня муха укусила, Клава прикрикнула на насыпщицу. Та отшатнулась от нее, как от огня.
Клава знала, что только из-за Нюрки, из-за ее наглых ухаживаний за Макаром Козыревым прицепщица Ломова ушла из шахты.
До конца дня Клава так и не успокоилась. Как ветер, с гиком и свистом гоняла поезда, перессорилась с клетьевыми, которые, как ей казалось, сегодня особенно неповоротливы.
После смены начальник шахты вызвал к себе Лебедь. Следом за ней в кабинет вбежала Жучка.
– А собаку зачем сюда тащишь? – негодующе покосился на нее Шугай.
– С жалобой она к вам, товарищ начальник, – играя глазами, смело сказала Клава. – Службу собачка несет исправно, а пайка ей не дают. Последний кусок от своего рта отрываю.
– Брось ты эти свои выбрыки, Лебедь, – сурово оборвал ее Шугай, – вся шахта на тебя жалуется…
Придя в общежитие, Клава наскоро умылась теплой водой и завалилась в постель. Только сейчас она почувствовала, как она устала. Это была не физическая усталость, к своей нелегкой работе она привыкла, – у нее было такое состояние, будто она вдруг лишилась способности ясно мыслить, чувствовать, ощущать. Ей казалось, ударь ее сейчас кто-нибудь – не почувствует боли.
Почти всю ночь пробыла она где-то между тягостным сном и явью. Явью было все то, что слышала: пришли с работы девчата, о чем-то говорили, негромко смеялись, потом погасили свет и притихли. Полусном – все, что весь день неотступно преследовало ее: Галактион Бурлак, долгая жизнь в его доме, злое судачество людей. Как она могла жить бок о бок с таким страшным, ненавистным ей человеком? А ведь были моменты, когда она готова была решительно на все… Вот хотя бы этот случай. Нет, нет, не надо, не надо!
Она сквозь полусон вспомнила, как однажды Галактион явился домой после гульбища у священника и стал стучаться к ней в комнату, умолял, обещал золото. Вначале она думала, что Галактион болтает спьяна: откуда у старикашки золото, сам оборвышем ходит. Но с той поры мысль о золоте не переставала сверлить ее мозг. Как-то, когда Бурлак был трезв, Клава решила припугнуть его, серьезно сказала, что, если он не прекратит свои грубые домогательства, она заявит в комендатуру, и тогда золотишко его – плакало. С той поры Галактион присмирел и уже не ломился по ночам в ее комнату. И Клава поверила, что Бурлак не соврал: золото у него определенно есть. Куда он его спрятал и сколько его, она не знала. Но ее любопытство с каждым днем обострялось. Теперь она следила за каждым его шагом. Придет же когда-нибудь такая минута, когда Галактион не утерпит и ему захочется хоть одним глазом взглянуть на свое сокровище. Клава никогда не имела у себя золотых вещей, но знала, магнитная сила этого металла дьявольски неодолима, и такие, как Бурлак, скорее поплатятся собственной жизнью, чем выпустят его из своих захватистых жадных рук.
Она по-прежнему ходила в молитвенный дом, а по ночам безутешно плакала, проклиная свою судьбу. Клава искала и не находила для себя другого выхода, как только отсиживаться под надежной защитой Бурлака и ждать, ждать… А сколько еще придется ждать и чего ждать – она не давала себе ясного отчета.
Галактион начал подумывать, куда бы ему уйти с насиженного места. Это случилось, когда стало известно о разгроме немцев под Сталинградом. В те дни через поселок вереницами и в одиночку тянулись итальянские и румынские солдаты и офицеры, закутанные в одеяла и теплые платки, с трудом волоча за собой сани с амуницией. Некоторые забредали в дом Галактиона. Не раздеваясь, стоя, отогревались у печки, потирая руки и пританцовывая, в отчаянии бормоча:
– Гитлер капут… Русский зима некорош.
И снова спешили к своим поклажам.
Галактион как-то сказал Клаве:
– Надо бы нам с тобой подумать о дороге. Санки у меня добрые, много кое-чего можно уложить.
Клава промолчала, мстительно подумала: «Попробуй только куда-нибудь смыться»… Бурлак, видимо, принял ее молчание как знак нерешимости и припугнул на всякий случай:
– В лапы к красным нам ни в коем разе нельзя попадаться. Небось, сама слыхала: всех, кто остался у немцев, – в расход, а нет – в Сибирь на вечную каторгу.
Клава пошла в свою комнату, так ничего и не ответив ему. Но с того дня Галактион стал основательно готовиться к отъезду. Делал он это по ночам, за закрытой дверью. Подолгу рылся в сундуке, обитом узкими полосами блестящей жести, точно обручами, кряхтел, чмокал губами, шлепал по полу босыми ногами и вдруг надолго затихал. Клава уже думала, что он наконец улегся, уснул, но вскоре шлепающие шаги и возня снова доносились до ее слуха. Опасаясь, что Галактион может незаметно улизнуть, она несколько ночей почти не спала. Решила, что бы там ни было, задержать его.
Когда в сентябре 1943 года наша артиллерия начала обстреливать из дальнобойных орудий окрестности поселка, Галактион, вконец растерянный, угорело заметался, нагружая без разбора тележку всяким барахлишком. Он уже собрался было выехать со двора, но Клава преградила ему дорогу:
– Ворочайтесь, наши в поселке, – приказала она.
Галактион обессиленно выронил из рук оглобельки, в смятении глядя на нее.
Вырвавшись из дома Бурлака, Клава почувствовала себя раскованно, свободно и легко, будто наконец выбралась из глубокого затхлого подполья. Она как бы вся распахнулась и, словно мстя за свое долготерпение и отверженность, зажила смело, дерзко и просторно…
Уже под утро Варя тихо, чтобы никто не слышал, юркнула к ней под одеяло, прижала к себе, тихо спросила:
– С кем это ты всю ночь воюешь, Клавка?
– А разве что?.. – не поняв ее, удивилась Лебедь.
– И во сне с кем-то ругаешься, вот что.
– Ой! – точно от острой боли ойкнула Клава. – А что я говорила?
– Пойми тебя: стонешь, ругаешься, а кого ругаешь – сам аллах не разберет.
Клава всхлипнула, уткнулась мокрым лицом в плечо подруги и вся затряслась. Ее слезы испугали Варю. Она ни разу не видела, чтобы отчаянная, дерзкая, никогда неунывающая Клавка-коногон плакала.
II
Проходя мимо поселкового сквера, Клава услышала, как ее кто-то окликнул. Она обернулась. Навстречу ей, минуя торные дорожки, напрямик по густой траве легко и бойко шагал Костров. На нем были разутюженные широкие матросские брюки, белая рубашка с распахнутым воротом, из которого высматривала полосатая тельняшка. Когда он выходил из тени на солнце, приглаженные волосы его бронзово блестели. «Чего ему надо?» – сердито подумала Клава, но все же остановилась. Она всегда недоверчиво, подозрительно относилась к этому парню. Наблюдая, как он заносчивым петушком расхаживает по нарядной, Клава до боли в пальцах сжимала кнутовище. Но он никогда не затрагивал ее и, казалось, совсем не замечал.
Костров подошел к ней, приветливо улыбнулся.
– Здравствуйте, Клава, – сказал он.
– Смотри, какой вежливый, – усмешливо протянула она. – Ну, здорово. Что скажешь?
В какую-то секунду она как бы впервые разглядела его синие глаза, скуластое лицо с рассеянными на нем мелкими веснушками.
– Да вот, решил предложить, – говорил Костров, усиленно моргая и не смея взглянуть на нее, – может, пройдемся, вечер – красота, – и, осмелев, потянулся к ее локтю.
Клава отступила на шаг, сказала холодно:
– Я находилась в шахте, с меня хватит, – и зашагала по тротуарчику.
Костров не отставал, шел следом.
– Ну какая вы, ей-богу, Клава… – пытался говорить он и не договаривал.
– Какая? – спросила она на ходу, не оборачиваясь.
– Какая, какая, – обидчиво бормотал он, – я к вам по-хорошему, а ты козыришь. – Не зная, как подладиться, он называл ее то на «вы», то на «ты». – Вечер-то какой замечательный, пройдемтесь на пару…
Клава на какое-то мгновение вдруг почувствовала жалость к себе. Она никогда не задумывалась над тем, чтобы приятно, в свое удовольствие провести свободное время. Всегда в шахте или в общежитии. Разве только сходит в кино. И такое случается редко.
– Я уже была в паре… с Бертой, – сказала она.
Ей показалось, что Костров уловил в ее голосе жалобную нотку, на ходу круто обернулась.
– Ты наконец отвяжешься… ухажер липовый!
Костров продолжал улыбаться, не спуская с нее пристального взгляда.
– Красивая ты, ей-богу… – сказал он мечтательно тихо, словно самому себе.
– Красивая, да не твоя, – сказала Клава.
– А чья же? – не веря ей, переспросил Костров.
– Мужнина, чья же еще.
– Не ври, ты не замужняя, я знаю, – и рассмеялся, радуясь, что уличил ее во лжи.
К ней неожиданно пришла дерзкая мысль, и Клава схватилась за нее.
– Тоже мне знахарь сыскался, – насмешливо сказала она и уже серьезно спросила: – Галактиона Бурлака знаешь?
– Это который ногу волочит, старикашка?..
– Он самый, – будто обрадовалась его догадливости Клава. – Этот Бурлак и есть мой законный муженек.
Костров недоверчиво посмотрел на нее.
– Чудишь!..
– Охота мне чудить. Всему поселку известно, только тебе, дурню, невдомек. Ухажер-стажер! – и, смеясь, побежала от него.
III
Клава по-прежнему оставалась отчужденно безразличной, иногда даже дерзкой с Костровым. В ответ на ее язвинки Костя только улыбался своей беспомощной улыбкой. Но вскоре Клава поняла, что бессильна что-нибудь сделать, чтобы он наконец отстал, и в ответ на его улыбки сама улыбалась и безобидно говорила: «Ну, чего ты пялишься на меня, Костик? Любишь, так скажи». Но Костров в любви не признавался. Постепенно Клава стала привыкать к тому, что парень, где бы они ни встретились – в нарядной или в шахте, – подходил к ней и о чем-нибудь заговаривал. Видя это, подруги Клавы только лукаво играли в переглядки.
На этот раз встреча была необычной. Придя на смену, бригада Кострова забилась в дальний угол нарядной – о чем-то совещались, отчаянно дымя цигарками. Вскоре появилась бригада Варвары Быловой. Женщины только что поднялись из шахты. Держась друг за дружку, уставшие, они вплотную приблизились к забойщикам. Минуту спустя в нарядной завязалась разноголосая перебранка. Былова что-то разгневанно доказывала Кострову, размахивая руками. Оказалось, что бригада забойщиков в минувшую смену искривила линию забоев и горнячкам пришлось приложить немало усилий, чтобы ее выровнять. Особенно допекала Кострова Зинка Постылова:
– Ты приехал за длинным рублем, – кричала она, взмахивая руками, – набьешь карманы и был таков, а нам для мужиков наших шахту надо восстановить, какой была…
Костров стоял недвижимый, невозмутимо дымя цигаркой:
– А у тебя мужик-то когда-нибудь был? – насмешливо спрашивал он у Зинки.
– Не чета тебе, рвачу-заробитчанину…
Былова вся дрожала от злости:
– Хватит кривляться! Договор мы рвем с вашей бригадой. На кой черт вы нам сдались, чтоб за вас работать. А за то, что изуродовали лаву, расплатишься, бригадир, из своего кармана.
Пока продолжалась перебранка, Зинка Постылова, распаленная, подбежала к Лебедь, рванулась к кнуту. Но та отвела его за спину.
– За это будешь отвечать, Зинка, – и уже неуступчиво: – Отвяжись, не дам!
– Я, значит, должна ответить, а он не должен? – обиженно кричала она.
Теперь уже все, кто был в нарядной, столпились вокруг них.
Узнав о случившемся, Шугай вызвал к себе обоих бригадиров. В кабинет попыталась было ворваться Зинка Постылова, но Шугай заперся на замок. Она еще долго шумела, дергала за ручку, била кулаками в дверь. Шугай, нахмурившись, молча ходил по комнате. Костров и Былова, рассевшись по разным углам, не глядели друг на друга, ждали, когда заговорит начальник шахты. А тот, как нарочно, не торопился. Походил, заглянул в ящик стола – в один, другой, и только тогда недовольно сказал:
– Ну, что вы там не поделили, выкладывайте.
– Делить мне с этим злостным типом нечего, Николай Архипович, – первой начала Былова, скосив на Кострова горящий исподлобья взгляд, – пускай ответит за безобразие, которое они натворили в забоях… Своим личным карманом ответит.
Костров молчал, чему-то улыбаясь, поглаживая трехпалую ладонь, будто она у него нестерпимо ныла от боли.
– Ну чего набычился, Костров? – строго посмотрел на него Шугай. – Виноват – скажи, и конец конфликту.
Но Былова не дала ему ответить.
– Скоро же вы помирить нас хотите, Николай Архипович, – с едкой усмешкой сказала она, – никакого мира не будет! Категорически рвем договор с ними!
– Ты этот свой ультиматум оставь, Варюха, – предупреждающим тоном сказал Шугай. – Совсем ни к чему такая крайность. Две, можно сказать, на весь трест передовые бригады, гордость нашего коллектива, и вдруг такой скандал. Нет, нет, это никуда не годится, – осуждающе качнул он головой.
– По-вашему, Николай Архипович, выходит так, – не унималась Былова, – когда у нас в лаве случился обвал, в наказание голодный паек нам приписали, а мужиков, выходит, сухими из воды решили выпустить.
Шугай нахмурился, сказал с обидой:
– Ну при чем тут твой паек? Я-то ведь распоряжение Соловьева отменил.
– Кишка у наших синьорит тонка, начальник, чтоб тягаться с нами, вот и штурмят, – язвительно вставил Костров.








