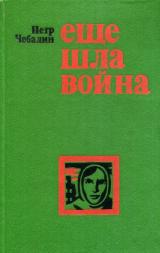
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Выпрямился и с независимым видом стал смотреть в окно.
– Ну ты все же скажи, Костров, – добродушно понукал его Шугай, – вину свою признаешь? Забой-то ведь фактически искривили? Искривили. Нарушил горную…
– Я не проверял кривизну забоя, начальник, – перебил его Костров, – в лаве темнота, не проверишь. К тому же я не инженер, в горном деле – юнга. Мое дело – уголька для фронта побольше нарубать. И мы его без всякого форса даем. Надеюсь, начальник не в обиде на нашу бригаду. – И вдруг засуетился, взглянул на часы. – Ну, мне пора на смену. До свидания, начальник. Адью, синьора, – и, сделав прощальный жест, направился к выходу.
– Ну, иди, иди, я разберусь, – сказал вслед ему Шугай. Когда тот закрыл за собой дверь, улыбнулся и не то осуждающе, не то одобрительно проговорил:
– Комедиант…
– Вам смешно, Николай Архипович, – сказала с недовольством Былова, – а этот комедиант женщин наших оскорбляет. Зинку Постылову, например. А вы-то сами знаете, какая она…
– Знаю, как же, – поторопился подтвердить ее слова Шугай, – ничего, этот морячок у меня еще попрыгает, – пригрозил он. – Ну, иди, иди, отдыхай, Варюха, – миролюбиво добавил он и пообещал: – Я его приструню, будь спокойна.
IV
Теперь уже Клава не избегала Кострова. Пусть там что хотят говорят о нем, ей – наплевать! Хоть Костя и заносчивый, со своими странностями, но парень он интересный, а главное, до смешного привязан к ней, и с ним совсем не скучно.
Как-то Клава сказала ему:
– Рассказал бы что-нибудь, матросик, чего играешь в молчанку.
Он поднял на нее свои голубые, опушенные густыми бронзовыми ресницами глаза, спросил:
– О чем говорить: о шахте или о море?
– О шахте не интересно, а моря я ни разу в своей жизни не видела, оно для меня чужое.
Костров удивленно посмотрел на нее.
– Чужое, говоришь?.. Нет, море всегда родное, Клава, – мотнул он головой и о чем-то задумался.
На шахте все ее называли грубовато просто – Клавка. И она уже привыкла к этому, но когда ее так же, как и все, называл Костя, ей почему-то становилось обидно. Однажды, не стерпев, она сказала ему:
– Ты бы еще для разнообразия коногоншей меня называл, так оно ласковее.
Костя виновато улыбнулся, бережно взял ее за локоть.
– Прости, Клавочка, я так, как все…
Клавочка! Когда было, чтоб ее называли так нежно. Кажется, только в детстве. И почему от этого становится будто светлее и легко, легко… До войны ей не раз приходилось встречать в городе матросов, приезжавших на побывку. Девушки заглядывались на них и уважительно называли матросиками. Это были вежливые парни. Ни одна девушка не отказывала им в танце. И разговаривали они, как все, понятно, по-людски. А у Кострова что ни слово, то загадка, все они у него какие-то мудреные, грубые.
А вообще-то, что она знала об этом парне? Как попал он на «Коммунар», откуда и почему у него рука искалеченная? Воевал или от роду она у него такая?
Однажды, когда он провожал ее в общежитие, Клава неожиданно свернула в поселковый сквер и пошла по аллее впереди, не оборачиваясь, будто вдруг забыла о своем спутнике. Костров, не отставая, шагал вслед за ней. Она села на скамью в тени кустарника. Костя остановился в двух шагах от нее. Клава снизу вверх строго посмотрела на него.
– Чего стоишь, или приглашения ждешь?
Он молча сел рядом.
– Скажи, Костик, с какого ты моря? – вдруг спросила она, не глядя на него.
– С Черного, – не без гордости ответил он.
– А разве черноморцы так разговаривают, как ты?
– Как? – не понял ее Костров.
– А вот так: «биндюжник», «шаланда», что это такое? Ругательство?
Костров рассмеялся.
– Да ведь я одесский матрос, рыбак, Клавочка, а в Одессе все рыбаки так говорят. И вдруг запел:
Шаланды полные кефали
В Одессу Костя привозил,
И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил…
Пел он вполголоса, с задумчивой просветленной улыбкой. Большие голубые глаза его неотрывно смотрели мимо Клавы и, казалось, видели что-то очень близкое и родное ему. Клава не перебивала его. Песня ей понравилась: забавная, со смешинкой и такая, что самой охота запеть. И голос у Кости приятный, задушевный. Смотри, какой оказался парень! А может быть, подкатывается, играет? Тогда какой же из них настоящий Костя Костров: этот или тот, которого она привыкла видеть каждый день – задаваку, порой грубого, дерзкого.
Кончив петь, Костров спросил:
– Нравится, Клавочка?
– Красиво поешь, – чистосердечно призналась она и тут же подумала, что, подогретый ее похвалой, он сейчас же подвинется к ней, коснется ее руками, и вся внутренне напряглась. Но Костя сидел, не двигаясь.
– Вся моя братва – рыбачки обожали эту песенку, – сказал он.
Клава повернулась к нему лицом, проговорила с усмешкой:
– Знаю, сейчас скажешь – про тебя песню сочинили.
– А может, и про меня, – нисколько не смутившись, ответил он. – Я ведь тоже на шаланде по морю мотался, промышлял кефаль.
– Про таких, как ты, песни не сочиняют, – недоверчиво сказала Клава и отвернулась.
– Может, и не про меня, про другого, – согласился он, – у нас в Одессе с моим именем морячков много.
– И все – такие, как ты? – скосила на него глаза Клава.
– Есть похуже, есть и получше, – все так же невозмутимо ответил Костров.
– Я про то говорю, что ты всегда нос дерешь, женщин оскорбляешь, на хулигана похож, – в один дух выпалила она и сейчас же почувствовала, что между ними вспыхнет ссора и она не выдержит, убежит. Но Костя держался спокойно, только брови сдвинул.
– А ты не такая? – серьезно спросил он. – Все вы, горнячки, не такие?
Клаву будто кто-то силой повернул к нему.
– А какие мы, ну скажи? – запальчиво сказала она.
– Что, обидно? – миролюбиво улыбнулся он, на всякий случай придерживая ее за руку.
– Конечно, обидно, потому что брехню на нас возводишь.
Клава словно только сейчас увидела трехпалую руку Кострова на своей, жалостливо спросила:
– Где это тебя так изуродовали?
– В одесских катакомбах. Слыхала про такие?
– Читала. Ты что, в партизанах был?
– Довелось. А потом госпиталь. Выздоровел – и к вам на поправку, – добродушно улыбнулся он.
– Разве с такой рукой на фронт не берут?
– Если б только одна рука, – Костя поднялся, заголил рубашку по самый подбородок, и Клава увидела на боку огромный темно-багровый шрам.
– Осколочное? – едва вымолвила она.
– Три ребра – как не бывало, – и тут же предупредил: – Не подумай, что красуюсь, жалость хочу к себе вызвать…
– Дурак! – сердито оборвала его Клава и одернула на нем рубашку, – я про то, что в шахте тебе, наверно, нельзя работать.
– А тебе можно? А Варюхе, а Зинке Постыловой?..
– Мы все здоровые, – сказала Клава.
– Здоровые, а все равно вам труднее, чем мне.
Клава промолчала. Теперь уже она положила свою руку на его калеченную, покойно лежащую у него на колене. Так вот ты, оказывается, какой, Константин Костров…
ГЛАВА ПЯТАЯПоследнее время Грыза почувствовал, как на него неотвратимо надвигается новая гроза. Все шло к тому, что как он ни крути, а ему не работать в шахте. Само время неумолимо отсчитывало его последние дни. В подземном гараже, до этого заброшенном и всеми, казалось, давно забытом, в спешном порядке женщины наводили лоск: убирали хлам, белили стены, стаскивали туда всякий инструмент. И не было у них другого разговора, кроме как об электровозах: какой они марки да сколько у них лошадиных сил и до чего они резвые на бег. Девушки-коногоны обучались на курсах машинистов электровозов и до того пропитались соляркой и всякими смазочными маслами, что от них шарахались лошади. А Клавка Лебедь совсем свихнулась на этих электровозах. Обхаживает свою кобылицу и все рассказывает ей о клятых машинах и разные соблазнительные картины рисует, вроде того что скоро, мол, Берточка, на волю вернешься, на свежую травку, жеребеночек у тебя красивенький народится и всякое такое. А Берта таращит на нее очи, хлопает веками, будто все дочиста понимает, о чем ей говорят. Одним словом, у всех радость и только у одного Грызы на душе тоска и смятение. Что-то будет с сыном Ерошкой, когда он, Лукьян Агафонович, лишится должности конюха? Не станет же он каждый день опускаться в шахту, чтобы повидаться с ним. Обязательно спросят: чего, старый, унадился в шахту? На первых порах можно и соврать, найти причину, мол, привычка, невмоготу старому горняку без шахты. Но долго так продолжаться не может. Как ни крути, а шило в мешке нельзя утаить.
Лукьян Агафонович за эти дни похудел, сгорбился, будто на него сразу свалился добрый десяток лет. Все его попытки вымануть сына на свет божий ни к чему не приводили. А ведь такая возможность представлялась. Можно прямо сказать, не обезвредь Ерофей мины, которые немцы перед своим уходом из поселка заложили в шахте, не существовать «Коммунару». Лежала б шахта в развалинах. За такое геройство Ерофею не то что простили бы его побег из Красной Армии, а смотри, и к награде представили. Лукьян Агафонович не раз говорил об этом сыну, но тот и слушать его не хотел, твердил свое, непонятное: «Люди меня не простят, батя, а бог милосерден…» Грыза уже хотел махнуть на Ерошкину трусость и объявить народу об его геройстве. Может быть, и осуществил бы свое намерение, но тут стряслось такое, чего он не ожидал увидеть даже во сне. Его в срочном порядке потребовали в ГорМВД. Лукьян Агафонович долго раздумывал, по какому случаю могли вызвать? Возможно, изловили шельму Никодима и хотят, чтоб он, Грыза, засвидетельствовал его грязные проделки. Такое показание он даже с удовольствием даст. Улик у него, у Грызы, против попа предостаточно. Ну а что, если им стало известно что-нибудь о Ерофее?
Мучаясь в догадках, Лукьян Агафонович долго не мог решить, как же ему быть: ехать в город или не ехать? Но знал: не явиться было нельзя. И он поехал.
Строгого вида лейтенант долго расспрашивал Грызу о Ерофее. Лукьян Агафонович рассказал все как было: как в ненастную осеннюю ночь нежданно-негаданно появился сын, как спасал его от чахотки и как потом в тайне от всех похоронил. Потом опять слушал, что говорил военный. По его словам выходило, что он верит в кончину Ерофея, но хочет, чтобы отец знал, что его сын не только дезертир, а еще и фактический убийца, что, будучи в плену, выдавал немецкой охране политруков и командиров. В подтверждение своих слов лейтенант подсовывал Грызе какие-то бумажки. Лукьян Агафонович брал их и, не читая, возвращал обратно: без очков ничего не мог разобрать. Но от своего не отступал, твердил одно, что Ерофей был верующий и не мог обагрить руки кровью ближнего своего. Сын мог не взять оружие, так как братоубийство противоречит святому писанию, но чтобы предавать своих же братьев, подводить их под расстрел, такого не могло случиться.
А лейтенант все сыпал и сыпал вопросами. И все они у него были такие неожиданные для Лукьяна Агафоновича, что он даже вспотел и то и дело вытирал лицо ладонью.
– Вы доктора Берестова знали? – спросил он вдруг.
– Это Миколу Николаевича? – переспросил Грыза, – а кто его не знал, всей округе известен. Большой, душевный лекарь был.
– Куда его дели немцы, не скажете?
Лукьян Агафонович натянуто улыбнулся, подозрительно покосился на лейтенанта.
– Что ж, по-вашему, они бы стали спрашивать у меня, куда его девать? Прикончили, не иначе, – и, подумав, добавил: – А может, с собой увезли. Такие доктора – редкость.
Лейтенант снова к нему с вопросом:
– А за что могли прикончить?
Грыза в затруднении сдвинул плечами.
– Опять же не могу сказать в точности. А в народе говорят по-разному. Молва людская, что волна морская, друг дружку обогнать норовит. – Он помолчал, сокрушенно крутнул головой и продолжал: – Вон про моего Ерофея такое наплели, что на моей грешной голове волос дыбки встал. Запустили слух, будто кто-то видел Ерошку в нашем городе. Это когда еще немцы тут были. И вроде б не в военном, а в гражданском, хорошо одетого. А ведь он в тот самый момент воевал. Как же он мог быть в гражданском, сами посудите, – словно ища сочувствия, доверчиво взглянул он на лейтенанта. Тот промолчал. – Да если б даже и совершилось такое чудо, что Ерофей вдруг очутился в городе, разве б он не дал знать о себе родному отцу! – Грыза глубоко, горестно вздохнул. – Наш народ медом не корми, только бы пофискалить.
И умолк.
Но лейтенант не дал ему долго молчать, подбрасывая все новые и новые вопросы, один другого каверзнее.
Ушел Лукьян Агафонович от лейтенанта в величайшем недоумении и беспокойстве. Всю ночь провел без сна и все ходил по землянке, думал и передумывал: сказать сыну обо всем, что стряслось, или промолчать? Так и не решив, ушел на смену. Лукьян Агафонович дежурил на конюшне в ночные часы.
Грыза ходил на шахту всегда по одной и той же стежке, протоптанной между высоких бурьянов по обочине балки. Отсюда хорошо видна могилка.
А сегодня ему вдруг почудилось, что он изменил своему правилу и шел другой дорогой. Остановился, огляделся вокруг. Вроде все так, как было, и только одной березки не увидел на своем месте. Поспешно спустился в балку и оцепенел от обуявшего его ужаса. На месте всегда убранной, поросшей цветами могилки зияла черная яма и вокруг разбросана комковатая сырая земля.
Лукьян Агафонович с трудом удержался, чтобы не свалиться с ног. А когда пришел в себя, стал гадать: кто бы мог учинить такое неподобство? Может, мальчишки поозорничали? А возможно, кто-то решил, что могилка немецкая? Несколько таких могил с крестами и стальными касками на них посельчане начисто сравняли с землей. Но в поселке давно всем было известно, что это могилка Ерошкина, а не немецкая. А что, если кто дознался, что в ней ничего нет, что она пустая? Такого Лукьян Агафонович не допускал. Он мог поклясться чем угодно, что в ту памятную ночь, когда он рыл яму, никто его не видел.
И тут ему вдруг вспомнился давнишний разговор с Бурлаком. Однажды, когда они сидели вдвоем за домашней трапезой, Галактион спросил:
– Что же это ты, Лукьян, чадо свое похоронил не по-христиански – в овраге. Будто кладбища у нас нет?
– Могли увидеть, боязно было, – ответил ему тогда Лукьян Агафонович, – время-то, сам знаешь, какое было…
– Испугался, выходит?.. – задумчиво проговорил Бурлак и, как показалось Грызе, чему-то многозначительно улыбнулся.
Тогда Грыза не придал серьезного значения любопытству Галактиона, а теперь встревожился: «Наверно, знал что-то да помалкивал, а теперь решил выслужиться и открыл тайну».
Не медля ни часу, он явился к сыну и обо всем ему рассказал. Слушая, Ерофей все время молчал, только все больше и больше мрачнел. А когда отец кончил говорить, сказал угрюмо:
– Дело такое, батя, что мне надо немедля уходить. – Глаза его обострились. В них Лукьян Агафонович уловил огоньки решимости и отчаяния.
– Куда пойдешь, сынку? – встревожился он и не услышал собственного голоса.
Ерофей долго не отвечал. Затем вдруг спросил:
– На дворе сейчас день или ночь?
– Давно стемнело.
Ерошка опять перескочил на другое:
– Ты мне дай свою сорочку, а то у меня видишь какая – прах один. И штаны, если можно, – но тут же передумал: – хотя и мои штаны сойдут.
Лукьян Агафонович молча стянул с себя брезентовую куртку, поношенную солдатскую гимнастерку и подал сыну.
Еще совсем недавно старому Грызе самому хотелось, чтоб Ерофей избавился от своего тяжелого заточения, а теперь, когда сын решился на этот шаг, вдруг испугался за себя: ну уйдет Ерошка, куда задумал, а как же быть ему самому? Что скажет людям про пустую могилку, как станет оправдываться? Опять увертываться, ловчить? Но, как ни крути, правда сама выпирает наружу, и ее уже никакой хитростью не скроешь и не загладишь. Он на секунду представил себе свое положение, ему сделалось до жути страшно.
– Куда уходишь, сынку?.. – дрожащим голосом, бессвязно стал бормотать он, – а мне-то как быть?.. Что скажу про тебя людям?..
Ерофей, оглаживая на себе отцовскую одежонку, сказал отчужденно:
– А ничего.
– Да ведь с меня спросят, куда девал сына? Могилка-то порожняя. Завтра все откроется.
– Бог милосерден, батя, – все тем же чужим безучастным голосом отозвался Ерофей. И вдруг заторопился: – Ну, мне пора, батя, – уже решительно сказал он и, даже не попрощавшись, скрылся, будто растворился в черной, пропитанной затхлой плесенью темноте.
Лукьян Агафонович как будто окаменел на месте. Ему показалось, что перед ним только что был не его родной сын, а кто-то другой, совсем чужой человек. Вспомнил, как Ерофей упросил его устроить спектакль с могилкой. Тогда Лукьян Агафонович решил, что так и надо сделать. Пусть сын временно скрывается, придет час, и все забудется, простится. Но теперь понял, что Ерофею никакого прощения не будет. В голове промелькнула встреча с лейтенантом, и Лукьян Агафонович с ужасом подумал о Ерофее: такой и взаправду мог предать и даже убить… А разве он когда-нибудь этому учил сына? Наоборот, с мальства твердил ему из святого писания: «Не сотвори зла ближнему своему», «не убий». Лукьян Агафонович мог допустить, что сын отказался от оружия, чтоб не брать грех на душу, не совершать братоубийства. А что вышло? Ерошка принял чужое оружие и направил его против своих же братьев…
Губы его затряслись. Лукьян Агафонович схватился за голову, повалился лицом на землю и застонал…
ГЛАВА ШЕСТАЯI
Шугай задолго до утренней смены пришел на шахту. Ночь спал плохо, часто зажигал свет, смотрел на часы, прикладывал к уху – стучат ли? Было похоже, что время вдруг приостановило свой бег. Когда проснулся в третий или четвертый раз, было пять утра. Быстро оделся и тихо, чтобы не разбудить жену, вышел из дому. Придя к себе в кабинет, первым делом снял телефонную трубку, спросил у дежурной:
– Ты, Аграфена?.. Звонил кто-нибудь?
– Из трестовцев никто не звонил, Николай Архипович. Звонили с «Юнкома», но я сказала, что на шахте вас нет.
– А чего им надо, не спросила?
– Интересовались, врубовую пустили?
– А ты им что?
– Мое дело, говорю, телефон, а не врубовка.
– Ну и молодчина. Так всегда отвечай этим шпионам, – и повесил трубку.
Врубовая машина уже несколько дней работала в новой лаве, но дело там не ладилось – подпочвенная вода, неустойчивая кровля не давали развернуться, как бы хотелось. Но уголь все же шел. Шугай включал его в общий итог добычи и в результате получалось, что шахта ни много, ни мало каждые сутки давала двадцать-тридцать тонн дополнительного топлива.
Когда, случалось, звонил управляющий трестом, интересовался механизированной лавой, Шугай, по обыкновению, отвечал:
– Испытываем, Егор Трифонович, – и начинал плакаться: – Сами знаете, какая кровля в лаве – удержу нету. И ко всему воды в ней, как в плавательном бассейне. У горняков скоро плавники повырастают.
– Ладно, заговаривай зубы, – сурово перебивал его Чернобай. И спрашивал: – А уголь, добытый врубовой, куда деваешь?..
– Государству сдаю, куда же еще.
– Знаю, что не себе в карман кладешь. Небось сверхплановым числишь?
– Да сколько того угля, Егор Трифонович, – жаловался Шугай, – несчастная тонна-две и тот мокрый, как хлющ.
– Ну вот что, хватит очки втирать. Завтра получишь дополнительный план на механизированную лаву. Не выполнишь, головой будешь отвечать. Вот так!
Но прошло вот уже несколько дней после того разговора, а трест все еще никакого дополнительного плана не прислал. Возможно, управляющий просто забыл о своем обещании, а может, у него были какие-то свои соображения на этот счет. Как бы там ни было, а шахта «Коммунар» в эти дни выскочила по добыче на первое место в тресте. Это имело немаловажное значение еще и потому, что все происходило в дни подготовки к городскому стахановскому слету горняков.
Сегодня должен состояться этот слет. Вот почему Шугай почти всю ночь провел без сна. Он заранее подготовил свое выступление и, как ему показалось, все учел, все взвесил. Даже вписал в него несколько фраз о первых днях работы шахты, сравнил цифру добытого угля в шурфе с тем, что было в настоящий момент. Картина получилась весьма внушительной. Ни одна шахта треста не может похвастаться такими показателями. И все же на сердце у Николая Архиповича было неспокойно. Из головы не выходило последнее отчетно-выборное партийное собрание, на котором в его адрес было сказано много обидного. Обо всем этом могут вспомнить на слете. Больше всего он боялся Королевой. Эта неугомонная старуха непременно выступит. Пока Королева не получила приглашения на слет, Шугай чувствовал себя сравнительно спокойно. Но вчера на ее имя пришел конверт с приглашением непосредственно от горкома союза угольщиков. Ясно, что старая горнячка не откажется от такой чести, поедет и обязательно взбаламутит воду.
Шугай несколько раз просматривал свое выступление, звонил дежурному по шахте, на участок, интересовался, как обстоят дела с добычей. Обычно в ночную смену работали бригады по ремонту – шла заготовка крепежного леса, ремонт путей, профилактический осмотр механизмов. На этот раз Шугай сделал из ночной смены добычную. В день слета надо было во что бы то ни стало перевыполнить план.
До конца смены оставалось добрых полчаса, а суточный план уже был значительно перевыполнен. Николай Архипович сказал телефонистке, чтобы проследила за сводками других шахт и доложила ему. Подходило время, когда дежурные всех шахт передают в трест итоги работы за сутки. Эти сведения служили для Шугая своеобразным ориентиром. Если случалось, что какая-нибудь из них выскакивала вперед, он тут же принимал срочные меры, чтобы уже в следующие сутки опередить соперника.
Такую сводку без напоминания каждый день составляла телефонистка Пушкарева. Молодчина эта Пушкарева! Она не только справлялась со своей прямой обязанностью, но и успевала следить по телефону чуть ли не за каждым шагом управляющего трестом: куда бы он ни поехал, с кем бы ни разговаривал, кого журил, кого хвалил, – об всем и всегда вовремя узнавал от нее Шугай.
Королев пришел на шахту в тщательно выглаженном костюме с орденом Красной Звезды, в белой рубашке с отложным воротником поверх пиджака. Шугай взглянул на его орден и, скрывая в улыбке завистливое чувство, проговорил:
– А мне до сих пор партизанскую медаль не вручили. Напомнить им, что ли?
Королев пропустил мимо ушей его слова, осуждающе сказал:
– Глупость мы с тобой допустили, Николай Архипович. Надо бы делегатов не посылать в ночную смену. А теперь будут кунять на слете.
– Ничего, без них могла бы добыча сорваться, а день сегодня, сам знаешь какой…
Делегаты слета собрались на шахтном дворе задолго до отъезда. Варвару Былову пришла проводить вся бригада. Пышно взбитые темно-каштановые волосы выгодно оттеняли ее матово-смуглое лицо с веселыми, обведенными несмываемой угольной пылью глазами. На ней было легкое платье с белоснежным воротничком. Платье ей и Клаве Лебедь специально как делегатам слета пошили в городской мастерской. На высоких каблуках туфли – тоже делегатские. Туфли были немного тесноваты, и Варя, морщась, то и дело переступала с ноги на ногу.
– Бабоньки, ну как я вытерплю в этих сандальчиках, – жаловалась она и, скривив ступню, показывала высокий каблучок. – Два дня мне в них не выстоять. Взять постолы про запас, что ли?
Женщины рассмеялись. А Зинка Постылова серьезно сказала:
– Не дури, Варюха, после войны все будем в таких красивеньких щеголять, – еще раз обойдя вокруг своего бригадира, ревниво всю ее осматривая, вдруг словно чего-то испугалась, всплеснула руками: – Мать честная, а рукава какие длиннющие!.. Сибирский холод на дворе, что ли.
И все словно только сейчас увидели, что рукава у Вариного платья действительно были длинные, по самое запястье. Варя ничего не ответила Зинке и стала заголять рукав выше локтя. Рука была в ссадинах и царапинах с въевшейся в них угольной пылью.
– Что ж, прикажешь всем напоказ выставлять этакую красоту, – сказала она Зинке.
Константин Костров стоял немного в стороне от женщин в окружении своей «братвы». На нем была чисто выстиранная тельняшка и старательно, до легкого глянца, выглаженные брюки; всегда взъерошенные, непокорные, бронзового цвета волосы гладко причесаны. Забойщики что-то наперебой оживленно говорили своему бригадиру, время от времени взрываясь дружным смехом.
Прибежала Клава Лебедь. Варя собралась было отчитать ее за опоздание – грузовая машина давно уже стояла во дворе в ожидании делегатов, – но, невольно залюбовавшись ее счастливо улыбающимся румяным лицом, смолчала. Все на Клаве было красиво: и цветастое легкое платье, изящно облегавшее ее талию, и новые с кожаным бантиком туфельки, и воздушная газовая косыночка.
Костров и все парни притихли, со стороны разглядывая Клаву. Кто-то из них громко сказал:
– Кнут бы прихватила, Лебедь, а то никто не поверит, что ты коногонша, подумают – артистка.
Клава нахмурилась.
– Пусть дома побудет. Еще пригодится для тебя, чумазого.
Все дружно рассмеялись.
Проходя мимо Кострова, Клава заманчиво улыбнулась ему:
– А ты сегодня симпатичный, шаланда! – и побежала к грузовику.
Все уселись в кузове на досках, специально пристроенных по такому особому случаю. Арине Федоровне предоставили место в кабине рядом с шофером.
– Поехали! – крикнул Шугай.
И грузовик тронулся.
II
Слет проходил в Доме культуры. Перед самым уходом немцы заминировали его, но взорвать не успели. Просторный зал, ярко сияющий снежно-белыми стенами, точно огромная клумба, пестрел разноцветными косынками и кофточками. И лишь кое-где темнели военные гимнастерки и пиджаки. Арина Федоровна вспомнила, как бедно были одеты женщины, когда она приехала из Караганды – ни на ком не увидишь нового платья, свеженькой блузки – одно тряпье в заплатах. Правда, и сейчас все на женщинах дешевенькое, но опрятное, со вкусом пошитое, так что приятно было посмотреть. А лица? Еще недавно вытянутые худобой, бледные, теперь то и дело освещались улыбками, вспыхивали румянцем.
Открывая слет, Туманов говорил о том, что вся страна остается по-прежнему единым военным лагерем и Донбасс – часть этого боевого лагеря.
– Недалек тот день, – сказал он, – когда лопату, обушок, кирку полностью заменят механизмы. Центральный Комитет партии, правительство уделяют особое внимание Донбассу. Каждый день приходят эшелоны с шахтным оборудованием. – В конце остановился на недостатках и приказал:
– Смелее будьте в вашей критике, товарищи!
После Туманова выступил с докладом управляющий трестом Чернобай. Говорил он со знанием дела, веско, серьезно, иногда острил, пользовался пословицами. Видно было, старался понравиться людям. Иногда ему сдержанно аплодировали, чаще же сидели тихо, словно всем своим видом подчеркивая серьезность происходящего. Затем одна за другой стали выходить на трибуну женщины. За эти несколько часов пребывания на слете люди как бы обжились, ближе узнали друг друга. Выступали открыто, ничего не утаивая. В зале то и дело вспыхивали аплодисменты и дружный смех. Арина Федоровна, сидя в президиуме рядом с секретарем горкома, видела, как прищуренными глазами он смотрел в зал и лицо его было то серьезным и строгим, то вдруг освещалось веселой улыбкой. Значит, все шло хорошо. Когда женщина или девушка подходила к трибуне, Арина Федоровна безошибочно могла определить, кто она: забойщица, откатчица или коногон. У забойщиц от каждодневного пребывания в тесной лаве плечи покатее, чем у других, руки свинцово-тяжелые и устало висят, отдыхают; у откатчиц головы немного наклонены, походка тяжеловатая, неторопливая. А коногоны – народ живой, подвижный, и руки у них беспокойные, так и взлетают во время разговора.
Когда выступала Клавдия Лебедь, Арина Федоровна едва успевала уследить за порывистыми взмахами ее рук. Говорила она горячо, даже по-бабьи крикливо. Бросала в зал один вопрос за другим и тут же сама отвечала на них.
…– Почему до сих пор на «Коммунаре» нет даже плохонького электровоза? Может, скажете их нет и на трестовской базе? Уверена, что есть, да только отпускают их вроде бы по знакомству, тем, кто понравится…
Сошла Лебедь с трибуны, словно победительница с почетного места, под гром аплодисментов.
– Молодец, смелая девка, настоящая горнячка! – вслух сказала вслед ей Арина Федоровна, и зал еще раз наградил ее громкими хлопками.
Появление на трибуне Королевой вызвало оживленный гул: многие знали старую горнячку, ждали ее выступления. Она медленным внимательным взглядом окинула зал и заговорила:
– Вижу, здесь собрались почти одни женщины, мужиков, как грибов в засушливую осень. Да что поделаешь: мужикам – воевать, а нам – уголь добывать. Не навяжи фашист войну, разве б допустило наше рабоче-крестьянское правительство, чтоб женщина в шахте коногонила, в темных забоях грыжу, извините, наживала, девичью красу свою губила. Но раз зверь Гитлер к сердцу нашему с ножом подполз, на самое что ни на есть святое – на ленинскую революцию фашистскую лапу запустил, бить его, вероломного, не жалеючи сил, не щадя ни материнского сердца, ни красы девичьей…
Зал забурлил аплодисментами и громкими одобрительными возгласами. Когда постепенно стихло, старая горнячка продолжала:
– А теперь скажу по докладу нашего управляющего, – она как бы невзначай взглянула на Чернобая, сидевшего в президиуме, и опять к залу: – Хорошо говорил Егор Трифонович. Все правильно. Даже королевской короной увенчал наших горнячек. – В зале поднялся было приглушенный говорок. Арина Федоровна повысила голос: – Правильно сказал. Наши забойщицы – настоящие королевы своего дела. За их тяжкий труд не то что короной венчать, на руках носить, портреты с них рисовать да в красный уголок ставить, чтоб на века в памяти народной оставить.
В зале опять горячо захлопали.
– Только я и про другое вам хочу сказать. Про то, что у всех нас костью в горле застряло. – И она опять взглянула на управляющего. – Ты, Егор Трифонович, не редкий гость у нас на шахте, приедешь, нашумишь на наше начальство, иной раз в шахту спустишься, а скажи, хоть раз заглянул в общежитие?
Чернобай не ждал такого вопроса, улыбнулся.
– Если говорить откровенно… – начал было он.
– Так вот и я хочу сказать тебе откровенно, – подхватила Арина Федоровна. – Для тебя уголек – главная статья, а как наши солдатки да девки живут – ноль внимания.
Улыбка сразу же исчезла с лица Чернобая.
– Так вот, если ты, уважаемый Егор Трифонович, не был у наших баб в общежитии, я тебе для наглядности нарисую такие картины: первая, – начала она загибать пальцы, вытянув вперед руки, чтоб всем было видно, – сменного постельного бельишка ни у кого нет; постирают и, пока высохнет, спят на голых матрацах; вторая – рукомойник один на всех, длинный, как стойло, и стоит он зимой и летом на дворе. В общежитии ни одной вешалки. На гвоздях барахлишко цепляют…
Чернобай вдруг рассмеялся так, словно все, о чем говорила Королева, было не всерьез и его совсем не касалось.







