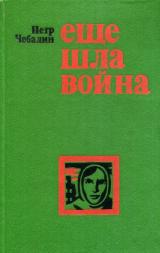
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
И такое, и многое другое приходилось слышать Туманову о тесте, и он уже не знал, кому верить.
Показалась очередная клеть. Люди задвигались и подступили ближе. Старик запричитал: «Милые, дорогие, не терзайте себя…»
Туманов незаметно отделился от толпы, направился к своему «виллису». Машина стояла неподалеку от церкви. Он взошел на паперть и заглянул внутрь храма. Басовитый монотонный голос заполнял всю церковь:
– Радуйся, радуйся…
Вернувшись в горком, Туманов вызвал к себе инструктора. В кабинет вошел коренастый, с вихрастым чубом, еще молодой человек. Гладко выбритое лицо его было подчеркнуто сосредоточенным и как будто сердитым. Казалось, он был недоволен, что его оторвали от какого-то серьезного дела.
– Присаживайся, товарищ Битюк, – сказал Туманов. – Чем занят?
Лицо инструктора сразу же преобразилось: с него слетела напускная строгость, губы покривились в недоуменной улыбке, брови вздрогнули и чуть приподнялись.
– Если говорить конкретно, Петр Степанович…
– Конкретно, только конкретно.
Битюк опять напустил на себя серьезный вид. Темные, словно из сплошных зрачков, глаза его сощурились в задумчивом напряжении.
– Подбираю хороших агитаторов, – начал он, оживившись. – Вы же знаете, сейчас их на шахтах не густо. Рассылаю боевые лозунги…
– А на «Каменке» был? – нетерпеливо перебил его Туманов.
Инструктор опять нахмурился, весь его вид говорил: «А что мне там делать?».
– Что, не знаешь такую шахту? – уже строго посмотрел на него Туманов.
Битюк, казалось, удивился неосведомленности секретаря.
– Я на всех шахтах побывал, Петр Степанович. А вот что мне делать на «Каменке», не могу понять, – в недоумении развел он руками.
– Как это – что делать?
– Да ведь «Каменка» целиком обрушена, затоплена. Там вряд ли когда-нибудь будут добывать уголь.
Туманов помолчал, пососал трубку, затем заговорил, словно размышляя с самим собой:
– Да, возможно, «Каменку» и не придется возрождать. Пусть останется, какая есть, в назидание потомкам. – И вдруг в упор, пытливо посмотрел на инструктора. – Но ведь там люди, товарищ.
– Какие люди? – удивился Битюк. Но сейчас же изменил тон, натянуто улыбнулся. – Что мне с ними делать… с трупами?
Туманов вышел из-за стола, почти вплотную приблизился к инструктору.
– Я о живых говорю, – начал он веско. – От шахтного ствола ни днем ни ночью не отходят женщины, старики, дети, ищут родных и близких. Все убиты горем. А ты говоришь, что там нам делать нечего! Поп оказался более чутким к несчастным, нежели мы с тобой. Он утешает их проповедями, призывает радоваться, забыть о горе, и к нему многие охотно идут. А мы даже не бываем среди этих людей. Я не думаю об утешении. В такой тяжкий час оно ни к чему. Но одно наше присутствие даст понять людям, что их горе – наше горе, горе всего народа, – Туманов на секунду умолк, лицо его побледнело. – Вот что, – сказал он, – сегодня же поезжай на «Каменку». И приказываю: находиться с людьми день и ночь, пока все там не будет закончено. День и ночь! – повторил он неуклонно.
Когда Битюк ушел, Туманов некоторое время сидел за столом, погасшая трубка ненужно торчала у него во рту. Как случилось, что Битюк попал к нему? Стал вспоминать: тогда он только вернулся в Красногвардейск, и в обкоме порекомендовали ему Битюка. Работников в аппарате горкома не хватало, и он был рад каждому человеку. «Странный какой-то… ну ничего, я к тебе еще присмотрюсь», – решил он.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯКоролев всегда испытывал в рабочем кабинете начальника шахты некоторую стесненность и неудобство. Здесь не было возможности с глазу на глаз поговорить с человеком, решить какой-либо серьезный вопрос. Вечный галдеж и сутолока царили в этой сумрачной прокуренной комнатушке.
Как-то Горбатюк, которого недавно избрали председателем шахтного комитета, сказал:
– Надо бы нам, парторг, отделиться от Шугая.
– Согласен, Андрей Константинович, а где взять помещение?
– Найдем. Могу сказать, такое помещение уже имеется.
Королев ходил смотреть будущий свой и предшахткома кабинеты – две небольшие, чудом уцелевшие комнаты в бывшем клубе. Собственно, ничего целого там не было. Комнаты по самые подоконники завалены битым кирпичом и сухой штукатуркой, двери вырваны вместе с наличниками. Все же при желании можно было что-нибудь сделать. И вот уже несколько дней там трудятся женщины: выносят битый кирпич, сам Горбатюк подгоняет к проему старую дверь. А пока что приходится пользоваться рабочим кабинетом начальника шахты.
Однажды, когда Королев сидел один в кабинете, вошла Клава Лебедь. Увидев его, остановилась в полушаге и уже попятилась было. Он задержал ее:
– Заходи, заходи, Лебедь, – сказал радушно. – Что у тебя?
Девушка прикрыла за собой дверь и некоторое время стояла потупившись. На ней была линялая, неопределенного цвета косынка, старенький трикотажный спортивный свитер, плотно облегавший высокую грудь, лицо припудрено.
– Если говорить правду, то я не к тебе, Сережа, – сказала она застенчиво и виновато. – Мне Николай Архипович нужен. Мой вопрос тебе не решить.
– Вон как?! – сказал Королев.
– Вот так! – отозвалась Клава.
– Да ты садись, чего стоишь.
Клава ловким незаметным движением подвернула юбку и села на скамью у окна.
– Вопрос мой, Сережа, чисто хозяйственный, – продолжала она со своим обычным простодушным лукавством, – а ты у нас воспитанием заведуешь.
Королев улыбнулся. И не столько ее словам, сколько ей самой. Эта дивчина почти ни в чем не изменилась, оставалась такой же, какой он знал ее до войны, – насмешницей и задирой. Вот разве одежда на ней не та, что прежде. Когда-то Клава была первой модницей в поселке. Многие девушки завидовали ей, старались подражать в нарядах.
Заправляя под косынку белокурые мягкие волосы, Клава говорила с припрятанной улыбкой:
– Ты, конечно, извини, Сережа, может, я тебя не так называю, теперь ты начальство, а я по-простому.
И опять лукавые огоньки зажглись в ее глазах.
Королев рассмеялся.
– Узнаю Лебедь, все такая же…
– А какой же мне еще быть? Какая уже есть… – и вдруг вскочила с места, сделала между стоявших вразброс табуреток вальсирующий пируэт. Ошарашенный такой неожиданной выходкой, Королев досадливо закусил губу, подумал: «Не мешало б еще кому-нибудь зайти», – и уже официальным тоном сказал:
– Ну, давай решать, какие там у тебя дела, Лебедь. А нет, жди Шугая.
Клава села на прежнее место, с виноватым видом рассматривая пальцы.
– Вижу, не по душе пришлась тебе моя выходка, – не поднимая глаз, разочарованно проговорила она. – А когда-то все мы любили потанцевать. И ты хорошо выплясывал, думаешь, забыла?
Королев не знал, что ей ответить, что сказать. Он начинал тяготиться Клавиным присутствием и уже упрекал себя за то, что задержал ее. Пусть бы шла искать Шугая со своим хозяйственным вопросом.
Клава вздохнула и упавшим голосом сказала:
– Ну я, наверно, пойду, Сережа…
Очень уж обиженный был у нее вид. Королев посмотрел на нее как можно добрее, сказал:
– Значит, так и не скажешь, с каким вопросом пришла?
Ресницы ее дрогнули от улыбки.
– А что, может, и правда поможешь? – спросила она вроде б доверчивее, но не скрывая и насмешки.
– Сделаю все, что смогу, – серьезно сказал он.
– Ну, раз такое дело, тогда слушай.
И вдруг изменилась в лице: глаза потемнели, стали глубокими, брови сдвинулись.
– Скажи по правде, Сережа, разве это справедливо, что товарищ Шугай послал меня коловорот вертеть? – Королев, не понимая еще, о чем она хочет сказать, решил молчать. – Нечестно это с его стороны, – продолжала она. – Знает же, что до немцев я киоскершей работала, лимонадом всех поила, а он меня к кобылке в пристяжку. А почему так сделал? Не знаешь? – сощурила она глаза. – Не знаешь. А я, миленький Сережа, знаю. Я из тех девчат, про которых говорят: ты еще к вожжам не притронулся, а я уже на возу. Знаю! – убежденно повторяла она, – потому, что в партизаны к нему не пошла. А разве я знала, что он партизанит? На лбу-то у него насчет этого никакого тавра, никакой отметины. Так за какие грехи он расплачивается со мной?! – Она села на табуретку и, пригнувшись к коленям, закрыла лицо руками. – Оккупация, – говорила она, вытирая глаза. – Все ею упрекают, будто я по своей воле осталась…
Королев выждал, когда она немного успокоилась, сказал:
– Так ведь надо же работать, Клава.
– А разве я говорю, что не надо? Работать буду, только не там, где заблагорассудится этому…
– На шурфе не одна ты работаешь, там такие же…
– Такие, да не такие, – не дала ему договорить Клава. – Они все добровольно, а меня пихнул туда Шугай. – Щеки ее вспыхнули, а губы побелели.
– Успокойся, Клава, со временем все уляжется.
– Никогда тут не уляжется, не успокоится, – убежденно приложила она руку к сердцу, – никогда, Сережа, родненький… – В это время в дверях показался Шугай. Он, видимо, расслышал последние слова Клавы, подозрительно улыбнулся.
– Простите, не помешал?
– Заходи, заходи, Николай Архипович, – выбираясь из-за стола, сказал Королев, – Клавдия Лебедь к тебе с серьезным разговором.
Шугай уселся за стол, снял кепку, вытер смятым платком крепкую лысеющую голову, спросил:
– Небось насчет буфетика явилась, Клавка, успела уже прозондировать? – осуждающе крутнул он головой.
Клава не поняла его.
– Что еще за буфетик? – Глаза ее смотрели остро и цепко.
Шугай с усмешкой покосился на нее, не переставая тереть порозовевшую пролысину.
– Хватит прикидываться, – сказал строго. И уже Королеву: – орс решил буфет при столовой открыть. Жаль только, вот этого не будет, – красноречиво щелкнул он по горлу.
– Свою принесете, – подкинула Клава.
– Да, было такое… со своей поллитровкой в буфет хаживали, – будто с сожалением сказал Шугай и опять насмешливо: – Так что, на буфетик прицел имеешь, Клавка?
– Сами торгуйте в нем, – сердито отвернулась от него девушка, – у вас комплекция подходящая, ко всему на пенсию пора.
Королев едва сдержался от смеха: ну и колючка!
– Не тебе считать мои годы, – обидчиво и сурово прикрикнул на нее Шугай, и уже требовательно: – У тебя какое ко мне дело, Лебедь?
– Имеется дело, – не смутившись его начальственного тона, спокойно сказала Клава, – наша кобыла Берта здорово скучает, – глаза ее сузились, смотрели остро и тонко насмешливо, – ей бы жеребчика, а вы, Николай Архипович, меня к ней в пристяжку.
– Мне некогда с тобой лясы точить, Лебедь, – холодно сказал Шугай. – Выкладывай, зачем пришла, и уходи.
Клава по-бабьи скрестила руки под грудью.
– Ну хорошо, Николай Архипович, о деле, так о деле: буфетик доверите?
Шугай перевел взгляд с нее на парторга, как бы говоря: видал такую зануду! И чтоб отвязаться, пообещал неопределенно:
– Ладно, подумаем.
– А чего думать, – как будто удивилась Клава, – парторг здесь, уверена, что против меня он руку не потянет, а с председателем шахткома вопрос согласуете в рабочем порядке.
– Да отвяжись ты наконец, – вскипел Шугай и даже угрожающе привстал на стуле. Он понял, что Лебедь просто разыгрывает его с буфетом. – Говори, зачем пришла?
– Скажу, только уговор, – спокойно начала Клава, – станете возражать, клянусь, завтра на фронт убегу, – и торопливо обмахнула себя крестом.
Шугай, с трудом сдерживая на жестких губах усмешку, сказал:
– Ты же баптистка, Клавка, в молитвенный дом ходила, а баптисты не крестятся.
– Я такая баптистка, как вы князь, – отрезала Клава.
Королев рассмеялся. Улыбнулся и Шугай. Казалось, он уже примирился с ее задиристым тоном.
– Ну, выкладывай, чего хочешь? – потребовал он.
Клава, вдруг лихо подбоченясь и словно собираясь пуститься в пляс, перегнулась через стол к самому Шугаю, медленно, с издевкой выговорила:
– Вы, миленький Николай Архипович, на немцев работали? Работали. Уголек давали? Давали…
– Ну, ты!.. Болтай, да меру знай! – оборвал ее Шугай.
– Что, обидно? – в упор дерзко посмотрела на него Клава. – Мне тоже нелегко глотать всякие шпильки, – голос ее дрогнул, нижняя припухлая губа поджалась, подбородок поморщился. – Будто не знаете, почему я к баптистам ходила… – уже с трудом выговорила она.
– Ну ладно уж, ладно, Клава, знаю, чего там… – опасаясь слез, поторопился успокоить ее Шугай. – Что ты, собственно, от меня хочешь?
Клава, не меняя наступательного тона, сказала:
– Работать, как все, хочу, уголь рубать. И чтоб сектой глаза не кололи.
– Так, – сказал Шугай, словно подытоживая что-то в своих мыслях, – что касается секты, Клава, людям языки не завяжешь; уголь рубать ты не способна: физической силы маловато. В буфет тебя, ясное дело, не посадят, – размышлял он вслух. – На эту должность старуху какую-нибудь устроят или инвалида. – И вдруг спохватился и довольно звучно хлопнул себя по лбу: – Стой!.. В коногоны пойдешь?
Лебедь молча, в изумлении посмотрела на него.
– Что, не знаешь коногонов?
– Знаю, чего там, – неуверенно ответила Клава, – в книжках про них читала. Отчаюги!
– А ты что, из робкого десятка?
Клава смущенно промолчала. Шугай продолжал:
– Жди, когда электровозы в шахте забегают, а уголек уже завтра возить придется. Не впрягать же баб в груженые вагонетки. Правда, можно бы назначить коногоном Кирея, да стар он, не управится.
Клава знала Кирея – нелюдимо-хмурого, сухонького старикашку.
– На худой конец можно бы назначить коногоном Остапова внука Тимку, – раздумчиво говорил Шугай, – лошадей он любит, но опять же – еще пацан. В шахту таких не велено допускать. А ты бы, Клавка, наверняка справилась с этой должностью. Характер у тебя подходящий, и ко всему – Берта привыкла к тебе. Гоняли б вагончики по штреку за милую душу!.. Правду говорю, парторг? – ища поддержки, взглянул он на Королева.
Тот в ответ неопределенно повел плечами: чтобы в шахте коногонила женщина, такого он ни в жизни не встречал, ни в книжках не читывал. Клава молчала, не решаясь что-либо ответить начальнику шахты. Шугай, словно ему передалось их сомнение и неуверенность, уже несколько разочарованно заключил:
– Правда, свист у тебя отсутствует, Лебедь, а коногон без свиста – все равно что паровоз без гудка: никто ему дороги не откроет.
– Это какой же свист? – оживилась Клава.
– Коногонский, – сказал Шугай. – Коногоны, знаешь, как свистят – звон в ушах.
– Знаю, чего там… – улыбнулась она, – вот так!
Клава вложила три пальца в рот, надула щеки. Пронзительный, раздирающий уши свист заполнил комнату. Шугай невольно зажмурился.
– Да ну тебя ко всем!.. – замахал он на нее руками. – Я думал, что ты богомолка, смиренная, а ты, оказывается, соловей-разбойник.
– Вы меня еще плохо знаете, Николай Архипович, – с легкой обидой сказала Клава, – а за секту кому только не лень, тот и корит. И вы нет-нет да и подольете масла в огонь…
– На тебя сколько горючего ни лей – не сгоришь, – сказал Шугай и спросил. – Так что, согласна?
– Была не была, попробую! – с какой-то отчаянной решимостью сказала Клава. – Когда приступать?
– Долго ждать не придется. Вызову.
Клава сделала широкий жест рукой, как в старинном танце, и вышла.
– Ну и девка!.. – сказал Шугай. – Ты еще не знаешь ее, парторг.
Трудно было уловить точную интонацию, с которой были произнесены эти слова, – хвалит Шугай Клавдию Лебедь или осуждает.
Королев действительно многого не знал об этой девушке.
Воспитанная детдомом, бойкая продавщица прохладительных напитков, модница, веселая, дерзкая с поселковыми парнями – вот, пожалуй, и все.
Она осталась на оккупированной территории случайно. Эшелон, в котором ехала Клава, где-то за Ясиноватой разбомбили немецкие самолеты. Оставшиеся в живых разбрелись, кто куда. Клава вернулась на «Коммунар».
Пришла в общежитие в свою комнату и ужаснулась: матрацы выпотрошены, железные кровати перевернуты, тумбочка и стулья куда-то исчезли, яркие бумажные цветы и открытки кинозвезд разбросаны по затоптанному полу. Оставаться здесь было страшно. Выйти на улицу тоже опасалась: прошло несколько дней, как поселок заняли немцы. Села на железную кровать, уткнув лицо в руки. Не успела подумать, как же ей быть, вдруг раздался оглушительный взрыв. Оконные створки распахнулись, со звоном посыпались стекла. За первым взрывом последовал второй, третий… Клава подхватилась и выбежала в коридор. Очередной взрыв настиг ее на последних ступеньках лестницы. Она упала, скатилась к порогу и, не почувствовав ушибов, сейчас же вскочила. Бежала по пустынной улице, сама не зная куда. Страх, как слепую, бросал ее в разные стороны. И когда сердце зашлось и ноги обессилели, кто-то окликнул ее. Клава на бегу остановилась, осмотрелась, но никого не увидела. Голос опять позвал, и она из последних сил бросилась в распахнутую калитку ближайшего двора. У открытых, обитых ржавеющей жестью дверей погреба стоял человек и не то укорял, не то успокаивал:
– Чего мечешься!.. Давай сюда, в укрытие.
Клава кинулась к человеку и попала ему прямо в руки. Он помог ей спуститься по каменным ступенькам. В подвале густо пахло застоялой сыростью, огуречным рассолом, проросшей картошкой и было до того темно, что Клаве показалось, будто всю ее вдруг опеленали отсыревшей черной ватой. Человек закрыл за собой тяжелую скрипучую дверь, тряхнул спичечной коробкой, чиркнул.
– Садитесь сюда, – указал он горящей спичкой на бочонок. Не успела она разглядеть своего спасителя, как спичка внезапно погасла. Он опять чиркнул. Поднес горящую спичку к восковому огарку, и в погребе посветлело. Перед Клавой стоял невысокою роста коренастый человек в сивой каракулевой шапке, надвинутой на самые брови; лицо испитое, усы и бородка растрепанны. На плечах поверх какой-то толстой одежды красивый халат с длинными широкими рукавами и запашными полами. Первое, что она подумала об этом человеке, было: «Что он себе вообразил, куда вырядился?»
– За свой погребок я спокоен, – говорил он, причмокивая губами. – Сколько разов немцы бомбежки устраивали, а вот, как видишь, все цело. А теперь наши нагрянули, и опять же бог миловал…
– Будто у них только и заботы, что о вашем погребе, – буркнула Клава.
– Что верно, то верно, – согласился он и опять причмокнул. – Только посудите сами: погреб забойщика Перебейноса разбомбили? Разбомбили. И Лисицыному непоправимый вред причинили. А мой, как видите, цел. Выходит, мой погребок удачливее других, – заключил он, совсем довольный.
«Галактион Бурлак», – метнулось в ее голове.
Хозяин погреба срезал ножничками обуглившийся фитиль на огарке свечи, и в погребе на какое-то время будто раздвинулись заплесневевшие стены.
– Я вас, представьте, сразу узнал, – сказал он. В его запавших, почти невидимых глазах вспыхнули быстрые проницательные огоньки.
– А чего б и не узнать. Меня все здесь знают, – сказала Клава, стараясь не глядеть на него.
– Это верно, – словно обрадовался ее признанию Бурлак, – недаром сказано: дорогой перстенек, как ты его ни испачкай, все равно блестит.
Он уселся на бочонок рядом с Клавиным и осторожно, почти на шепоте спросил:
– Как же оно свершилось, что эшелон укатил, а вы остались?
– Разбомбили нас.
– Ай-яй, вот беда-то – сострадательно зачмокал губами Бурлак. – И, наверно, убитых – пропасть.
Клава кивнула и опустила глаза.
– И вас небось ранили?
– Убили б – легче было, – мрачно отозвалась она, сдерживая слезы.
– Ай-яй… Такая молодая и такое говорите, – пожурил ее Бурлак. – Вы еще в полном цвету. Все ваше впереди…
– А что моего впереди? – повысила она голос. – Война! От нее хорошего ждать нечего ни молодым, ни старикам.
– То еще бабушка надвое гадала, – хитровато ухмыльнулся он. – Не было такой войны, чтобы один только вред причинила человеку. Иные, наоборот, в войне воскресают, новую жизнь обретают…
– Кто же они такие эти человеки? – сердито изумилась Клава.
Бурлак в затруднении пошевелил бровью.
– Ну как – кто? Люди…
– Не люди то – звери! – зло оборвала его Клава. – Я б на таких своими руками петлю накинула.
Бурлак покачал головой, все еще не расставаясь с хитроватой усмешкой:
– Вон вы какая востренькая…
Клава не ответила, только подозрительно, быстро взглянула на него. Человек этот с его ужимками, подобострастным причмокиванием, в дорогом халате, который неизвестно зачем напялил на себя в такую годину и в таком месте, вдруг показался подозрительным и опасным.
Она поднялась, обирая платье:
– Я пойду.
Схватился с места и Бурлак.
– Куда же вам идти, дитя, – выговорил он в испуге. – Через минуту-другую вся эта вакханалия может начаться сызнова.
– Ну и пусть, – упрямо сказала Клава. После того, что она пережила, ей было на все плевать.
– Это вы зря, – осуждающе протянул Галактион, – пообождали бы малость, а там можно б…
– Нет, нет! – решительно остановила его Клава и шагнула к двери. Дверь была на вспотевшем, ржавом засове. Клава ни за что не смогла бы открыть его. Бурлак, видимо, учитывал это и не сошел с места, медлил. На сжатые узловатые пальцы его натекло воску, но он не разжимал их. Держа огарок в полувытянутой руке, так что колеблющийся желтоватый свет поровну падал на него и на девушку, он негромко, чуть дрогнувшим голосом заговорил:
– Послушайте меня, Клавдия. Я вам, как родной отец, советую: останьтесь, не уходите. Вы же знаете, что там творится, – показал он на каменный свод. Рукав его халата ссунулся по локоть, обнажив волосатую, сухую, как полено, руку. – За такими, как вы, теперь охотятся, облавы устраивают. Считайте за счастье, дорогое дитя, что вас в поселке никто не видел.
– Что же вы мне советуете? – помедлив, спросила она в растерянности.
– Оставайтесь у меня, Клавдия, – сказал он вкрадчиво.
Клава почувствовала внезапный холодок под сердцем, и ей опять сделалось страшно.
– Как это у вас?.. Навсегда, что ли?
Бурлак медленно кивнул, не отрывая от нее глубокого взгляда. Клава некоторое время не в силах была разжать губ.
Он отодрал от пальцев прилипшую к ним свечу, переложил в левую руку, а правой слегка сжал Клаву за локоть. Почувствовал, как девушка вздрогнула, но руку не отнял.
– Вам у меня будет вольготно, верно говорю, – и для убедительности на мгновение приложил к груди руку со свечой, – а главное – безопасно. Комендант свой человек. – Он опять слегка сжал ее локоть. Глаза его маслянисто улыбались. Клава отступила на шаг.
– Вы это бросьте! – строго предупредила она. – Мне нечего у вас делать. Откройте дверь!
– Вот глупенькая, – вздохнул он, – ей добра желаешь, а она бог знает что подумала… Да неужто я по годам себе не подыщу. Баб-то теперь вон сколько…
– Откройте дверь, говорю! – уже крикнула Клава. Все тело ее напряглось. Она готова была наброситься на этого старого нахала.
– Не кричите, – властно предупредил ее Бурлак и поднял палец, – а то ведь могут услышать и нехорошее про нас подумают.
– Про меня нечего думать…
– Это еще как сказать, – многозначительно подмигнул он, – в поселке вас хорошо знают…
– А что про меня знают?
– Спокойно, дитя, – и, словно обороняясь, вытянул перед ней обе руки. – Всем хорошо известно, что жили вы при Советской власти вольготнее других. Как-никак буфетчица, значит, на хорошем счету были у начальства, а таких немцы не щадят. Учтите это.
Клава поняла, что угрозой этого человека не проймешь. От ее крика он становился еще упрямее. И она решила с ним по-хорошему.
– Я вас прошу, дядя Галактион, откройте, мне надо, – взмолилась она.
Клава не знала, что ей надо, куда и к кому пойдет. У нее не было определенной цели, но понимала, что не может больше оставаться в этом затхлом подземелье.
Бурлак постоял, помедлил и пошел к двери, говоря на ходу:
– Что ж, силовать не стану. Только, когда заарканят тебя, красотка, на меня не пеняй, сама в полон-неволю напросилась.
Тяжелая отсыревшая дверь, ржаво скрипя, распахнулась.
– Ну иди, – сказал он и добавил: – Иди, раз тебе так хочется.
Клава выбежала из погреба и побрела по улице, держась поближе к заборам и палисадникам. Было тихо, нигде ни души. Куда идти? Может быть, все же не надо было уходить? Возможно, Бурлак действительно желал ей добра. Но Клава не доверяла этому человеку и боялась его.
Галактион Бурлак долгие годы проработал на лесном складе – отпускал крепежный лес для нужд шахты. Когда начал строить собственный домишко, как-то, взбираясь по стропилам, сорвался и повредил позвоночник. С полгода ходил, сгорбившись, опираясь одной рукой о палку, другой – о колено. Со временем спину ему выпрямил костоправ, а левая нога перестала сгибаться в колене. Передвигаясь, он волочил ее, как не свою, подметая штаниной землю. Детей у Бурлака не было, жили вдвоем с женой, богомолкой Елизаветой – замкнутой, нелюдимой женщиной. Каждый год выкармливали кабанчика, держали корову. Все это было на плечах у сухопарой непоседливой женщины. Умерла Елизавета неожиданно. Говорили, что Елизавета отравилась, но в это трудно было поверить. Соседи никогда не слышали, чтоб у Бурлаков были ссоры, как в некоторых других семьях. Галактион редко пил, а если случалось, то ни с кем не скандалил, только любил похвастаться. «Будь у меня ноги, как у всех, – говорил он, – Галактион Бурлак доказал бы, на что он способен…» Над этими его словами только посмеивались, не придавая им серьезного значения.
После смерти жены Галактион жил замкнуто. У него в доме редко кто бывал. Соседи только через забор могли видеть, как, волоча ногу, он озабоченно расхаживал по двору: раскладывал для просушки доски, припасенные для какой-то постройки, возился в огороде. Ходил Бурлак в будни и в праздники в одном и том же заношенном матерчатом костюмишке, зимой носил «москвичку» из грубого ворсистого сукна на вате и валенки в глубоких галошах, склеенных из автомобильной камеры. Клава не помнит, чтобы он даже в дни получки выпил у нее в ларьке стакан воды с сиропом или бутылку хлебного квасу. Бурлак обычно говорил: «Отлей на копейку, красавица», – и мелкими глотками долго цедил колючую воду, время от времени отрываясь от стакана, причмокивая, с интересом наблюдал за серебристыми пузырьками. Клава привыкла видеть его неряшливо одетым и, когда Бурлак предстал перед ней в богатом халате, не сразу узнала.
Нет, она еще не раз похвалит себя за то, что ушла от этого человека…
Огородами и глухими переулками Клава выбралась из поселка и под вечер была в Красногвардейске. У переезда ее задержал полицай – коренастый, с усиками парень. Подозрительно посмотрел на ее испачканное платье, неумытое лицо, строго спросил:
– Куда топаешь, ты?!
– К своим, у меня в Красногвардейске родичи.
– Не в Красногвардейске, а в Новограде, – сурово поправил ее полицай, – отвыкать пора от всего красного. То при коммунистах моду взяли все, и черное, и белое, называть красным. Теперь эти предрассудки мы – под корень, ясно?
– Ясно, – виновато сказала Клава. Парень то и дело поправлял пояс на зеленом немецком мундире. Видно было, что ему очень нравилось быть в роли военного.
– А вещи твои где, не вижу.
– Вещей у меня нет, – показала она испачканные огородной землей руки.
– А говоришь, на менку собралась.
– Я этого не сказала.
– Ишь ты, не сказала, – недоверчиво подмигнул он белесыми глазами и уже строго: – А фактически?
Клава остановила на нем вопросительный взгляд: что фактически?
– Никс ферштейн?! – до визга повысил он голос, ткнул пальцем ей в грудь, – не розумиешь по дойч?
– Нет, немецкого языка я не знаю, – с трудом поняла его Клава.
– Это никс гут! – неодобрительно сказал полицай. – А може, ты брешешь, а?
Какой-то настырливый, прилипчивый взгляд, казалось, застлал ей глаза. Клава созналась:
– Ей-богу, не брешу, господин полицай, – она едва не рассмеялась. Весь его вид и то, что ему очень хотелось говорить по-немецки, а знал он всего три-четыре слова, – все это было просто потешно.
Когда шли в комендатуру, полицай на почтительном расстоянии следовал за ней, держась за кобуру, стараясь всем встречным показать, что ведет опасного красного диверсанта.
В двухэтажном здании городской школы было полно парней и девушек. Многие здесь жили уже несколько дней в ожидании отправки в Германию. Но по тому, как участились переклички, стало ясно, что ждать осталось недолго. Вскоре начался медицинский осмотр. Осмотр проводили русские врачи под неусыпным бдением немецкого доктора. Когда при осмотре парня или девушки врач находил какие-либо заболевания, немец сам принимался тщательно исследовать больного. К девушкам он относился с особенной внимательностью: подолгу выслушивал, выстукивал, ощупывал и в заключение, отступив на шаг, еще раз, как художник собственное творение, оглядывал их оценивающим взглядом.
– Настоящая примадонна, коллега, – довольный, говорил он русскому врачу. И, наблюдая, как девушка, сгорая от стыда, не может попасть в рукавчик платья, смеялся: – Прима девучка, ошень миляя…
В день отправки в Германию всех выстроили во дворе в один длинный ряд. Началась последняя перекличка. Переводчик назвал имя Клавдии Лебедь и вдруг запнулся. Затем что-то негромко стал пояснять офицеру. Тот, выслушав, закивал головой и пальцем поманил Клаву. Она вышла из строя. Офицер через переводчика сказал, что пока ее очередь ехать в Германию не подоспела и что она может идти домой. Клава недоуменно смотрела то на переводчика, то на офицера. Те чему-то улыбались одинаковой улыбкой, будто знали, что ее ждет что-то хорошее, и от этого им самим было приятно. Несколько минут стояла ошеломленная, пока переводчик не сказал ей, чтоб шла к выходу. Проходя мимо часового, Клава услышала, как тот сказал, словно тоже чем-то довольный:
– До мамки, девучка? Гут, гут…
За воротами Клава остановилась, не зная, куда идти, и все еще не понимая, почему ее отпустили. Она хорошо знала, что всем так же, как и ей, не хотелось покидать родимый край. Многие парни и девушки в строгой тайне вырабатывали план побега. Если это не удастся сделать здесь, то в дороге. Планы были разные: дерзкие по своей смелости и осторожные, рассчитанные на сон часового или на подкуп кого-либо из полицаев. В дороге можно было бежать во время движения поезда, взломав пол в вагоне. Это было рискованно для жизни, но и такой план побега имелся в виду. Подумав, что, может быть, произошла ошибка, могут спохватиться, Клава бросилась бежать. На углу, где трамвайная линия сворачивала на вокзальную площадь, ее кто-то окликнул. Она точно приросла к земле. Казалось, стоит обернуться – и сейчас же встретится с прилипчивым взглядом полицая.
Клава не помнит, сколько простояла неподвижно, а когда, пересилив себя, оглянулась, увидела шагах в пяти Галактиона Бурлака. Заискивающе улыбаясь, он с удовольствием поглаживал аккуратно подстриженную раздвоенную бородку.







