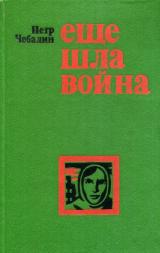
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
– Теперь бы по маленькой – и полный порядок, как в ресторации, – сказал он, оглаживая бороду.
Узнав, что Недбайло хранил радиоприемник зимой у себя в подполье, а летом в шалаше, Чернобай на радостях обнял старика.
– Да ты настоящий герой, Остап Игнатьевич. К награде бы тебя представить за храбрость.
Старик посуровел, задумался.
– Не торопись награждать, начальник, война еще, можно сказать, в полном разгаре…
– Вот как! Думаешь, вернутся?
– И такое может случиться, – не смутился от прямого вопроса сторож, – война есть война: нынче наступаем, а там, гляди, какой недосмотр, промашка со стороны наших полководцев – и опять на попятную.
Чернобай добродушно рассмеялся.
– Не завоевать нас немцу, Игнатьевич. Скоро в Днепре будет купаться, а там начнут так громить, что последняя шерсть с него полетит.
Старик крутнул головой, хотел что-то ответить, но, видимо, передумал и только пробормотал, подсовывая еду поближе к гостю: «Дай бог, дай бог…»
Когда сторож провожал гостей к машине, Чернобай вспомнил про голубей.
– Фю-у-у!.. – по-мальчишески присвистнул тот, – немцы слопали. Военным законом, говорят, запрещено гражданским держать такую птицу, потому как она почтовая. А у меня, представь, на всю добрую сотню – ни единого почтаря.
Не успел он договорить, как над кукурузной рощей, едва не задевая рыжие метелки, тонко просвистела крыльями пара белоснежных голубей и тут же скрылась в балке. Затем снова появились и, легко, невесомо взмыв, сели на шалаш.
– Мои, – не без гордости молвил старик, – считай, целехонький день где-то летают, а теперь подоспела пора заявку сделать о себе.
Он достал из кармана горсть проса и хрипловато пропел: «У голубя, у сизова, золотая голова…». Птицы, звучно хлопнув крыльями, слетели к нему на вытянутую руку и, настороженно поводя головками, принялись клевать.
– Двоятко только и сумел сберечь, – тихо, словно боясь спугнуть голубей, говорил старик. – Лето на воле летают, а зимой в подполье отсиживаются. Скука смертная для бедолаг в неволе. А что поделаешь? Приходится терпеть. Случится, поднимут воркотню, а тут, как на грех, кто-нибудь посторонний в дом явится. Топну на них ногой, они и притихнут. Соображают, что конспирацию нарушать не положено.
Чернобай уже садился в машину, как вдруг старик спросил:
– На «Коммунар» заедешь, Егор Трифонович?
– Обязательно.
– Тогда, будь добр, уважь: передай Шугаю, что ковальня – моя забота. Вот сдам это липовое хозяйство, – показал он рукой на огороды, – и на свой пожизненный пост. Без молотка и наковальни – не житье мне.
Полуторка рванула с места, взвихрив густую пыль, а сторож еще долго стоял у края дороги, опершись на палку, смотрел вслед. Пара белых голубей, упоенных полетом, кружила в небе, набирая высоту, пока не скрылась в дрожащих серебристо-голубых струях марева…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯПоселок шахты «Коммунар» вырос в годы первой и второй пятилеток. Вокруг широкая, глазом не окинешь, степь. Изрезанная балками и оврагами, густо поросшая жестким пыреем, мелким полынком вперемешку с духовитым чебрецом. Всюду по степи промеж редких могильных курганов и терриконов, вразброс, одиноко растут низкорослые дубы. С незапамятных времен, точно бессменные стражи, стоят они на этих древних просторах, не редея и не приумножаясь.
Коммунар выгодно отличался от других шахтных поселков, возникших на этой земле стихийно и сохранивших былые названия – Кирпичовка, Мария, Пугачевка. Поселок Коммунар был хорошо спланирован и походил на небольшой уютный городок с центральной улицей из каменных двухквартирных домов под этернитом и черепицей, с парком, клубом, детским садом и школой. Позже поселок стал обрастать разномастными кирпичными и глинобитными домиками застройщиков, с палисадниками и небольшими приусадебными участками – частью под огородами, частью в клумбах с цветами. Со временем шахта «Коммунар» стала известна своими передовыми людьми. Все чаще в газетах, на слетах шахтеров рядом с именами Изотова, Стаханова, Степаненко назывались имена Королева, Горбатюка, Агибалова. Люди эти как бы сблизили и породнили людей шахты со всем Донбассом, со всей страной. Все они жили единой большой семьей, озабоченные одними думами и делами. Когда началась война, на Коммунаре да и во всем Донбассе, не думали, что отступление наших войск зайдет так далеко. Надеялись, что враг будет задержан на Днепре или на рубеже Нижнего Дона. Но вражеские силы неотвратимо подкатывались к Донбассу, и наступило время, когда в гигантский водоворот войны был ввергнут и этот, ни на какой карте не обозначенный населенный пункт.
Как только Коммунар заняли немцы, комендантом его был назначен пожилой немец – зондерфюрер Крюгер.
Горный десятник Шугай с небольшой группой пожилых шахтеров, по разным причинам оставшихся в поселке, в первый же день явился к коменданту. Крюгер встретил их подозрительно холодно. А когда переводчик объяснил ему, что шахтеры хотят работать, сразу же подобрел, поднялся со старинного резного кресла, принесенного ему из реквизитной поселкового клуба, и заходил по комнате, печатая шаг.
– Корошо!.. А!.. Вы есть русские углекопы?.. О да!.. Арбайтен хорошо, эсен – во!.. – говорил он, спотыкаясь на каждом слове и самодовольно поглаживая голову с зачесом через лысину.
Шахтеры унесли с собой от коменданта по бруску черного хлеба и несколько банок свиной тушенки.
Выданная на-гора первая вагонетка угля обрадовала коменданта. Он не замедлил явиться на шахту. Брал в руки куски угля, вертел их перед глазами и, довольный, что-то бормотал по-своему. Несколько кусков велел завернуть в бумагу и унес с собой. Однако добытый уголь не всем посельчанам пришелся по душе. Многие отвернулись от Шугая, относились к нему недоверчиво, с опаской, или с затаенной враждебностью, как к отступнику. Всем было известно, что десятник незадолго до войны был судим. В его смене случилась авария. Шугаю дали год условно и перевели работать навалоотбойщиком. Он всюду говорил, что суд несправедливо наказал его, писал жалобы в район, но это ни к чему не привело. Шло время, и на шахте стали забывать об этом случае. Да и сам Шугай, казалось, смирился с обидой и все реже вспоминал о ней. Но оказалось, не забыл, а глубоко затаил ее.
Шугай чувствовал и видел, что многие недовольны его прислужничанием немцам, но делал вид, будто ему на все плевать, и при случае говорил, что у него, в конце концов, семья, ее надо кормить. А где в такое крутое время раздобудешь кусок хлеба? Мотаться по селам, сбывать за ведро проса последнее барахлишко? Надолго ли его хватит? А за работу в шахте выдают какой уж ни есть паек – полкило хлеба, тушенку, махорку… Чего бы и не работать.
Уголь добывали в одном восточном крыле. В другом, западном, разработки не велись. Не хватало людей, крепежного леса. Когда распространились слухи, что немцы решили силой пригнать на «Коммунар» горняков с других неработающих, еще более разрушенных шахт, лавы западного участка с катастрофической быстротой стали приходить в негодность: рушились штреки, бремсберги. Приезжали представители какой-то немецкой фирмы, шныряли по выработкам, придирчиво ко всему приглядывались. Русский штейгер, как стали величать Шугая, неотлучно следовал за ними. Он со знанием дела объяснял представителям фирмы причину катастрофы. Большевикам, говорил он, нужно было много угля, и его добывали любой ценой, Для этого был придуман стахановский метод добычи. Уголь брали где только могли и как могли, не считаясь с геологическими условиями. Крепили выработки ненадежно, экономили лес, чтобы удешевить стоимость топлива. Но все же угольные забои тогда не стояли на одном месте, они каждый день продвигались на несколько метров. Теперь же, когда лавы не работают, а кровля дьявольски жмет, ее никакими силами удержать невозможно.
Так ничего и не предприняв, гости укатили в город. А спустя несколько дней лавы западного участка полностью обрушились. Лишь немногие догадывались, что устраивает завалы сам штейгер.
Лаву же восточного крыла шахты Шугай по-хозяйски зорко оберегал. На участке своевременно и надежно крепились выработки, путевое хозяйство поддерживалось в надлежащем порядке. Рубали уголь кайлами и обушками. Раздобыть несколько отбойных молотков не представляло особенного труда, но из строя был выведен компрессор – исчезли важные детали, а без компрессора отбойные в дело не употребишь. Но много ли, мало, все же уголь поступал на-гора. Для коменданта это было главным. В районе более двадцати шахт, и почти все они затоплены, приведены в негодность. Вместо них понаоткрывали каких-то «мышеловок» и качают из них уголь бадьями. А у Крюгера работает настоящая шахта, на копре круглые сутки неустанно вертятся шкивы. Будто и не бывало войны.
Летом 1943 года стало очевидным, что немцам долго не удержаться в Донбассе. Тогда же штейгер усадил на подводу жену, нагрузил кое-какой домашний скарб и куда-то вывез из поселка. Говорили, что Шугай заручился специальным документом коменданта и отправил подводу в далекие немецкие тылы. Вскоре исчез из поселка и сам штейгер. Никто не сомневался, что немецкий прихвостень, спасая свою шкуру, вслед за женой мотнулся на запад.
Но случилось неожиданное. Комендант вдруг поднял на поиски штейгера полицаев. Они рыскали по чердакам и погребам, стальными щупальцами зондировали подозрительные места в садах и огородах, бросили несколько гранат в степной шурф. Шугай нужен был ротенфюреру живой или мертвый. Он даже вывесил объявление – сулил немалое вознаграждение тем, кто выдаст штейгера. Но его так нигде и не могли найти. Перед самым уходом из поселка обозленный Крюгер приказал облить шугаевский дом бензином и поджечь со всех четырех сторон. Комендант сам явился на пожарище и, пока дом не рухнул, смотрел на бушующее пламя.
Отступая, немцы подорвали, подожгли надшахтное здание, клуб, школу…
Могучий стальной корпус шахтного копра, точно подкошенный, всей своей огромной тяжестью рухнул на двухэтажное здание нарядной и расколол его надвое, как ореховую скорлупу. Единственный человек, который из укрытия наблюдал, как немецкие минеры закладывали «адские» машины под железобетонный фундамент, был одноногий старик-электрик Тимофей Дудка.
Сбросив деревянную ногу и ползая на коленях, Дудка обезвреживал мины, вытаскивал их из-под фундамента и отволакивал подальше в сторону. Но все же копер ему не удалось спасти. Когда обнаружили деревянный протез с толстой резиновой нашлепкой, стало ясно, что старик не успел сделать всего и, видимо, погиб.
Но уже на другой день Тихон Дудка появился в поселке. Опираясь на палку, в изорванной до наготы одежде, весь испачканный в грязь, он спрашивал у встречных:
– Ногу мою, случаем, никто не видал?
На него смотрели, как на ополоумевшего, некоторые сторонились. Как позже выяснилось, мощная взрывная волна отбросила Тихона в глубокий ров, по которому протекала шахтная вода, и там он почти целые сутки пролежал в беспамятстве…
Шугай появился на шахте в тот же день и час, как только немецкие части отступили из города Красногвардейска. Появился он неожиданно и невесть откуда, словно вдруг вышел из-под земли. Возможно, он действительно скрывался где-нибудь под землей, в шахте, об этом у него никто не спрашивал, и сам он ничего о себе не рассказывал.
Так как дом Шугая сгорел, он решил поселиться во флигеле крепильщика Найденова, принадлежавшем теперь десятнику лесного склада Галактиону Бурлаку. Все знали, что Бурлак приобрел двухкомнатный флигель за куль муки и пуд сала, когда Найденов с семьей решил мотнуться на Кубань. Бурлак, долго не раздумывая, прорубил в найденовском флигеле дверь на улицу, смастерил крылечко и открыл лавчонку купли и продажи разных домашних вещей и кухонной утвари. Перед уходом немцев Бурлак поспешно свернул торговлю, а сам закрылся в своем доме и никуда не показывался.
Шугай подкатил на грузовой машине к лавке, выворотил вместе с петлями увесистый амбарный замок, сорвал с окон крест-накрест приколоченные обаполы и снес вещи в комнаты. Бурлак видел самоуправство штейгера, но никому не стал жаловаться.
ГЛАВА ПЯТАЯI
Первые несколько дней Королев жил у своих знакомых – сегодня у одних, завтра у других. Вскоре, однако, повезло с жильем.
Случилось это, когда он, как мог, со своей больной рукой помогал людям по расчистке шахтного двора от разного хлама. Люди работали весь день, а иногда до поздней ночи при зажженных кострах. На шахту сносили все, что могло пригодиться: кайла, обушки, неисправные отбойные молотки, шахтерские лампы. Как-то к Королеву подошли два паренька. Один из них, ростом повыше, с неостриженными висками, сунул ему в руку что-то завернутое в промасленную тряпку. Сверток был тяжелый. Пока Королев разматывал его, положив на землю, паренек быстро рассказывал:
– Это зубки от врубовой, дядя Сережа. Мы с Юрком нашли ее на шахтном дворе, в канаве валялась. Наши, когда отступали, видать, отволокли туда врубовую, а закопать забыли или не успели. Видим такое дело, давай закидывать ее землей. А потом передумали: надо сперва части из нее вынуть, а то, гляди, наткнутся фрицы, спустят под землю и начнут уголь для себя рубать…
Втроем подошли к небольшому земляному холмику, заросшему бурьяном. Высокий паренек взобрался на него и, словно пробуя прочность грунта, несколько раз пружинисто подпрыгнул на одном месте.
– Вот тут она, дядя Сережа.
Врубовка была целой и невредимой.
Паренька звали Тимкой. Это был внук огородного сторожа Остапа Недбайло. Своего приятеля, застенчивого, с лицом, густо усыпанным палевыми веснушками, Тимка называл Юрком. Остапов внук понравился Королеву – подвижный, бойкий на слово, с задиристым зализом на лбу. Про такой вихор говорят – теленок лизнул.
Тимка уговорил Королева жить с ним в доме деда на пару, как по-приятельски выразился он.
Домик ютился в запущенном саду у самого выгона. До войны на нем паслось шахтерское стадо – разномастные козы. К лету выгон зарастал одуванчиками, полынью и конским щавелем. Когда налетал ветер, от одуванчиков в воздухе поднимался белый пух вперемешку с горькой пыльцой полыни.
В доме царил такой беспорядок, словно в него угодила мина: на полу валялись искалеченные табуретки, осколки битой посуды, разное тряпье; в потолке широкой пастью зияла рваная дыра, из нее свисали дранки и серые пропыленные клочья войлока.
– Ну и живешь ты, парень, – упрекнул Тимку Королев, – совсем жильем не пахнет.
Паренек подфутболил давно отживший свое веник так, что пыль каруселькой закружила по комнате.
– Я тут не живу, – пояснил он, – к деду в шалаш хожу ночевать. А весь этот комфорт, – повел он рукой вокруг, – для немчуры. – И, вспомнив что-то презабавное, прикрыл рот ладошкой, сдерживая смех. – Вот послухайте, дядя Сережа, что я вам расскажу, – заговорил он, передохнув. – Дело было в июле. Жарища – не продохнуть. Движение немцев тогда было страшенное. Видать, собирались где-то здорово ударить наших. Как-то раз ихняя часть остановилась заночевать на Коммунаре. Расположились кто в парке, кто в садках под вишнями. Забили к обеду теткину Марфушкину корову – Лыску, а внутренности выкинули в посадку. Я и Юрко, недолго думаючи, сволокли тайком требуху в сенцы. Пусть, думаем себе, понюхает фриц, чем пахнет. А немцы все движутся и движутся. Одна часть уйдет, другая нагрянет. Остановятся на ночевку, и ну шастать по хатам, выбирают, которые почище, чтоб переспать по-пански и заодно что-нибудь слямзить. А в нашу хатыну ткнутся, нюхнут вонючей требухи – и деру: «Русиш – никс гут, русиш – шайзе!» А мы с Юрком сидим себе в угольном сарайчике, в щелочку поглядуем да за животики хватаемся. Когда дедушка узнал про наш фокус, чуть не помер со смеху…
Королев и Тимка допоздна приводили в порядок свое жилье. Из полуразвалившегося сарайчика, который в летнюю пору служил хозяевам кухней, приволокли две железные кровати, стол. Сшили матрацы из старой мешковины, набили их сеном, и постель была готова. Питались картошкой с огорода. Хлеб у Тимки был припасен. Отступая в панике, немцы оставили на складе немалый запас его. Хлеб, выпеченный из помола горелой пшеницы, предназначался для местного населения.
Как-то под вечер пришел с огорода и сам хозяин, Остап Игнатьевич. Обрадованный разительной перемене в доме, привлек к себе внука, ласково погладил взъерошенную голову. Затем подошел к Королеву, крепко по-отцовски обнял.
– Знаю о твоем прибытии, разведка доложила точно, – подмигнул он в сторону внука.
Когда свечерело, старик зажег каганец, уселись за стол. Выспросил Сергея о фронте, где довелось воевать, поинтересовался, жива ли, здорова мать.
– Писала, что на шахте забойщицей работает.
Остап Игнатьевич сокрушенно покачал головой и долго молчал.
– В ее ли годы обушком рубать. Отписал ей, что домой вернулся?
– И о вас сообщил, что живы.
– Спасибо на слове, – поблагодарил старик и, приободрившись, заговорил в охотку: – Теперь там, в Караганде, небось все наши скажут: «Ну и живучий этот Остап Недбайло! В империалистическую воевал – цел остался, в гражданскую от беляков две пули заполучил – и тоже не помер, а фашист пожевал, пожевал старые кости, а чтоб слопать – черта с два!» – и рассмеялся.
Когда Тимка улегся спать, Остап Игнатьевич рассказал Сергею печальную историю. Перед самой войной к старикам приехала погостить из западной Украины невестка Надежда с двенадцатилетним сынишкой. В то время единственный сын Остапа Игнатьевича Василий служил там на пограничной заставе. Когда подошло время уезжать невестке, паренек запротивился. Ему понравилось у деда. Не хотелось разлучаться с внуком и самим старикам. Тем более, что до конца школьных каникул еще оставалось время. На семейном совете решили: Надежда пусть себе преспокойно уезжает, так как подходит время окончания ее отпуска, а через десять-пятнадцать дней дед привезет внука и заодно встретится с сыном, которого давно не видел.
Но все повернулось по-другому. Грянула война, и Тимка остался у деда. Пока Евдокия Павловна была жива, Остап Игнатьевич был спокоен за внука. Но нежданно-негаданно в дом пришла другая беда. Как-то пошла старуха на городской базар и не вернулась. Как стало известно позже, базар был явочным местом партизан. Жандармы нагрянули внезапно, окружили и без предупреждения открыли стрельбу по толпе. Люди метались на небольшой, ничем не защищенной площади. Их всюду встречали автоматные очереди. Затем начался повальный обыск. Всех мало-мальски подозрительных втаскивали в закрытые машины и неизвестно куда увозили.
Евдокии Павловне прострелили легкое навылет. Зажимая рану ладонью, старуха пыталась выбраться из кольца жандармов, но ее не пустили. Обессилев, она опустилась на землю. Здесь ее и нашли прибежавшие на базар Остап Игнатьевич и внук.
Всю зиму старый Остап прожил с внуком в своем домишке, никуда не показываясь. Доедали все, что было припасено. Порой сам удивлялся: как только хватило у него сил пережить зиму. Да, пожалуй, если бы не внук – пропал бы. Постоянные заботы о нем прибавляли ему бодрости, отвлекали от нелегких дум.
С наступлением весны жизнь пошла по-другому. Надо было вскопать огород, засадить его картошкой, засеять подсолнечником, кукурузой, репой – все пригодится. Во всем помогал ему внук.
Летом Остап Игнатьевич нанялся сторожем на огороды. Чтобы в доме не останавливались немцы, заколотил в нем ставни, натаскал в комнаты всякого хлама, а сам с внуком поселился в шалаше, захватив с собой радиоприемник. Он был дорог ему как задушевный друг и мудрый наставник. Не будь его, жизнь старика была бы сплошной ночью, жалким существованием.
Зимой Остап Игнатьевич прятал приемник в летней кухне, приспособив для него укромное подполье. Когда поселок засыпал, крадучись, пробирался к своему заветному тайнику, слушал Москву. Иногда ему достаточно было услышать живой голос Родины – позывные, он тут же выключал приемник и, успокоенный, возвращался в дом. На огородах Остап Игнатьевич по ночам уже смелее и чаще настраивал его на Москву. В первое время никто не знал о существовании приемника. Даже Шугаю старый открылся не сразу. А когда однажды тот принес ему несколько патронов взрывчатки и велел понадежнее спрятать, все понял и доверился штейгеру.
Старик никогда не записывал услышанное по радио – доверял только своей памяти. А память у него оказалась довольно цепкой и надежной.
…Когда Остап Игнатьевич улегся, Королев долго еще сидел на кровати, думал. Чувство радости оттого, что он жив и теперь снова у себя дома, в родном поселке, перемешивалось с щемящей тоской и горечью. Прежде для него все здесь были свои. Одних он уважал и любил больше, других меньше, но раз они были с его шахты, значит, земляки, близкая родня. Если бы ему сказали, что с приходом немцев кое-кто из его посельчан станет предателем, Сергей ни за что бы не поверил. Немало было и таких, кто не пропускал ни одного богослужения, ни единой проповеди священника, который нередко призывал всевышнего покарать огнем и мечом «красных нехристей».
Лукьян Грыза, как позже узнал Королев, был пресвитером. Собирал пожертвования на постройку молитвенного дома. Однако дом так и не был построен. Почуяв приближение советских войск, проповедник бежал с немецкими тылами, прихватив с собой немалую сумму, пожертвованную прихожанами.
Королев подошел к кровати, на которой спал Тимка, тихо посапывая и время от времени шевеля губами. Видимо, с кем-то спорил во сне. Сергей склонился над ним, и ему неудержимо захотелось приласкать паренька. Он нежно погладил его по голове.
Погасив каганец, улегся в кровать, как вдруг услышал за окном шаги босых ног. Щелкнул трофейной зажигалкой, посмотрел на часы: было ровно двенадцать.
В поселке говорили, что каждую ночь в эту пору Марфа Агибалова ходит на станцию встречать своих сыновей и мужа…
II
Спустя несколько дней старик распрощался с огородами, привез на тачке заработанное за лето – початки кукурузы, бураки, картошку. Когда все привезенное втащили в сени, за воротами вдруг послышался лошадиный топот. Обернувшись, Королев еще успел разглядеть скачущую разгоряченную лошадь и на ней всадника. Ветер пузырем надувал на его спине рубашку. Вслед за лошадью, взбивая босыми ногами дорожную пыль, мчалась ватага ребятишек. Королев поймал одного из них за рубашку.
Мальчонка, оторопело пяля глазенки и не в силах передохнуть, едва выговорил:
– По… понесла!.
– Кого понесла?
– Тимку. Кого же! – справившись с одышкой, выпалил паренек, – дикая она. Да пустите меня, дядя! – уже со слезой в голосе крикнул он и, вырвавшись, припустился вслед за своими приятелями.
На шум вышел со двора Остап Игнатьевич.
– Озоруют сорванцы, – сказал он не то сердито, не то одобрительно. – Ничего, пусть повольничают. Все равно скоро в школу забреют.
– Да дело тут не в озорстве, Игнатьевич. Какая-то лошадь понесла Тимку.
– А… а… а!.. – протянул старик. – Это, должно быть, та, которая в овраге в терновниках все лето прокурортничала. Отбилась от немецкого обоза да так и осталась в одиночестве. Одичала – страсть.
В конце улицы опять показался всадник. Одной рукой он держался за гриву, припав к ней, другой размахивал бечевой, будто собирался кого-то заарканить. Позади скачущего всадника во все ноги неслись ребятишки. Поравнявшись с Королевым, Тимка крикнул:
– Держите, дядя Сережа! – и ловко бросил ему конец бечевы. Королев здоровой рукой поймал ее и весь напрягся. Лошадь будто налетела на неожиданную преграду, вздрогнула всем телом и встала на дыбы. К бечевке приладились ребятишки. Лошадь некоторое время таскала всех то в одну, то в другую сторону. Но вскоре притомилась и, хрипло дыша, стала успокаиваться. А Тимка все еще цепко, как клещ, держался на ее спине, готовый к любой неожиданности.
– Целый день пытались заарканить сатанюку, – говорил он, – никак не давалась. Мы к ней с арканом, а она к нам задом. Да как саданет копытами, земля за сто шагов летит…
Лошадь, передохнув, снова забеспокоилась, запрядала ушами. Тимка припал к ее шее и, поглаживая, ласково приговаривал:
– Спокойно, спокойно, Гнедая.
– Почему решил, что у нее такая кличка? – сказал Остап Игнатьевич. – А может, она немка, какая-нибудь Эльза, Герта, Берта…
Все засмеялись. Но Тимка принял всерьез замечание деда и начал скороговоркой:
– Герта-Берта, Герточка-Берточка… – и лошадь успокоилась:
– На кой ты ее споймал, Тимоша, – недоумевал дед, – другое дело при немцах: на менку бы ездили.
– Шугаю она во как нужна, деда, – с серьезным видом провел по горлу ладонью Тимка. – Я как сказал Николаю Архиповичу, что есть дикая лошадь, так он, знаешь, как обрадовался: непременно излови, говорит. Мы ей такую должность подыщем, что – за милую душу.
Общими усилиями кое-как втянули лошадь во двор, привязали за недоуздок к столбу. Ребятишки принесли с выгона несколько охапок свежей травы. Но она не стала есть, только дико поводила горячими фиолетовыми очами.
Узнав, что мальцы изловили лошадь, Шугай пришел посмотреть. Лошадь ему понравилась.
– Спасибо, Тимоша. Теперь мы заживем, – сказал он, поглаживая мальчишку по вихрам. И обращаясь к старику, спросил:
– Как думаешь, Игнатьевич, барабан потянет?
– Какой еще барабан? – навострился тот.
– Обыкновенный, деревянный, какие в старину были.
Остап Игнатьевич старчески строго глянул на него.
– Никак бадьей решил уголек из шурфа черпать?
– А если другого выхода нет, – сказал Шугай. – Не то что бадьей, шапкой бы таскать, и то дело.
– Таким угольком фронту не поможешь, – безнадежно махнул рукой старик и спросил о другом:
– Как там кузня, здорово покалечена?
– Приходи, увидишь, – ворчливо проговорил Шугай, обиженный равнодушием старика к его затее с шурфом, и зашагал со двора.
III
Шурф находился на краю поселка. В ясную солнечную погоду отсюда открывается степь без конца и края. По горизонту высятся темные глеевые горы – терриконы. Шахты давно бездыханны, а воздух все еще насыщен неистребимым сладковатым запахом каменного угля и терпкой горечью не то полыни, не то остывшего трудового пота.
Уголь из шурфа поднимали посредством деревянного ворота на тонком звенящем от натуги канате в бадье – бочке из-под горючего. В барабан впрягали Берту. Ей помогали женщины, налегая на ворот. Берта была, как и прежде, диковатой и никого, кроме своего погонщика Тимки, близко не подпускала. При нем она будто без всякого усилия, даже в охоту, ходила по кругу, а рядом с ней бежала, заливаясь звонким лаем, юркая собачонка Жучка. Но стоило Тимке отстать на шаг-другой, как Берта сейчас же замирала на месте и жадно искала его скошенными глазами.
Как-то Клава Лебедь, помогавшая крутить барабан, спросила у Тимки:
– Чем ты эту немецкую зануду приворожил?
– Тоже придумала – «приворожил». Привыкла, и все тут…
– Не скажи, – не верила ему Лебедь, – небось ко мне не привыкает, так и норовит лягнуть. А чем я плохая, скажи?
– Сама у нее спроси, – чтоб как-нибудь отвязаться от прилипчивой дивчины, отвечал Тимка и плелся дальше за Бертой, стегая кнутом пересохшую землю.
А Клава опять пристраивалась к деревянному вороту и заводила длинноголосую песню. Случалось, женщины подпевали, чаще же Клаве приходилось петь одной. Казалось, ей было все равно, поют они или нет, пелось бы самой. На ее лице никогда никто не видал даже тени озабоченности, будто мир для этой девушки всегда был светел и прост. А всем хорошо было известно, как нелегко пришлось в жизни Клаве Лебедь…
Когда бадья с углем показывалась на поверхности, женщины дружным усилием подхватывали ее за дужку, отволакивали по узкому, в два обапола, настилу в сторону и опрокидывали. Медленно вырастала куча мокрого кусковатого угля. Через каждые два-три дня к шурфу подкатывали трестовские грузовики и увозили добычу. Тимка никогда не упускал случая, размашисто написать мелом на бортах машин: «Коммунар», чтоб все знали, чей уголь.
Уголь брали обушками. Крепили забой опаленными в пожарищах стволами акаций и тополей. Другого леса на шахте не было. Бригадиром забойщиц Шугай назначил бывшую плитовую Варвару Былову.
Выходили из шахты забойщицы промокшими до нитки. На ногах вместо резиновых сапог толсто, выше колен намотанное тряпье, перевязанное крест-накрест проволокой или шпагатом. У всех забойщиц на головах вместо касок кепки, оставленные шахтерами перед уходом на фронт.
Закончив работу, женщины всей бригадой усаживались на бричку, и Тимка под лихой Клавкин свист во весь опор с грохотом катил их в поселок.
Сегодня, когда бригада поднялась на-гора, Тимка отозвал Былову в сторонку, сказал по секрету:
– В поселке больше подходящих деревьев нет, Варюха.
– Каких деревьев? – не поняла она.
– Таких, чтоб крепить забой.
Былова задумалась.
– А может, в посадке можно раздобыть?
Тимка прикрыл глаза, мотнул головой.
– Никак не выйдет. Железнодорожники взяли посадку под строгую охрану.
– Тогда нам труба, Тима, – упавшим голосом сказала Варя, – без крепежа в наших норах никак нельзя: придушит, как сусликов.
Тимка помолчал, как бы что-то прикидывая.
– А что, если колокольню разобрать, – сказал он так, словно неожиданно осенило его, хотя еще задолго до разговора с бригадиром тщательно продумал свой план.
– Что еще за колокольня? – переспросила Былова.
– Не шуми, – опасливо оглянулся он на женщин, стоявших у шурфа, – послушай, что скажу. – Взял ее за рукав и отвел в сторону.
…В полночь Тимка вместе с бригадиром и своим приятелем Юрком выехали на соседнюю шахту «Каменку». Незаметно подкатили к колокольне, стоявшей неподалеку от церкви. Чтоб бричка не громыхала, обмотали колеса тряпьем и оплели их веревками. Колокольня была похожа на высокий колодезный сруб с козырьком. Строение еще не было закончено. Короткие толстые столбы лежали тут же рядом. Чтобы не растащили, их предусмотрительно опутали проволокой. Варя с первого же взгляда определила, что поп Никодим возводит свое сооружение из крепежного леса, в свое время унесенного прихожанами с шахтного лесного склада. В церковенке было темно, вокруг тихо и пустынно. Бревна освободили от проволоки, и вскоре бричка была нагружена доверху. Пока ехали, Берта, словно понимая серьезность задуманного предприятия, ни разу не фыркнула и не бряцнула сбруей, осторожно объезжала промоины и затвердевшие наросты на дороге.
Лес решили не оставлять на поверхности и весь его побросали в шурф.
– Поутру разберемся, – сказала Варя.
IV
Для шахтной кузницы Остап Недбайло приспособил уцелевший каменный сараишко. И вскоре закипела работа.
Старый коваль знал, что его работа в данный момент главная из главных. Без нее на шахте – ни шагу. Трудился он с завидной для его возраста энергией. А ведь не так давно, всего каких-нибудь три года тому назад, был, как говорится, списан по чистой. Все реже и реже вспоминали кузнеца, который долгие годы гремел на весь трест. Обида поедом ела старого испытанного коваля. Выходит, был конь, да изъездился. Зато теперь Остап Игнатьевич снова, можно сказать, вышел на передовой рубеж. Он, как и прежде, на виду у всех. Его не обойдешь. Шалишь! По-прежнему звенел и играл в его руках молоток, покорный каждому движению хозяина.








