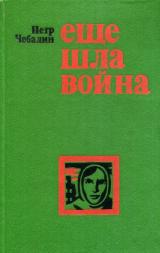
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 34 страниц)
В рабочем поезде
I
Это не те поезда, которые мчатся из конца в конец нашей необъятной страны, увлекая за собой карусели пыли, и гудят так оглушительно, что невольно зажимаешь руками уши. В этих поездах есть что-то простодушное, мирное.
Останавливаются такие поезда, как говорят с улыбкой пассажиры, почти у каждого телеграфного столба и больше одного-двух часов в пути не бывают.
Пробуксовав, паровозик трогается с места, шумно отдуваясь и обволакиваясь белым паром, но не успеет набрать желанной скорости, как снова надо останавливаться. Перед станцией он всякий раз предостерегающе гудит: мол, посторонись, рабочий люд, я прибыл. И потом долго катит вдоль платформы зеленый составишко, солидно посапывая.
Машинист в сплющенной замасленной донельзя кепке, высунувшись до пояса из окна паровоза, безучастно наблюдает за пассажирами. Подталкивая друг друга, люди прыгают со ступенек вагонов и, оживленно переговариваясь, торопливо расходятся в разные стороны. А спустя минуту-другую и паровоз уже мчит по рельсам, спотыкаясь на стыках и, словно веселый пешеход, посвистывая на ходу.
Во время движения поезда проводник пятого, самого последнего вагона, Иван Степанович Горовой иногда выходит в тамбур, распахивает настежь наружную дверь. Морозный, вперемешку с паровозным дымом, ветер бьет в лицо, высекает холодную слезу. Иван Степанович вспоминает о прошлом, когда работал сменным кондуктором на товарных составах.
Где и в каких краях не побывал он в те годы, чего только не насмотрелся. То была, можно сказать, раздольная жизнь.
Свою нелегкую профессию Горовой облюбовал еще в далекой молодости. Правда, несколько раз намеревался бросить ее, сменить на какую-нибудь другую, оседлую. Надоело выслушивать упреки жены, что в доме он вроде как молодой месяц: покажется и снова нет, – да так и не бросил. А теперь, когда преклонные годы привели к пенсии, Иван Степанович выхлопотал должность проводника в рабочем поезде: не мог он сидеть без дела, сложа руки.
Захлопнув наружную дверь, проводник некоторое время задерживается в тамбуре, вытирает платком глаза, разглаживает усы. Затем входит в вагон и неторопливым шагом направляется в противоположный конец. Там стоит железная грубка, огороженная решеткой из металлических прутьев. У грубки бока темно-вишневого цвета, и от нее пышет густым теплом.
Иван Степанович открывает дверцу, и лицо его озаряется, а белые пышные усы становятся малиновыми. Он уже собрался подбросить уголька в топку, как вдруг громкий недовольный голос остановил его:
– Хватит тебе, деда, и так нажарил, как в бане.
Кондуктор хмурится, но не оборачивается. Он узнает по голосу хулиганистого парня Тимофея, сына забойщика Кузьмы Сенокоса из шахтного поселка Новые Планы.
Забросав грубку углем, кондуктор подходит к Тимофею. Тот сидит у окна, положив на колени пилочку-дужку, неизменный инструмент крепильщиков.
Тимофей красив и строен. На нем хромовые с отвернутыми голенищами сапоги, новая телогрейка, расстегнутая до последней пуговицы.
– Душно, говоришь, парень, – оттягивая левый ус, подозрительно и недружелюбно щурится на него Иван Степанович. – В тамбур сходи, остынь.
– Хитрый ты, деда, – говорит он, посмеиваясь и обводя взглядом сидящих рядом шахтеров, словно ища у них сочувствия. – В тамбур гонишь, а, случись, застанешь в нем, сразу же штрафик приваришь. Благодарю покорно. – И Тимофей церемонно раскланивается.
Те, кто помоложе, смеются, постарше – сдержанно улыбаются. Лишь кондуктор хмур. Он не спускает сердитого взгляда с Тимофея. Выждав, когда утих смех, Иван Степанович говорит ему:
– Штрафом тебя, парень, не прошибешь. Больно сурьезную деньгу заколачиваешь. Для тебя другую бы кару придумать…
Теперь уже Тимофей смотрит на проводника настороженно, с опаской, так как знает крутой нрав старика. В минуту гнева от него можно всего ожидать.
– Но-но, деда, ты не очень… – слабо пытается унять его пыл Сенокос и предостерегающе выставляет руку.
– За твои неподобные проделки не то что штрафом бить, а за километр до поезда не допускать. Мыслимо ли, дивчина второй день очей в вагоне не кажет…
Тимофей трет колени широкими, в ссадинах, руками. Он явно смущен, но не хочет уступать проводнику.
– Тоже мне защитник отыскался, – дерзко говорит он, быстро мигая длинными ресницами, точно к его глазам неожиданно поднесли яркий свет. – Кто ей виноват, что она такая… Слова не скажи. – И, состроив жеманную гримасу, под общий смех заключает: – Недотрога, цветочек аленький…
– А ты полынь-трава, сухой репей! Не имеешь права обижать человека в моем вагоне. Не позволю!.. Чуешь?
Взволнованный кондуктор не замечает, как поезд толчками начинает замедлять ход. Тимофей встает, не торопясь, застегивает на все пуговицы телогрейку и, совершенно не заботясь о том, что кепка едва держится на затылке, говорит обиженно и задиристо:
– Я ее, представьте, и не оскорблял. Чего пристали, в самом деле, деда?! – И независимой, развязной походкой направляется к выходу.
– Настоящий разговор у нас с тобой, Тимоха, еще впереди, – угрожающе бросает вслед ему Иван Степанович. Затем неторопливо идет открывать дверь, но не ту, к которой направился Тимофей, а другую, противоположную.
Пассажиры понимают хитрость старика, посмеиваясь и подталкивая друг друга, гуськом тянутся вслед за кондуктором.
II
Иногда в последнем, пятом, вагоне не бывает ни души. Это случается после утренней смены, когда поезд спешит на шахту, чтобы забрать работающих в ночь и развезти всех по домам. Колеса пустого вагона выбивают частую гулкую дробь, и весь он вздрагивает и дребезжит, будто едет не по рельсам, а по неровному, скованному морозом проселку. От нечего делать Иван Степанович часто заглядывает в грубку, прохаживается по вагону. Последнее время из его головы не выходит новенькая пассажирка из поселка Победа. Вот уже третий день не появляется в пятом вагоне скромная, тихая дивчина. В этом виноват Тимофей. И проводник все время искал предлога, чтобы отплатить ему за дерзость.
Он вспомнил, как девушка первый раз подошла к его вагону, протянула картонный билетик и робко спросила:
– Можно?
Она была в толстом, на вате, пальто, скрадывающем ее хрупкую, стройную фигуру; поверх синего берета – пуховая белая косынка, выгодно оттенявшая светло-голубые близоруко сощуренные глаза и сосредоточенно сдвинутые высокие темные брови. В руках – аккуратно обернутая в газету книга.
С книгой девушка никогда не разлучалась. Войдя в вагон, выбирала место у окна, раскрывала на коленях книгу и, пока поезд не прибывал на шахту, ни разу не отрывалась от нее, лишь время от времени медленно, будто с сожалением, переворачивала прочитанные страницы. Проводник не расспрашивал у нее, откуда она приехала и что делает на шахте, но с ее появлением у него заметно прибавилось забот: он стал строже следить за тем, чтобы не курили, не грызли семечек, а с Тимофея Сенокоса не спускал глаз, всякий раз одергивал его, как только тот собирался развязать свой непутевый язык.
Так бывает в большой семье: пока в доме нет постороннего, хозяину кажется, что все на своем месте, но стоит кому-нибудь появиться, как тут же обнаруживается, что и того не хватает, и это не на месте, и детишки шалят не в меру… Одним словом, Иван Степанович взял Груню под свою неусыпную опеку. Но Тимофей – прожженный парень, и за ним уследить трудно. Еще в двери заметив Груню, он начинает подозрительно шептаться со своими приятелями и при этом заразительно смеется.
Тимофей вообще относился к девушкам пренебрежительно, свысока. Ему нравилось унижать их.
Однажды, когда Груня по своему обыкновению коротала время за книгой, он незаметно подсел к ней и с серьезным видом молча уставился в книгу, хотя ничего в ней не видел.
Девушка без удивления, просто посмотрела на него и, не проронив ни слова, опять углубилась в чтение.
Не в силах спрятать лукавые огоньки в своих блестящих цыганских глазах, Тимофей негромко с наигранным любопытством спросил:
– Должно быть, интересная книжица?
– Интересная, – не поднимая головы, ответила Груня.
– И про любовь имеется?
– Есть и про любовь. Хотите прочесть? – И, захлопывая книгу, услужливо подала ему. – Возьмите, прочитаете и вернете.
Озадаченный таким неожиданным предложением, парень в первую минуту не знал, что ответить. Но, видимо, не желая отступить от заранее подготовленного плана, сказал с наигранным великодушием:
– Нет, зачем же, дочитывай на здоровьечко, мне не к спеху. Да, признаться, не обожаю я книжную любовь. За буквами, как за посадкой, не разглядишь ее. – Он все больше входит в роль, смеющиеся глаза озорно блестят. – Мне бы настоящую любовь, она послаще.
И ближе подвигается к девушке, что-то шепчет ей.
Груня порывисто выпрямляется и, будто соображая, где находится, медленным взглядом обводит вагон. Все, кто был в нем, молча смотрят в ее сторону, с нетерпением, как ей кажется, ожидая чего-то веселого и необычного.
Тимофей тоже встает и преграждает ей дорогу.
– Уже и обиделась, – говорит он как бы извиняющимся голосом, но в глазах еще ярче вспыхивают насмешливые огоньки. – А я про серьезную любовь хотел…
Девушка не дает ему договорить. С неизвестно откуда взявшейся у нее силой отстраняет парня и легким стремительным шагом направляется к двери.
В это время поезд подходил к шахте. Паровоз, шумно отдуваясь, легкими толчками сдерживал набегающие вагоны. Проводник стоял у открытой двери с желтым свернутым флажком. Взглянув на Груню, он сразу же решил: произошла какая-то серьезная неприятность. Щеки ее горели, а в глазах блестели слезы. Иван Степанович не успел даже спросить у девушки, что с ней, как она быстро сошла на ступеньку и на ходу спрыгнула на заснеженный перрон.
Провожая девушку взглядом, старый кондуктор с горечью подумал, что он никогда больше не увидит ее в своем вагоне.
Но Иван Степанович ошибся. Спустя несколько дней Груня снова появилась. Это произошло на шахтной остановке, когда поезд был уже до отказа набит рабочими ночной смены. В ожидании свистка дежурного кондуктор стоял у ступенек вагона, держа в руке фонарь. Был предрассветный час. Над шахтой еще висело светлое зарево от электрических ламп. Груня подошла незаметно, поздоровалась. В темноте не было видно ее лица. Иван Степанович не поднял фонарь. Он сразу же узнал ее по голосу. В одной руке у девушки чемодан, другой она поддерживала свисавшую на боку чем-то до отказа набитую парусиновую сумку.
– Никак совсем уезжаете от нас? – поздоровавшись, спросил Иван Степанович и тут же вспомнил Тимофея Сенокоса, который, по его мнению, был тому причиной.
Девушка даже удивилась:
– Нет, что вы! Буду библиотекарем в вашем поезде.
И она рассказала, что шахтный партийный комитет решил создать библиотеку в рабочем поезде, потому что много горняков живет в новых строящихся поселках, где пока нет ни книжных магазинов, ни библиотек.
Говорила она быстро, пропуская слова, и по голосу ее можно было догадаться, что она улыбается.
– Молодцы, хорошее дело придумали, – с облегчением вздохнув, сказал старик. И против обыкновения немного заторопившись, взял из рук девушки чемодан, поставил его в тамбур и помог ей подняться на ступеньки. Гудок паровоза еще звучал, а вагоны уже тронулись, торопливо подлаживаясь друг к другу. Квадраты желтого теплого света поползли по снегу, ныряя в сугробах.
Когда немного отъехали от станции, Иван Степанович вошел к себе в купе. В крохотной каморке с двумя полками сидела Груня.
– Если разрешите, Иван Степанович, – сказала она, близоруко щурясь, – я буду оставлять чемодан с книгами у вас. Не таскать же мне его по всем вагонам.
С этого дня в жизни старого кондуктора открылась еще одна светлая страница. Выбрав минуту, когда Груня уходила раздавать книги пассажирам, Иван Степанович с трепетным благоговением принимался рассматривать книги. Он чувствовал себя так, словно ему доверили охранять невиданное богатство.
О многих книгах он часто слышал от своих детей, знал даже, что в них написано, но сам так ни одной и не прочел. Газеты он читал регулярно, а для книжек не хватало времени, да и охоты к ним особенной не было.
И вот теперь старый кондуктор испытывал такое чувство, будто в чем-то был виноват перед ними.
Груня за день по нескольку раз обходила вагоны. Унося одни книги, она возвращалась с другими, уже прочитанными. Почти все они, побывав в руках, выглядели не такими новыми, распухали от бесконечных перелистываний. Ивану Степановичу было даже немного жаль их.
– Штрафовать бы надо таких нерадивых читателей, – сварливо советовал он Груня.
– Это очень хорошо, что вы полюбили книги, Иван Степанович, – проникновенным голосом говорила девушка. – И мне больно, когда книгу не жалеют. Да что поделаешь: читают то ее чаще не за столом, а в вагоне, в нарядной. Что поделаешь…
И не огорчение, не обида была написана на ее лице, а большая невысказанная радость…
Вскоре вагон Ивана Степановича стал похож на комнату-читальню. Правда, некоторые еще проводили время за домино, но уже не стучали так отчаянно костяшками и не пугали пассажиров неожиданным и громким, как выстрел: «Рыба!»
Постепенно книги и журналы начали вытеснять карты и домино. Все это происходило не сразу, а незаметно. Но вот в пятом вагоне вдруг не появился Тимофей, на это проводник сразу обратил внимание. Не показался он и на другой, и на третий день. Иван Степанович даже забеспокоился: не случилось ли чего с парнем? Но, подумав, решил: невелика потеря.
Ни разу не вспомнила о нем и Груня, как будто его совсем не существовало.
Между тем библиотека росла, и Иван Степанович уже начинал с беспокойством подумывать, как бы ему не пришлось уступать книгам и свою нижнюю полку.
Среди книг появились брошюры по разным шахтерским специальностям. Как пояснила Ивану Степановичу Груня, она принесла их в связи с организацией на шахте курсов механизаторов.
А дни летели. И вот, когда проводник перестал даже думать о Сенокосе, он опять объявился в пятом вагоне.
Одет Тимофей был не по-рабочему – в костюме, в наглаженной сорочке с воротником навыпуск. Лицо гладко выбрито, свежее, а глаза такие же задорные, цыганские. Только заметнее стали выдаваться скулы. Зайдя в купе, Тимофей поздоровался с Груней, затем с Иваном Степановичем. Достал из кармана черную из пластмассы коробку с домино, встряхнул ее и подал проводнику.
– Возвращаю за ненадобностью, деда. Время у меня теперь во какое дорогое! – и он провел ребром ладони по горлу.
Груня сразу же начала рыться в книгах, нашла нужную и подала парню:
– Она?
– Спасибо вам, – застенчиво с благодарностью улыбается Тимофей, – как раз этот механизм мы сейчас изучаем.
Иван Степанович прислушивается к разговору и удивляется, как быстро мчится жизнь и все в ней меняется буквально на глазах. Сколько он знает Тимофея? Лет десять, не меньше. А сколько угроз употребил, чтобы повлиять на парня! И все напрасно. Вот и выходит, чтобы умеючи подойти к человеку, нужен талант.
И хотя старый проводник не чувствовал за собой такого таланта, его глаза из-под приспущенных густых бровей светились теплотой.
1962 г.
Призвание
Когда я приехал на строительство крупной угольной шахты, хаотический беспорядок строительной площадки с ревом моторов и цементной пылью, бытовыми неудобствами внезапно обрушился на меня и, признаюсь, даже испугал. В первые дни я мучительно искал повода распрощаться со стройкой. Но прошел месяц, другой, и я уже стыдился своей слабости, старался не вспоминать о ней.
Теперь я работал в бригаде проходчиков, которой руководил Ефрем Платонович Скиба. Это был тихий с виду, лет сорока пяти человек. Ходил он не спеша, деловито, словно в глубоком раздумье, слегка опустив голову. Это делало его коренастую и без того невысокую фигуру совсем неприметной.
Но когда во время беседы Ефрем Платонович поднимал свои светлые, чуть суженные глаза, сразу же забывалась его неказистая внешность: в них светилась душевная проницательность, трогательная доверчивость и теплота.
Когда нас знакомили, он внимательно посмотрел на меня снизу вверх и, удивленный, спросил у своих хлопцев:
– Как думаете, не тесно нам будет с этаким богатырем в забое?
Роста я был действительно богатырского.
В ответ проходчики лишь улыбнулись. А Ефрем Платонович не то одобрительно, не то с тайной завистью сказал:
– Ну и вымахало тебя, казаче!
Профессия проходчика мне не понравилась. Если говорить откровенно, нелегкая она: всегда в сырости, в тесноте. К тому же иной раз попадаются такие крепкие породы, что рук лишишься, пока выдолбишь свой пай отбойным молотком. Но я видел, с каким уважением и любовью относится к своему труду наш бригадир, поэтому терпел и помалкивал. Скиба был неутомим и работал с увлечением, даже, как мне казалось, с удовольствием. В его руках отбойный молоток или тяжелый молот, которым мы разбивали большие глыбы, казались игрушкой. Он никогда не жаловался на усталость. Я же, несмотря на то, что считал себя вдвое сильнее этого уже пожилого человека, отработав смену, не находил места рукам. Так нестерпимо они ныли.
Как-то на глубине около ста пятидесяти метров нам неожиданно встретился чистый, золотистого отлива морской песок вперемешку с нежно-розовыми ракушками. На какое-то мгновение повеяло близостью моря, его манящим голубым простором. Мы догадывались, что этому песку и ракушкам сотни тысяч лет. Было удивительно, как они могли сохраниться, не превратились в обыкновенный жесткий песчаник.
Перед концом смены я заметил, что Ефрем Платонович, набив карманы своей заскорузлой куртки песком, первым влез в подъемную бадью. Такое с ним случалось редко. По обыкновению бригадир поднимался на поверхность последним.
Уже по дороге в общежитие Скиба догнал нас. Он довольно улыбался.
– Песочек, хлопцы, хотя и не золотой, а все же оказался любопытным для науки, – не без гордости объявил он. – В лаборатории такое о нем сказали.
Так неожиданно для себя я сделал еще одно открытие в этом человеке: оказалось, что Ефрем Платонович не просто бригадир, а еще и помощник ученых-геологов, следопыт неизведанного царства глубоких недр. И я постепенно начал как бы прозревать, по-настоящему понимать значимость и глубокий смысл своей профессии.
Этому помогло еще одно обстоятельство.
Между женским и мужским общежитиями была танцевальная площадка – деревянный пятачок, как называли ее здесь. И вот однажды на танцах появилась девушка, которую я никогда до этого не встречал. Высокая, гибкая, с толстой косой бронзового отлива, искрящейся в электрическом свете. А глаза большие, фиалковые, с голубыми сполохами. И бывают же на свете такие!
В тот вечер я танцевал с ней и узнал, что зовут ее Нюрой. Работала она на строительстве электросварщицей. С той поры что-то неладное стало твориться со мной. Все время я вспоминал Нюру, ее глаза, косу, и день за днем для меня проходили как в тумане.
По вечерам в окнах общежития, где я жил, от электросварки играли голубоватые отсветы. То были тягостные для меня минуты. Я никуда не выходил из своей комнаты, так как в это время Нюра была на работе.
Когда у нее случался свободный вечер, я заходил за ней, и мы, взявшись за руки, шли к берегу Донца. В тихой глубокой воде трепетали крупные звезды, время от времени по ту сторону реки, в лесу, какая-то ночная птица, точно заблудившийся человек, вскрикивала: «Я тут!.. Я здесь!..»
Но не было в ее голосе ни тревоги, ни отчаяния. Казалось, она просто напоминала, что мы с Нюрой здесь не одни и что нам надо быть поосторожнее. И все же в один из таких вечеров я признался Нюре, что люблю ее. Она выслушала меня молча, опустив взгляд, и ничего не ответила. Так же молча мы вернулись к общежитию, где она жила.
В коридоре мы по обыкновению долго стояли у дверей Нюриной комнаты. Как-то я взял ее руку и повернул ладонью кверху, провел пальцем по тугим бугоркам мозолей.
– Трудно тебе, Нюра? – спросил я.
– Я люблю свою работу, – не задумываясь, ответила она.
Но мне почему-то казалось, что ей очень трудно и что она с радостью отказалась бы от своей профессии.
Однажды, в минуту расставания, я положил ей руки на плечи и хотел поцеловать. Нюра отступила на шаг и юркнула в комнату.
Спустя несколько дней я снова заговорил о том, что не давало покоя моему сердцу. Я сказал, что она должна стать моей женой, что ей надо бросить свою нелегкую и небезопасную профессию.
Нюра слегка вздрогнула, испытывающе и отчужденно посмотрела на меня.
Мы еще долго ходили по берегу Донца, о чем-то говорили, но она ни разу не подняла на меня своего взгляда. Мне показалось, что я вдруг потерял для нее интерес.
Наконец она проговорила:
– Мне холодно, пойдем домой.
Я снял пиджак, накинул на ее зябко сжавшиеся плечи. Она поблагодарила, но так за всю дорогу и не расправила их.
С той поры Нюра стала избегать меня.
Все это было странно и непонятно. Я был не на шутку встревожен такой переменой.
Однажды в обеденный перерыв я отыскал Нюру на стройке. К счастью, никого поблизости не оказалось. И я спросил у нее:
– Почему ты меня избегаешь, Нюра?
– Не избегаю, но… – она запнулась и вдруг с неожиданной решимостью добавила: – Нам лучше не встречаться, Павел. Я не смогу быть такой женой, какую ты хотел бы. – При этом она, даже не взглянув на меня, завернула остаток завтрака в смятую газету и принялась за работу.
С той минуты я не переставал думать о том, что судьба поступила со мной жестоко, несправедливо, что отныне радость не коснется моего сердца – вряд ли я когда-нибудь смогу полюбить другую.
Вскорости мне полагался отпуск, и это немного радовало. Я решил поехать в село к родным. Возможно, там немного забудусь, приду в себя.
Перед отъездом я все же постарался встретиться с Нюрой, сказал ей:
– Завтра уезжаю, пришел проститься.
Мне думалось, что она скажет: «Не уезжай, Павел!» Но Нюра спокойно посмотрела на меня долгим взглядом и проговорила:
– Счастливой дороги, Павел.
И быстро пошла в общежитие.
В тот год лето выдалось пасмурное. Дожди шли с небольшими перерывами и днем и ночью. Вспышки молнии напоминали мне зеленовато-голубые огни электросварки. В их ярком отблеске я видел Нюру. Видел ее не такой, какой она была на работе, в грубом комбинезоне, со щитом, закрывавшим лицо, а нарядную и красивую, когда она майскими звездными вечерами ходила рядом со мной по кривым опасным тропкам у крутых берегов Донца.
На душе у меня было тоскливо и неуютно. Я не дождался конца отпуска и уехал обратно на стройку.
Поезд пришел поздно вечером. Шагая по степному проселку, я напряженно всматривался в темноту, надеясь увидеть зарницы электросварки. Но так и не увидел их. Лишь звездная россыпь электроламп трепетала вдали. Ефрем Платонович, встретив меня, нахмурился:
– Гуляй, где хочешь и как хочешь, но учти: на работу раньше срока не допущу, – объявил он сердито.
В тот же день я узнал, что Нюра заболела, и мне почему-то подумалось, что именно поэтому минувшую ночь на стройке не было голубых огней электросварки.
Нюра лежала в больнице.
Меня проводили к ней в палату. Если бы сестра не сказала, что это и есть Нюра, я ни за что бы не узнал ее: лицо девушки было забинтовано белоснежной марлей.
– Что случилось, Нюра? – невольно, как вздох, вырвалось у меня.
– Павлик… – удивленно сказала она и приподнялась на локтях.
Я бросился к ней и бережно уложил ее голову на подушку.
Она глубоко вздохнула и только тогда ответила:
– Глаза…
У меня защемило сердце. Я не знал, что ей сказать. Молчала и Нюра.
А спустя минуту меня предупредили, чтобы я уходил, не утомлял больную. Я тихо поднялся со стула.
Но Нюра, услышав, сказала:
– Заходи.
Я подал ей руку. Она пожала ее, как мне показалось, крепче, чем в последнюю нашу встречу.
Я приходил к ней каждый день. Ее лечил врач-старичок с аккуратной серебристой бородкой и добрыми подсматривающими из-под очков маленькими глазками. Он вылечит Нюру! В этом я почему-то не сомневался.
Всякий раз, когда я приходил к ней, она пожимала мне руку и, доверчиво опираясь на мое плечо, подходила к окну. Я догадывался, что Нюра была рада моему приходу, и был счастлив.
У окна Нюра останавливалась, чутко прислушивалась к неумолчному шуму стройки и ко всему, что происходит в мире.
– Неужели я всего этого больше не увижу? – очень тихо спрашивала она.
Чтобы хоть немного утешить ее, я уверял, что у нее нет ничего опасного и что все будет хорошо. Я не врал и ничего не выдумывал. Об этом мне говорил врач-старичок, а я верил ему. Я знал: вновь откроются красивые фиалковые глаза Нюры. Эти глаза будут смотреть на жизнь, на нашу стройку, на меня. А еще я надеялся, что теперь она откажется от своей профессии. Об этом мне все время хотелось сказать ей, но я не решался.
А Нюра все так же печально продолжала:
– Как я люблю наш Донец, наш лес, цветы, нашу стройку…
Она вытягивала руки в окно, словно хотела прикоснуться ко всему, что было за ним.
Где-то на стройке заработала сварка. Отсветы далеких сполохов играли лазоревыми бликами на марле, закрывавшей лицо девушки. Нюра на некоторое время замерла на месте и после долгой паузы проговорила:
– А мне все еще чудится сварка…
Нюра давно выздоровела и по-прежнему работает электросварщицей. Большие фиалковые глаза ее сияют весельем и радостью. Мы почти ежедневно встречаемся. Только я никогда не напоминаю ей о спокойной, беззаботной жизни, о которой в свое время мечтал. Я понял: нельзя отрывать человека от родного дела, иначе он поблекнет, увянет, утратит свою ценность и красоту.
Понял и другое: Ефрем Платонович и Нюра по-настоящему любят свою профессию. Она прочно вошла в их жизнь, стала их призванием. Потому-то им так дорого все, что они делают, и радость вдохновения никогда не покидает их. Они счастливы.
Я же, видимо, все еще не нашел своего призвания, своего счастья. Но уверен, что непременно найду его.
1963 г.







