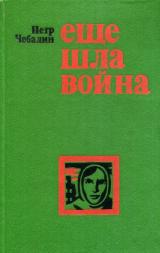
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
– Вижу, не признал меня, служивый, – не переставая приглядываться в упор, говорил он, – да и я не сразу разглядел тебя. Оказывается, дорогой гость пожаловал: отпрыск Платона Королева, машинист врубовой.
Теперь Сергей узнал в нем горного десятника Лукьяна Грызу.
– Выходит, путь держал в родительский дом, а угодил в блиндаж, – затаив невеселую усмешку, продолжал Грыза. – Теперь, считай, добрая половина поселка живет по-солдатски – в блиндажах да окопах. Немец всю Вишневую начисто снес. На траншеи, ирод, употребил. Понарыл их, как крот нор, а все оказалось понапрасну: наши узнали про ихний бастион, взяли да и обошли его кружным путем.
Старик ближе – колени в колени – подвинулся к Королеву, прищурился, как прицелился:
– Так что, в самом деле не признаешь Грызу?
– Только теперь узнал, Лукьян Агафонович. Бороды-то у вас до войны такой не было.
– Была, да не такая, это верно.
Разговорились. Королев узнал, кто из его друзей и знакомых ушел на фронт, кто остался.
– Детишки, бабы да такие старики, как я, – вот и весь наш теперешний «Коммунар», – с горькой усмешкой сказал Грыза. И вдруг спросил: – А заправилой знаешь, кто у нас все эти годы был? Десятник Шугай, Николай Архипович. Комендант самолично штейгером его назначил. Не знаю, как он теперь вывернется… – крутнул он головой.
Королев хорошо знал Шугая. До войны он работал горным десятником. Это был незаметный, тихий с виду человек, но дело вел в своей смене аккуратно и строго, по всем горным правилам.
– Как же он здесь остался? – спросил Королев. Грыза улыбнулся, погладил бороду.
– Чудной вопрос… А как я остался?.. А другие как? Не по своей же охоте к нему в лапы пошли. – Посмотрел строго на гостя и умолк.
До войны Лукьян Грыза состоял в религиозной секте баптистов. Сын его Ерофей также исправно посещал молитвенный дом. Работал Ерофей крепильщиком. Многим казалось, что ходит он на спевки к баптистам больше из страха перед своим суровым отцом. Был Ерошка от природы немногословен, скорее даже молчалив.
Вспомнив о Ерофее, Королев поинтересовался, где он теперь и что с ним? Грыза глубоко, шумно вздохнул и угрюмо склонил голову. В землянке надолго воцарилось молчание. Сергей в душе упрекнул себя: может Ерофей погиб на фронте, и он, Королев, своим неосторожным напоминанием о нем только растравил отцовскую рану, и поторопился утешить:
– Ничего, отец, за наше горе немец еще хлебнет…
Грыза забрал конец бороды в кулак, мял ее. Глаза его увлажнились, веки покраснели.
– Нет, не выхлебать ироду моей печали, – едва выговорил он и всхлипнул было, но сдержал вздох, встал и принялся ходить босыми крепкими ногами от двери к глухой стене, как в клетке – тяжело, грузно. Ходьба немного успокоила его. Обвисшие брови расправились, чуть приподнялись.
– Ты как, насовсем или на побывку? – спросил он уже иным голосом. Королев понял, что старик уклоняется от нелегкого для него разговора о сыне, ответил, что насовсем. Грыза задержал взгляд на его раненой руке, понимающе кивнул.
– Где же думаешь обосноваться, или еще не решил? – И не дожидаясь, что ответит гость, скептически оглядел землянку, сказал: – Можно б и у меня, да только пожелаешь ли остаться в этой берлоге?
– Спасибо. Место я себе найду, Лукьян Агафонович.
Старик вышел провожать гостя. Когда Вишневая улица осталась позади, сказал негромко и как будто таинственно:
– Пойдем, Серега, взглянешь на могилку…
Спустились по узкой кривой тропке в неглубокую ложбину, поросшую поздней темно-зеленой травой. Когда-то по дну ее протекал мутный ручей, вскипая на глыбах шахтной породы. Теперь русло высохло, обнажив изъеденные ржавчиной куски бросовой жести, ведра, разный хлам. На покатом месте, неподалеку от канавы, поднимался небольшой земляной холмик, заботливо обсаженный осенними цветами. У холмика кудрявился молодой тополь. Старик приблизился к нему и, опустив на грудь голову, замер в молчании. Затем медленно повернулся лицом к Королеву, выговорил пресекающимся голосом:
– Ерошка… сын мой… Единственное чадо мое… – и, морща лицо, сапнул носом.
Сергей снял пилотку. Стоял, думал: как же так случилось, что Ерофей Грыза здесь похоронен? Выходит, не был на войне, помер или убит при бомбежке?..
– Осиротел я навсегда, навеки… – всхлипывал старик, смигивая скупые слезы на широкую бороду.
Немного успокоившись, Лукьян Агафонович поведал, как однажды в полночь кто-то вкрадчиво постучал в оконце. По стуку он сразу узнал сына. Дрожащими руками засветил каганец, кинулся открывать дверь. Перед ним предстал полуживой от голода и изнеможения, давно не бритый человек в суконном, из тощего солдатского одеяла, больничном халате. В мигающем свете каганца пришелец показался Лукьяну Агафоновичу неземным существом, страшным призраком. Он в ужасе даже отшатнулся и уже готов был прихлопнуть дверь, но отчаянный крик «батя!» остановил его.
Ерофей бежал из лагеря военнопленных. Добирался к родному дому по ночам – одичавшей степью, глухими оврагами, балками. Спал, где придется: в скирдах соломы, в заброшенных колхозных овинах. Грыза скрывал сына в землянке. Когда, случалось, приходил к нему кто-нибудь, Ерофей прятался под дощатый полог, который служил старику кроватью. Лукьян Агафонович ясно отдавал себе отчет, какая суровая кара ждет его за скрытие советского военнопленного. В лагере Ерошка заполучил скоротечную чахотку. Лукьян Агафонович делал все, что было в его силах, стараясь спасти сына, но хлопоты оказались напрасными. Спустя месяц Ерофея не стало. Похоронил его старик ночью, чтоб никто не видел. Заметив свежую могилу и цветы на ней, люди немало были удивлены: чья она и какая добрая душа проявляет столько заботы о ней?..
ГЛАВА ВТОРАЯЕще доносились приглушенные расстоянием гулы больших и малых боев, к небу всходили дымы далеких и близких пожаров, а по шоссейным и грунтовым дорогам почти непрерывно двигались в тучах пыли грузовые машины, набитые людьми и узлами.
Вслед за машинами по дорогам и бездорожью, балками и прямо по степи, кучно и вразброд катился поток людей: одни с узелками и заплечными мешками, другие толкали перед собой тележки с убогим домашним скарбом; держась за подолы матерей, семенили притомившиеся ребятишки.
Возвращались из Караганды, Кузбасса и других отдаленных и ближних мест в свои родные края шахтеры, их семьи. При любой погоде они неотступно тянулись за фронтом. Их бомбили, поливали свинцом вражеские самолеты, но ничто не могло остановить неудержимый поток. Командование не один раз приказывало не допускать штатских близко к действующей армии, держать их в 10—15 километрах от фронта. Приказ сохранял свою силу только первые несколько дней и то лишь в том случае, когда наступление наших передовых частей временно приостанавливалось. Но стоило им прорвать оборонительный рубеж неприятеля, как все снова приходило в движение.
До войны в центре города на возвышенности стояло трехэтажное здание, обсаженное по фасаду молодыми кленами. Его было видно с любой части города. В нем размещались горком партии и горисполком. А сейчас от этого здания осталась одна задымленная коробка без окон и дверей.
Как только был освобожден Красногвардейск, к зданию горкома со всех концов потянулись грузовые машины. Изнуренные многодневной трудной дорогой люди выпрыгивали из кузовов, бродили по пустынному двору, закиданному черным горелым кирпичом и россыпями битого стекла, спрашивали друг у друга, где же теперь горком. Оказалось, что горком разместился в другой части города.
То был одноэтажный двухквартирный каменный дом, какие строили для семейных рабочих. Казалось, дом чудом обошла война, не причинив никакого вреда.
Вскоре у горкома стали выстраиваться грузовые машины. Двор напоминал шумный табор: жгли костры, стряпали пищу, вели нескончаемые разговоры.
Все время войны, от первого дня до нынешнего, было слито для этих людей в один беспрерывный тяжкий день. Никому из них не было легко: у одних родные и близкие погибли в оккупации, иные лишились семей по дороге на восток во время бомбежек. Все, что было у них молодого, здорового, они отдали фронту. Непривыкшие к лютым сибирским морозам, к удушающей жаре казахстанских степей, трудились, не зная отдыха, забыв, что у каждого из них может быть личная жизнь.
– Ну что, на свою шахту направили? – спрашивали у тех, кто побывал на приеме.
– То-о-очно!..
– Чудак голова, чему радуешься, думаешь, «Глубокую» немец целехонькой для тебя приберег?
– Какая ни есть – родная!..
Центром одной группы поджидавших своей очереди на прием к секретарю горкома был большой лет сорока пяти мужчина, с лицом в темных крапинах. В отличие от других, заросших многодневной жесткой щетиной, пропитанных дорожной пылью, он был гладко выбрит, из распахнутого пиджака выглядывала хорошо проглаженная косоворотка. Сразу видно – человек не претерпел дорожных невзгод.
Когда подоспела его очередь на прием, стал поспешно пробираться к двери, на ходу оправляя полы пиджака. Кто-то сказал вслед ему:
– Оказывается, десятник Шугай остался при немцах и спас шахту «Коммунар».
– Не похоже, чтобы ему худо пришлось: видал, какую шею наел!
Поднимаясь на порожек, Шугай успел расслышать последние слова, но не обернулся, решительно шагнул в сени.
В большой комнате, когда-то служившей хозяину столовой, принимал людей высокого роста с обветренным утомленным лицом подполковник.
Прием длился третьи сутки, не прекращаясь ни днем, ни ночью. Казалось, человек этот совсем забыл об отдыхе. Но входившие невольно обращали внимание на старенький, просиженный диван, прислоненный к стене, на нем подушка и суконное одеяло, сложенные горкой. Видимо, секретарь все же умудрялся выкроить какой-то час для отдыха.
Стоя за кухонным столом, покрытым линялой, с чернильными пятнами, красной скатеркой, подполковник уважительно пожимал руки подходившим к нему, с некоторыми по-дружески обнимался. В комнате не умолкал сдержанный говорок.
У стола, напротив секретаря, стоял пожилой сутулый мужчина в очках в железной оправе; вместо заушников на них – шнурки. Он живо говорил:
– Докладую, товарищ Туманов: наш «Красный Октябрь» сегодня выдал на-гора первые десять вагончиков угля.
– Уцелела шахта, что ли? – удивленно и немного недоверчиво спрашивал у него секретарь, раскуривая трубку.
– Не полностью: одно крыло верхнего горизонта удалось частично спасти.
– Молодцы! – выражал свое одобрение Туманов.
– Молодцы-то молодцы, товарищ секретарь горкома, да только корабль наш, так сказать, без руля и без ветрил…
– Не понимаю, конкретней.
Человек в очках смущенно улыбнулся.
– Анархия на шахте процветает, отсутствует руководство.
– А вы же там зачем, товарищ Сеничкин? – щурясь от дыма, уже строго спросил Туманов.
– Я ведь всего-навсего бывший нормировщик и непосредственного отношения к добыче не имел, а теперь пришлось. В силу необходимости, так сказать.
– Ну и что же, получается?
– Да вроде бы получается, – замялся тот, – я ведь в прошлом – шахтер, проходчик.
– Так это же замечательно! – с чувством сказал секретарь. – Немедленно принимайте в свои руки, так сказать, бразды правления. Сейчас такие люди, как вы, на вес золота, – и громко через головы посетителей крикнул управляющему трестом, сидевшему в другой комнате: – Товарищ Чернобай, оформляй Кузьму Платоновича Сеничкина временным начальником «Красного Октября». – И уже самому Сеничкину: – Пока временно, а там видно будет. Ну, желаю успеха!
Они крепко пожали друг другу руки.
К секретарю подошел худой, заросший серой щетиной человек. На нем были шахтерские чуни, подвязанные проволокой, на плечах женская кофта крупной вязки без пуговиц, в грубых заплатах. Туманов с трудом узнал в нем бывшего сменного инженера шахты «Крутая» Горелика. Выслушав горестный рассказ человека, исколесившего вместе с тачечниками всю Украину, спросил:
– Так что решили делать, товарищ Горелик?
– Работать, Петр Степанович, – несмело ответил инженер, – прошу назначения… Если, конечно, доверите.
Секретарь, зажав потухшую трубку в кулаке, еще раз пытливо вгляделся в изможденное, с выражением суровой печали лицо инженера. Он с трудом держался на ногах.
– Вам бы отдохнуть, привести себя в человеческий вид, – начал было Туманов.
Горелик не дал ему договорить.
– Благодарю. Я не устал и вполне здоров. – Он с брезгливой иронией оглядел всего себя. – А ветошь эту сменю на шахте. Думаю, что там у меня найдутся старые знакомые.
– Что ж, тогда получайте направление и приступайте к прежним обязанностям, – сказал секретарь.
Глаза инженера увлажнились. Кадык челноком скользнул под подбородок. Горелик долго с чувством жал руку секретаря, затем обессиленно опустился на стул, спрятав лицо в ладони…
Пока секретарь разговаривал с посетителями, Шугай, поджидая своей очереди, стоял в сторонке. Николай Архипович знал Туманова с юношеских лет. Работал он на шахте «Коммунар» лампоносом, крепильщиком, но вскоре как-то незаметно выдвинулся, стал комсомольским вожаком. Вспомнилось, как Петька Туман – так одни уважительно, другие с неприязнью называли этого парня – вместе со своими дружками комсомольцами закрывал церкви, сбрасывал с позолоченных куполов кресты и колокола, сжигал на кострах хоругви, иконы – всяческую церковную утварь. Бывало, в овраге за поселком комсомольцы во главе со своим вожаком расстреливали из малокалиберной винтовки карикатурные портреты Черчилля и Чемберлена. Поглазеть на такое диковинное зрелище собирались толпы посельчан – взрослые и детишки. Николай Архипович, как и многие в то время, считал затеи комсомольцев мальчишеским озорством.
Случалось, что Петька Туман куда-то надолго исчезал из поселка и, когда о нем потихоньку начинали забывать, вдруг снова появлялся. Где пропадал, что делал в это время, толковали по-разному: одни утверждали, что ездил в Москву на какие-то курсы, иные не то в шутку не то всерьез говорили, будто Туман мотался по свету, искал свою жар-птицу, а нашел, нет ли – никому об этом не говорит, держит в секрете. А когда, спустя год-другой, Петька Туманов стал видным в районе человеком – вожаком всей комсомолии, а вскорости каким-то чином в партийном райкоме, только тогда Николай Архипович поверил, что тумановская жар-птица – не досужая выдумка, не сказка. Петька не зря старался, добыл-таки свою жар-птицу.
Тогда же Шугай, пожалуй, впервые критически взглянул на самого себя и был немало огорчен и удивлен: прошли лучшие годы – молодость, а он не сдвинулся с места, как намертво вкопанный столб. Вместо того чтобы, как и Петька, учиться, расти, он всю свою молодую энергию употребил на другое: на постройку собственного домишки, обзаведение личным хозяйством – коровой, кабанчиком, домашней птицей. И вышло: вроде б лично обогатился и в то же время обокрал самого себя. И понимая, что уже ничего нельзя поправить, смирился, сказав себе: как замешал, так и выхлебывай…
Увидев Шугая, Туманов поспешно выбрался из-за стола, обрадованный, пошел к нему, вскинув руки для объятий.
– Николай Архипович, дорогой!.. – только и сказал. А когда развели руки, все еще взволнованный, проговорил: – Ничего не рассказывай, я все про тебя знаю… Королев пришел на шахту?
– С пораненной рукой он.
– Знаю, – не дал ему договорить Туманов, – рана у него пустяковая, заживет. Пошли к управляющему. «Коммунар» надо в первую очередь ставить на ноги…
И, подхватив Шугая под руку, увлек в соседнюю комнату.
Когда началась война, Туманову не довелось сразу попасть на фронт. Ему, второму секретарю горкома, было поручено сопровождать в Караганду эшелон с горным оборудованием. Обидно, очень обидно было ему, здоровому человеку, уезжать за тысячи километров, в глубокий тыл.
На несколько дней раньше, чем он, эвакуировалась на Урал вместе со своим заводом горного оборудования его жена, Юлия Яковлевна – инженер-механик. Им очень хотелось быть если не вместе, то хотя бы поближе друг от друга – в одном городе, даже области. Но ни он, ни Юлия не предприняли попытки что-нибудь сделать для этого: тысячи сердец разлучены войной. Что же, они лучше других, что среди этого лихолетья хотят ничем не омраченного счастья…
Туманов все время искал предлога попасть на фронт и не мог сказать, что ему в этом отношении не повезло. Не успел он еще как следует распорядиться привезенным оборудованием, определиться в должности, как его вместе с другими партийными и советскими работниками призвали в действующую армию. То был трудный для страны канун 1942 года.
Комиссар Туманов вместе со своей воинской частью освобождал Донбасс. Когда вышли к реке Волчьей, что на границе с Днепропетровщиной, полк задержался. Надо было собраться с силами для очередного мощного рывка. Спустя несколько дней (это случилось в ночь перед наступлением) Туманову позвонили из дивизии и сказали, что по предписанию вышестоящих инстанций он отзывается на работу в Донбасс в свой район. Туманов попросил отложить исполнение приказа. Ему хотелось участвовать в бою. Подготовив полк к выполнению наступательной операции, он считал невозможным оставить его в решающий час.
Но нельзя было не подчиниться: приказ есть приказ. Сдав дела замполиту батальона, он в ночь перед наступлением на трофейном «виллисе» покинул полк.
Остановил свой «виллис» в небольшом хуторке, километрах в трех от линии фронта, где расположились артиллеристы. До рассвета оставалось несколько часов, но никто не отходил от своих орудий, все ожидали приказа.
Первый артиллерийский залп прогремел неожиданно, хотя Туманов ждал его каждую секунду.
Канонада продолжалась минут пятнадцать, затем внезапно все утихло. Туманову хорошо была знакома эта кажущаяся тишина, и он, еще оглушенный орудийным гулом, напряженно прислушивался. Со стороны, где располагался его полк, как сквозь стену, услышал беспорядочную трескотню автоматов и слившееся в одно протяжное а-а-а-аа…
– Пошли!.. – как вздох облегчения, вырвалось у него.
Туманов выехал из хутора только тогда, когда артиллеристы поспешно начали выкатывать орудия из укрытий на новые позиции…
Два раза в день из обкома передавали по полевому телефону сводки Совинформбюро. Помощник Туманова, Сергеев, перепечатывал их на машинке. Мальчишки, постоянно кружившие возле приезжих грузовиков, в охотку расклеивали листовки по всему городу.
Фронт к тому времени отодвинулся далеко и с каждым днем развертывался все шире и неукротимее: наши передовые части на северо-западе достигли Кенигсберга. Первый Украинский фронт сосредоточил свои ударные силы на берегу Днепра для решающего наступления.
Вчитываясь в фронтовые сводки, Туманов старался мысленно представить себе, где теперь его полк, и всякий раз при этом испытывал такое чувство, будто он остался в далекой тихой гавани, надежно защищенной фронтами, точно цепью неприступных гор. Но для него теперь существовал не только тот фронт, который ограждал город от орудийных разрывов и бомбежек. У него был свой, тот, который он нанес на карту и о котором ни на минутку не переставал думать. Пока что фронт этот мало чем радовал. Туманов часто вспоминал, как летом 1942 года их дивизия выходила из окружения. Из разрозненных групп пришлось создавать нечто похожее на воинскую часть. Не хватало оружия, боеприпасов, продовольствия; люди обносились, обессилели от недоедания. Что-то похожее было с положением дел в районе Красногвардейска. Надо было во что бы то ни стало выбраться из хаоса разрушений, рассчитывая только на собственные силы. А сил было недостаточно. Их почти совсем не было…
ГЛАВА ТРЕТЬЯНесколько дней Чернобай устраивал свое хозяйство. До этого он руководил шахтой в Кузбассе, а оттуда вернулся, облеченный высокими полномочиями управляющего трестом. Под трест Чернобай облюбовал бывший промтоварный магазин в центре города. Стены и крыша его не были повреждены. Не уцелели одни окна. Найти стекло в такое время – все равно что отыскать иголку в стоге сена. Но помощник по хозяйственной части Шулика все же раздобыл стекло. Егор Трифонович не стал расспрашивать, как он умудрился это сделать. Достал – и ладно.
Сразу же по приезде Чернобай стал подыскивать секретаря-машинистку. Приходили многие – молоденькие девушки и уже при годах женщины, но ни одна из них не отвечала строгим требованиям управляющего. Чернобай считал, что было бы неудобно, даже неприлично иметь у себя в приемной какую-нибудь девушку с кудряшками или слишком пожилую даму. Кроме того, девушки, которые приходили наниматься, как правило, умели выстукивать на машинке одним пальчиком, хотя некоторые из них делали это довольно бойко.
И вот как-то явилась еще одна – худенькая, остриженная под мальчишку девушка. На ней было пестрое короткое платьице с перехватом. Личико нежно-бархатистое от легкого налета пудры, серые с синевой глаза, как у ребенка – большие, застенчивые.
– Вы что, машинистка? – с недоумением покосился на нее управляющий.
Девушка быстро взглянула на сердитого человека и тут же опустила взгляд.
– Мне сказали, что вам требуется машинистка, – робко проговорила она.
– Даже очень требуется, только не с одним пальчиком, – не скрывая усмешки, подтвердил ее слова Чернобай.
– Как это с одним пальчиком? – удивленная, она посмотрела на свои маленькие руки с короткими ногтями в белых пятнышках. – У меня…
– Вижу, у вас все в целости, – не дал он ей договорить, – а печатаете небось одним, – и для наглядности выстукал указательным пальцем по столешнице «Чижика».
Девушка рассмеялась.
– Это вы шутите, герр… – сказала она, запнувшись на полуслове, – товарищ начальник. Я могу всеми сразу. Давайте, что вам отпечатать?
Егор Трифонович взял лист с машинописным текстом и через стол не особенно доверчиво протянул ей. Она проворно вложила в валики машинки чистый лист, села на стул и, вся как-то собравшись в комочек, принялась печатать. Чернобай смотрел на ее пальцы и не мог уследить за ними. Они, казалось, порхали на невидимых крылышках. Спустя некоторое время девушка подала ему оба листа.
– Вот, пожалуйста, проверьте.
Управляющий придирчиво сверил подлинник с отпечатанным текстом и не обнаружил в нем ни единой опечатки.
– Вот как! – раздумчиво и не без удивления сказал он. – Где же вы научились печатать?
– Я еще когда училась в восьмом, посещала курсы машинописи. Ну, а потом – война… – она запнулась и опять виновато потупила взгляд.
– Ну-ну, война, а дальше?.. – подбодрил он ее.
– А при немцах работала на бирже машинисткой.
– Ах, вот как!.. Но ведь на бирже все надо было печатать по-немецки, – недоверчиво сощурился Чернобай.
– Потом научилась печатать и на машинке с немецкими литерами. А больше печатала приказы и всякие бумаги по-русски.
Егор Трифонович нетерпеливо поерзал на стуле, помолчал. Его смущало и настораживало то, что она работала на немецкой бирже.
– Какие же бумаги давали вам перепечатывать? – он еще сильнее прищурился, выпытывая в ее глазах, все ли правда, что она говорит.
– Больше списки людей, которых направляли на разные работы, – не замечая его недоверчивого взгляда, просто сказала она, – да еще всякие угрозы, чтоб люди являлись на биржу регистрироваться.
– И что же, являлись?
– Не все, конечно, многие не хотели работать на немцев.
– А твой отец работал? – тем же суховатым голосом спросил он.
– Что вы! – отмахнулась она от его вопроса. – Мой папа на фронте. С самого начала войны. А мама больная. Фамилия моя Чубейко. Может, слыхали?
– Вот как!.. Чубейко, говоришь? – Чернобай от неожиданности даже подхватился с места. Лицо его расправилось от суровых морщин.
– Чубейко Максим Васильевич, – невольно отступив на шаг и все еще не сводя удивленных глаз с начальника, тихо выговорила она, – зовут меня Фрося, Ефросинья Максимовна.
– Да ведь я хорошо знаю Максима Васильевича, – радостно воскликнул Чернобай, – на «Марии» крепильщиком работал. А я в ту пору «Марией» заведовал.
Он подошел к девушке, обнял за худые плечи, ласково посмотрел в глаза. Они были влажные и блестели.
– Вылитый отец, и нос такой же, с курносинкой, – сказал он и нахмурился. – Только ты не пудрись. Тебе это ни к чему.
– Это я при немцах научилась. Заставляли, – смутилась она.
– Отвыкай, Ефросинья Максимовна, – по-отечески посоветовал он и опять вернулся к столу. Поспешно собирая какие-то бумаги в портфель, Чернобай говорил: – Значит, так порешим, Максимовна, бери бразды правления в свои руки. Вот тебе ключ. Приедет мой помощник, товарищ Шулика, скажешь ему, что ты мой личный секретарь, понятно?
Фрося слушала молча, перебирая пальцы.
– И еще передашь ему, что ты в мое отсутствие замещаешь меня, – он добродушно засмеялся и, проходя к двери, опять слегка сжал ее хрупкие девчоночьи плечи. – Одним словом, Шулика тебе все объяснит, а мне позарез нужно на шахты. Вот так.
И с озабоченным видом вышел.
Несколько дней колесил он по району на запыленной полуторке и всюду встречал одну и ту же картину: поваленные копры, взорванные надшахтные здания с повисшими на арматуре тяжелыми глыбами бетона, полуразрушенные и сожженные жилые дома, непролазный бурьян в поселковых парках и скверах. Что ж ему делать здесь, с чего начинать? Более двадцати шахт, которые составляли хозяйство треста, были зверски изуродованы. Порой казалось странным и удивительным, что среди этого хаоса и запустения что-то делают люди, о чем-то хлопочут. Утешало одно: кое-где уцелели шахтенки-«мышеловки». При немцах в них дедовским способом долбили уголь обушками, кайлами и поднимали на-гора с помощью коловорота в бочках из-под горючего.
Приезжал на шахту Чернобай, поспешно созывал людей, назначал начальников «мышеловок», – это были главным образом шахтеры-пенсионеры, – устанавливал твердое суточное задание добычи и, не задерживаясь лишнего часа, мчался дальше. Подсчитав в конце поездки, сколько в районе шахтенок, Чернобай немного приободрился. Их оказалось до тридцати, и они могут дать до пятисот тонн угля в сутки. Для начала – совсем неплохо.
Уезжая из города, Чернобай не прихватил с собой никакой еды. Попросить у кого-либо поесть было неловко, а люди стеснялись угощать большого начальника своими скудными харчишками. Проезжая полевой дорогой, по обе стороны которой простирались разделенные межами огороды, шофер пожаловался:
– Егор Трифонович, что-то есть охота.
– Да, поесть бы не мешало, – соглашался Чернобай, проглатывая голодную слюну, – но ничего, потерпим.
Шофер, казалось, успокоился и некоторое время вел машину молча, лишь изредка сбоку поглядывая на своего начальника. Но не прошло и пяти минут, как снова заговорил:
– Егор Трифонович, а что, если початков наломать да сварить? Ведерко у меня имеется, и соли целая пачка – «Экстра», – добавил он, словно то, что соль была высшего качества, решало дело.
Чернобай, казалось, не расслышал, о чем ему говорят, не оборачиваясь, задумчиво глядел прямо перед собой на дорогу. Шофер решил, что начальник молчаливо соглашается с ним, притормозил машину, проворно вынырнул из кабины и, опасливо озираясь, поспешил к кукурузной делянке. Только что он успел войти в густую заросль, до его слуха донесся басовитый насмешливый голос:
– Случаем, не в гости ко мне пожаловал, голубь сизый? – И перед шофером тут же предстал, точно вырос из-под земли, высокий старик со взъерошенной седой бородой, в холщовой рубашке навыпуск.
Шофер опешил было, но быстро оправился, огрызнулся:
– А что, дед, небось и за маленьким нельзя сходить на твой огородишко? Приучили вас немцы к собственности…
– Не мое, народное это добро, парень, – спокойно и сурово отозвался старик. – Я сторож, только и всего. А сторожу положено нести службу исправно.
Чернобай напряженно всматривался в старика, прислушивался к его глуховатому голосу, и ему вдруг показалось, что он где-то уже встречал этого человека. Открыл дверцу и еще пригляделся. Сторож, не поднимая глаз, ждал, пока Грицько справит нужду, с серьезным видом ворошил рыхлую сухую землю суковатой клюкой, тихо нараспев причитая:
– У голубя, у сизова, золотая голова…
«Да это же Недбайло!» – наконец узнал он шахтного кузнеца. Вспомнил: кузнец Недбайло после ухода на пенсию стал самым заядлым в поселке голубятником. У его двора, бывало, часами простаивали ребятишки, завистливо наблюдая сквозь щели забора за суетливыми разномастными птицами. Когда старик кормил их, на это зрелище приходили посмотреть даже взрослые. На земле голуби сбивались в большие и малые сугробы, садились хозяину на плечи, взлетали на голову, клевали корм прямо из его рук. Ранним утром старик поднимал голубиную стаю в лет, размахивая в воздухе длинной жердиной с лоскутом на конце. Поселок еще утопал в молочно-мглистом рассвете, а голуби уже встречали солнце, кружась и кувыркаясь в его лучах. В этот час птицы были похожи на золотисто-розовые листовки, сброшенные с заоблачной синевы.
Чернобай поспешно выбрался из машины и радостно пошел навстречу старику.
– Игнатьевич, тебя ли вижу?
Сторож склинил дремучие брови, пригляделся, помолчал. Видимо, трудно было стариковским глазам сразу узнать человека. И вдруг ахнул от изумления:
– Кто приехал-то, Егор Трифонович! Вот так встреча! – обнял и расцеловал по старинному обычаю из щеки в щеку. – Выходит, живой, здоровый?.. Молодчина! – И еще раз обнял. – Так ему и надо! – пригрозил он кому-то суковатой палкой. – Немец думал, всем нам труба. Черта с два! Вот на что я: за седьмой десяток счет веду, а тоже не скорился. Не будь войны, может, давным-давно дьяволу или богу душу отдал. А раз такое крутое заварилось, зарекся: жить тебе Остап, пока земля от немчуры очистится. И как видишь – живу! – и рассмеялся вперемешку с кашлем, вытирая прослезившиеся глаза.
И вдруг засуетился:
– Чего стоять, пошли, Трифонович, посмотришь на мой дворец, – и, подхватив дорогого гостя под руку, повел к шалашу. Укрытый бурьяном и ветками терна, он ютился в кукурузной чаще.
– Ты не дивись, что дворец мой с виду вроде б неказист, – говорил старик, словно оправдываясь перед гостем, – архитектура у него такая. А в середке он как есть современный.
Чернобай заглянул внутрь.
– Настоящий окоп, – сказал он.
– Окоп и есть, – согласился старик.
– На что он тебе такой глубокий?
– А про бомбежки забыл?
– Важный военный объект, – вставил шофер с озорной усмешкой.
– Военный или не военный, голубь сизый, – возразил ему сторож, – а бомбили. Ночь-полночь – налетят, потеряют ориентир и давай молотить подсолнухи…
Раскладывая прямо на траве жухлую печеную картошку, огурцы, лук, вареные початки, сторож говорил:
– А за хлебушко уж извините, кукурузкой пробавляемся.
Когда уселись вокруг еды, Остап Игнатьевич вдруг спохватился:
– Погодите, это еще не все, – и скрылся в шалаше. Вскоре оттуда донеслась какая-то музыка, вначале тихая, и вдруг широко радостно зазвучал военный бравурный марш. Старик вышел из шалаша еще больше повеселевший.








