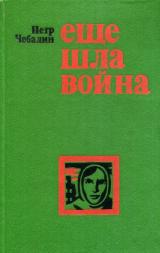
Текст книги "Еще шла война"
Автор книги: Петр Чебалин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Автоматчик Корней
I
Корней Гаврилов, несмотря на свои пятьдесят лет, выглядел молодцом. В стриженых волосах его не было ни одной седины. Лицо Корнея всегда чисто выбрито, без морщин. Только с широкого открытого лба никогда не сходили две продольные мужественные складки, придавая его лицу выражение постоянной сосредоточенности, даже суровости.
Корней был не велик ростом, но сложен прочно. О таких говорят: «Древний дуб, да крепок». Что бы ни делал Корней, делал не торопясь, спокойно и всегда верно – ни к чему не придерешься. Когда что-нибудь говорил, трудно было понять, сердится он или настроен благодушно. И только одни глаза выдавали его. В них, словно в зеркале, можно было видеть всего Корнея. Ни медлительность в движениях, ни кажущееся спокойствие и равнодушие ко всему не могли скрыть его истинного настроения. Они постоянно светились то добротой и отцовской лаской, то вдруг загорались огнем нетерпения, решительности и даже буйства.
Когда Корней Гаврилович впервые пришел в девятую роту, командир – молодой, с едва наметившимися усиками лейтенант, – окинув взглядом крепкую фигуру солдата, весело сказал:
– Еще силен, отец, повоюем!
Корней промолчал.
– В стрелки пойдешь, – сказал лейтенант и хотел уже уйти, но басовитый властный голос Корнея остановил его на полушаге:
– Хочу в автоматчики.
В голосе и во взгляде солдата было столько упрямства, что лейтенанту показалось, сейчас он скажет: «Ты там как знаешь, абы по-моему».
Лейтенант еще раз смерил взглядом фигуру Корнея. Ему нравился этот спокойный с виду, уверенный в себе человек, но больше ничего не сказал, ушел.
В тот же день Гаврилов был определен во взвод автоматчиков. Вначале он всех отталкивал от себя замкнутостью и суровым видом. Казалось, человек этот ни с кем не желает общаться, в душе постоянно носит какое-то горе, но скрывает его ото всех.
Когда Корней первый раз был ранен и его увезли в госпиталь, на второй же день никто не вспоминал о нем. Спустя месяц он снова вернулся, и никто опять-таки не удивился его возвращению. Корней ни о чем не расспрашивал, ничем не интересовался и сам никому не рассказывал, где бывал, что видел и слышал, постоянно возился с автоматом, чистил, вытирал его, будто всю свою жизнь только и мечтал о нем.
Зимой, когда приходилось по месяцу и больше стоять в обороне, мерзнуть в окопах, не выходя из них по целым суткам, бойцы удивлялись его терпению и выносливости. На нем, как и на всех, были солдатские ботинки, обмотки, поношенная шинель и шапка-ушанка. Но никто не видел, чтобы Корней, желая согреться, «танцевал» или потирал руки, как это делали другие.
– Из железа он, что ли, – говорили о нем с завистью и даже с сердцем.
Корней знал об этих толках, но делал вид, будто не слышит или не находит в них ничего достойного его внимания. В глазах солдат Корней становился все более загадочным. Многие всерьез начинали думать, что он или знает какой-то секрет от холода, или просто решил погубить себя, поэтому все тяготы фронтовой жизни для него решительно ничего не значат.
Вскоре, однако, секрет Корнея обнаружился.
Как-то под вечер, когда сухие стебли травы потрескивали от мороза, словно на огне, Корней заметил, как молодой солдат, сосед по окопу, прозванный за свой нескладный маленький рост и веселый нрав «Комаринским мужиком», лихо отбивал какой-то «танец».
«Как бы совсем не замерз», – встревожился Гаврилов и окликнул:
– Молодец, холодно, небось?
Тот смутился, прервал пляску. Теплое дыхание прозрачным облачком клубилось у его рта и заиндевевших щек. Видимо, решив, что Корней просто хочет посмеяться над ним, промолчал.
Гаврилов опять обратился к соседу:
– Ползи-ка в мою окопину, согреешься. Только автомат не забудь.
Боец некоторое время колебался и все смотрел на Корнея, словно все еще сомневался: шутит или говорит серьезно. И, решив, что в такую минуту никто шутить не станет, пополз к нему в окоп. Тот отодвинулся в сторону, уступая место молодому бойцу.
– Зазяб?
Корней взял его стынущие руки в свои жесткие, но теплые.
– Э, браток, так и околеть недолго, – сокрушенно сказал он.
Солдат в ответ улыбался, молчал. Вскоре он почувствовал, как приятное, ласковое тепло коснулось почти бесчувственных пальцев его ног.
– Да у тебя, никак, земля горячая? – удивленный спросил Комаринский. Он чувствовал, что начинает припекать ступню, но не решался двинуться с места, боялся: сойди он с места, приятное ощущение теплоты вдруг исчезнет и больше не повторится.
Корней открыл солдату секрет своей печи. То был жар перегоревших сучьев, прикрытый землей.
– Переступай почаще. Огонек еще свежий, как бы вреда не причинил, – советовал Корней.
Комаринский прислушивался к его словам, вглядывался в добрые, без тени лукавства, глаза, и ему уже начинало казаться, что и жар тот, который в земле, и близость этого человека, его доброта и озабоченный вид – все вместе согревает его. Теперь Комаринскому было ясно, почему Корней всегда равнодушен к холоду. Но не это открытие обрадовало молодого бойца. Он вдруг увидел в Корнее другого человека. Это было действительно открытие. Оно-то больше всего и удивило солдат, когда Комаринский рассказал им о своей встрече с ним. Ему могли бы и не поверить, но всем было известно, что именно Комаринский больше других выказывал свою неприязнь к Корнею. Каких только шуток и колкостей не придумывал он в его адрес. Одни вызывали безобидный веселый смех, другие вселяли недоверие к Корнею, окутывали тайной его молчаливую жизнь. И вдруг именно он, Комаринский, рассказал столько удивительного об этом старом солдате. Всем понравились корнеевские печи. Они были применены в тот же день во всей роте.
II
К Корнею все чаще стали приходить солдаты с разными просьбами. Одалживали у него оружейное масло, белый лоскут для протирки ствола автомата. Корней никогда ни в чем не отказывал. Где он все это брал – и лоскуты, и масло в то время, когда даже старшины не всегда имели их, – никому не было известно.
Так постепенно установилась дружба Корнея с автоматчиками взвода.
Внешняя строгость и молчаливость старого солдата заставляли бойцов относиться к нему с уважением, почтительно, как к отцу. Постепенно бойцы узнали, откуда он родом, кем работал и некоторые другие подробности. Во всем этом, пожалуй, не было ничего интересного и загадочного. У Гаврилова было три сына, и ни об одном из них вот уже больше года ему ничего не было известно. Знал, что все они еще в начале войны ушли на фронт, а живы или нет – не мог сказать.
Писем он ни от кого не получал, и сам писал редко. Когда приходил почтальон, то, казалось, не замечал Корнея, всегда сторонкой обходил его окоп. В такие минуты Корней казался особенно одиноким. Все сочувствовали ему, и всем от души было жаль старого солдата. С почтальоном, пятнадцатилетним Колей, Корней никогда первый не заговаривал, в то время как бойцы всегда ждали его прихода, точно праздника. Каждый считал для себя счастьем, когда он хоть на минуту задерживался в окопе. Паренек, казалось, знал все, что делалось на белом свете, и обо всем мог рассказать толково и интересно.
Как-то поздно вечером, когда Колю никто уже не ждал, он неожиданно появился. На этот раз его приход тем более удивил бойцов, что почту этого дня он давно разнес:
– Далеко этот дидуган? – переползая от одного окопа к другому, сердито спрашивал он.
– Скоро уже и его логово. А что, небось, письмо Корнею принес? – интересовались автоматчики.
– Да если бы письмо… – многозначительно и загадочно говорил письмоносец. – А то с сургучом…
– Выходит, пакет?
– Не иначе.
Всю ночь бойцы думали об этом загадочном, видимо, важном пакете. Те, кто сумел оценить доброту Корнея Гаврилова, особенно радовались неожиданной новости, верили, что она непременно должна принести старику успокоение, приободрить его.
Возможно, этот маленький, незначительный случай, который в другом месте прошел бы никем не замеченным, тут, на фронте, явился целым событием. Он заставил многих понять, как иногда люди бывают несправедливы, опрометчивы в оценке других. Теперь вдруг всем стало ясно, что они уважали своего товарища, желали ему спокойных, радостных минут, очень редких на фронте.
Никто из бойцов не заметил, когда ушел почтальон, хотя все надеялись, что он непременно хоть что-нибудь скажет о содержимом пакета, приоткроет уголок завесы над тайной.
Не обмолвился ни словом о пакете и сам Корней.
Ночью выпал снег. Когда рассвело, все посмотрели на окоп старого солдата. Корней, стоя в нем, зорко всматривался прямо перед собой. Таким его видели каждый день, только с той маленькой разницей, что теперь на шапке и плечах его лежали горбушки пушистого снега. Видимо, Корней за всю ночь ни разу не сбил его с плеч, не стряхнул с ушанки.
Во время завтрака Комаринский встретился с Гавриловым у походной кухни и не вытерпел, спросил:
– Слыхал, письмецо получили, Корней Лукич?
– Да, прилетело такое… – уклончиво ответил тот и медленно зашагал по хрусткому молодому снегу, не отрывая глаз от котелка, в котором хлюпалась покрытая жировыми пятачками теплая еда.
Тогда же все решили, что письмо, по-видимому, не опечалило и не особенно обрадовало старого солдата. Мало ли кто получал такие письма. Почтальон же, когда его спрашивали о пакете, отвечал без всякой охоты, что, мол, содержание пакета его не интересует.
Как бы там ни было, но в минувшую ночь каждый порадовался за своего старого товарища.
III
Ожидались наступательные бои. Это чувствовалось по всему: артиллерия изо дня в день действовала все активнее. В воздухе то и дело появлялись разведчики. Иногда завязывался яростный бой одиночек-истребителей. В такие напряженные минуты прекращалась ружейная стрельба, реже рвались снаряды. Все поглощало это жестокое и в то же время захватывающее единоборство.
Однажды во время поединка все видели, как ястребок стремительно пошел в штопор. Солдаты невольно пригнулись в окопах. «Мессершмитт», точно коршун, преследовал раненую стальную птицу. Но вот она еще на большой высоте внезапно вывернулась и, словно комета с длинным дымящимся хвостом, устремилась навстречу противнику. «Мессершмитт» как ни старался, но уже не мог увернуться от тарана. Еще секунда – и советский летчик висел в воздухе под белым куполом.
Мертвые стальные птицы уже пылали, дымились где-то за вражеской передовой, а человек, подвешенный к парашюту, все еще висел в воздухе. Ветром его уносило все ближе к нашему переднему краю. Неожиданно с противной стороны один за другим послышались винтовочные выстрелы, вслед за ними затрещали пулеметы.
Немцы расстреливали летчика в воздухе. Почти одновременно заработали винтовки и пулеметы с нашей стороны. Надо было во что бы то ни стало помешать немцу, пресечь его огонь, заставить прятаться в окопы.
Когда, казалось, сам воздух трещал, рвался на части, по цепи вдруг пронеслось:
– Стрелять осторожно! Впереди Корней.
И все увидели, как маленький, юркий человек быстро полз по глубокому снегу, почти утопая в его белой взбитой пене. Порой он на минуту задерживался в воронке от снаряда, но вскоре опять появлялся.
Летчик упал на нейтральной полосе. Белый парашют повис на голых, иссеченных пулями ветвях боярышника. Иногда налетал порывистый ветер, надувал парашют, и тогда казалось, что он пытается взлететь, но тут же, обессиленный, повисал на кустах.
В течение почти часа с той и с другой стороны не прекращался шквальный ружейно-пулеметный огонь. А когда стрельба постепенно утихла, все снова увидели парашют, и у каждого сжалось сердце от жгучей боли. Избитый пулями, он белел на темных ветвях боярышника, как страшный призрак…
IV
Вечером пришел почтальон, но никто не обрадовался ему. В землянке, куда он вошел, у печурки обогревались бойцы. Комаринский мрачно спросил:
– Корнею письма есть?
– А кто ему станет писать, – сердито отозвался Коля. – Сам-то старик написал вот сколько писем, и ни одно из них не нашло своего дома. Покружились, покружились и прилетели.
– А тебе откуда знать, что прилетели? – поинтересовался Комаринский.
– А кому еще знать, как не мне? – обиделся почтальон. – Пакет, который я приносил ему, вовсе не пакет. Все письма возвратные. Штук десять. А сургуч я сам выдумал.
– Выходит, обманул?
Глаза Комаринского гневно блеснули в потемках. Он угрожающе привстал на корточки.
– А если и обманул, так что, – задиристо ответил Коля. – Вам только скажи правду, сразу на смех поднимете человека: пишет, мол, на ветер. А у Корнея Лукича великое горе. Всю семью по свету разгубил. Как и я. Ни отца, ни матери не найду…
Голос его зазвенел слезой и оборвался на полуслове.
Он затрясся весь и выбежал из землянки. Но вскоре Коля опять вернулся. За это время он побывал в окопе Корнея; в руках у него был небольшой пакет, туго перевязанный шпагатом.
– На, читай, – бросил он на колени Комаринскому пачку писем.
Не успел Комаринский развязать пакет, как кто-то внезапно открыл дверь землянки, крикнул:
– Тревога!
Солдаты кинулись в траншею.
В морозном воздухе было тихо, ни единого выстрела. Лишь изредка пролетали шальные пули, оставляя на снегу фосфорические вспышки.
Все напряженно, до боли в глазах, всматривались в темноту. Не ясно, но можно было разглядеть, как кто-то барахтался в глубоком снегу, тяжело дыша.
Комаринский выбрался из траншеи и, погружаясь в снег, пополз вперед.
– Это же Корней! – сказал кто-то. Все облегченно вздохнули: никто другой, кроме Корнея, и не мог быть.
…Летчика внесли в землянку, и, пока укладывали его поближе к печурке, Корней говорил:
– С ним – ничего, хлопцы. Две пули в ногу, в мякоть. Но вы все же осторожнее. Раны ведь…
Корней свернул самокрутку, выхватил из печурки жаринку, прикурил, повторяя одно и то же:
– Вот музыка так музыка…
Как оказалось, летчик знал когда-то сына Корнея, Артема, даже летал с ним вместе, уверял, что Артем жив, только теперь летает в какой-то другой части.
– Не беда. Пусть в другой, все едино. Главное – воюет. Это главное, – говорил Корней, с удовольствием затягиваясь дымом.
Все молчали. Сообщение Корнея не обрадовало его друзей. Они еще раз убедились, что старый солдат по-прежнему не знает точного адреса своих сыновей, снова его письма, как и прежде, будут блуждать по свету и не найдут своего адреса, снова прилетят к нему. А он будет связывать их шпагатом и во время атаки забывать в окопах.
Но в эту минуту каждый чувствовал себя по-сыновнему счастливым, что находится рядом с этим хорошим человеком и отважным солдатом.
…Утром, на заре, батальон пошел в наступление.
1945 г.
Шумел камыш
Мое знакомство с Колей Рублевым произошло на реке Тихая. В то время наш полк занимал оборону вдоль ее извилистого берега, поросшего непролазным тальником и высоким густым камышом.
В ту пору камыш цвел, и над ним даже в тихие погожие дни мерно покачивались пышные рыжие метелки. А когда, случалось, внезапно налетал ветер, камыш кланялся так низко, что своими верхушками касался речной волны.
На островке росли старые дуплистые вербы. Островок был не более ста метров в окружности и отделялся от нашего правого берега небольшим водным пространством.
За островом было установлено особенное наблюдение. Командование полка и мы, разведчики, знали, что враг непременно использует его для слежки за нашим передним краем, а возможно, и для высадки небольшой десантной группы. Для нас открывалась горячая пора изучения подходов к острову.
Днем мы, разведчики, из специальных укрытий и просто из высокой прибрежной травы изучали реку, ее извилины, а с наступлением темноты отыскивали наиболее верную дорогу к острову. Бродили иногда по пояс в воде, переплывали глубокие места, пробирались сквозь густой колючий кустарник, сдирая кожу на руках и лицах, прятались в камышах, замирая в тревоге. Иногда случайно вспугнутая сонная птица своим криком вызывала беспорядочную стрельбу противника.
Возвращаясь к себе на берег, мы часто уносили раненых товарищей.
Две ночи кряду искали мы дорогу к острову и не могли найти ее. В третий раз предприняли вылазку глубоко в полночь. Еще с вечера обещал быть дождь. Свинцовые, низко нависшие тучи тяжело ползли над землей. Покой ночи изредка нарушали ружейные выстрелы. Шумел только камыш неумолчно, напряженно, тревожно…
Нас было пять человек разведчиков. Вначале продвигались по камышу, по колени утопая в иле. А когда грязь становилась невылазной, пробирались ползком.
Внезапно налетел порывистый ветер. Я повернулся на спину, посмотрел вверх. Камыш в отчаянии метался из стороны в сторону, будто силясь увернуться от ветра.
Вспыхнула молния, и раскатистый негодующий гром на некоторое время заполнил тишину ночи. Камыш, словно испугавшись грозы, сразу же притих. Только слышно было, как увесистые капли избивали упругие жесткие листья.
Но вот, кажется, и конец камышовым зарослям. Я прополз еще метр, другой, прислушался. Дождь усилился. Сквозь его живую сетчатую завесу с трудом можно было различить противоположный берег реки. А находился он в каких-нибудь пяти-шести метрах.
Ни одного подозрительного шороха. Но такая тишина обыкновенно таит в себе какую-то неожиданность. Я решил выждать еще некоторое время, как вдруг увидел: человек осторожно сползал с заросшего берега в воду.
Вскоре он уже плыл к острову. Более удачного «языка» я и не мог себе представить. Но радоваться пока было рано. Гитлеровец мог быть не один. Каждую секунду надо ожидать другого, третьего. Лежа на животе, я чувствовал, как вязну в болоте. Попробовал пошевелиться. Твердый прошлогодний камыш хрустнул у меня под коленом. Этой точки опоры мне показалось достаточно, чтобы мгновенно привстать и навалиться на врага.
Лазутчик подплыл к островку, ухватился руками за тонкие стебли камыша, замер у самого корневища, сдерживая дыхание. Меня удивило: стебли даже не дрогнули. Враг вползал в камышовую заросль, и я ни разу не услышал, чтобы под ним хрустнула веточка или хлюпнула вода.
«Матерый волк», – подумал я.
Когда гитлеровец подполз совсем близко, я изо всех сил впился руками в его тонкую холодную шею. Я не первый раз брал «языка», знал хватку своих огрубевших сильных пальцев. Заметив, что пленник не издал ни звука, перестал сопротивляться, стал медленно разжимать пальцы. Повторяю, медленно! Разведчику осторожность никогда не мешает.
Это был на редкость послушный «язык». За все время, пока мы его «обрабатывали», он даже не шевельнулся. Я испугался: не придушил ли? И припал ухом к его губам. Жив!
Я на всякий случай забил ему рот тряпкой. Хоть и очнется – не крикнет. С вражеского берега больше никто не появлялся. С нас достаточно было и одного пленника. Только бы благополучно уйти.
Редкие ружейные выстрелы то с одной, то с другой стороны реки в отсыревшем воздухе звучали коротко и глухо. Дождь все еще не переставал. Теперь он лил без молнии и грома.
Мы проползли камыши и приблизились к чистой речной воде. Усевшись на берегу, я положил голову пленника к себе на колени и внимательно вгляделся в его лицо.
С мокрых волос ручейками стекала мутная вода. Трудно было определить, какого они цвета. Я попробовал волосы руками: мягкие, как лен. Дождь постепенно умыл лицо пленника. Оно было белое, худое. Лишь на верхней, по-юношески вздернутой губе темнел молодой пушок.
«Хлопцы, да ведь это мальчишка!» – чуть было не вскрикнул.
Я еще некоторое время рассматривал рослого худощавого юношу, изорванные суконные брюки, немецкий френч на нем и собрался уже скомандовать разведчикам двигаться к берегу, как вдруг веки пленника дрогнули и глаза широко открылись. Я наклонился к нему, сказал тихо, улыбаясь, сам не зная чему:
– Гут!
Веки его в одно мгновение сомкнулись, словно я не сказал, ударил его по лицу. Оно по-прежнему было мертвецки бледное и неподвижное.
* * *
Командир полка Лопатин торопливо вошел в землянку. Там находился наш пленник. Я заранее предвидел, как лицо майора искривится сердитой гримасой, как он будет обидно шутить над нашей ошибкой.
Я сидел под старой акацией, расщепленной и обожженной снарядом. Я проклинал камыш. Проклинал все, что случилось в его ненавистной мне гущобе. Я почти каждую ночь ходил в разведку: случалось, попадал в такие ловушки, что другой бы вряд ли мог выбраться из них, и всегда возвращался с ценными сведениями. А тут вдруг попался. И надо же было мальчугану именно в эту ночь пробираться на нашу сторону.
Когда Лопатин ушел, я спустился в землянку Пленник лежал на ворохе свежей соломы. Ноги его были укрыты шинелью. В спутанные вьющиеся волосы вплелись ржаные стебли. Тощая грудь его была открыта. Я увидел на ней свежие царапины. На тонкой бледной шее проступало несколько синеватых пятен. То были следы моих цепких пальцев.
– Это ты меня душил? – спросил паренек.
Голос его был глухой, с трещинкой, как у старика. Казалось, что моя тяжелая рука все еще сдавливала ему дыхание. Большие светлые глаза лихорадочно блестели.
– Я, – был мой ответ.
– И ты говорил мне «гут», когда я открыл очи?
Я утвердительно кивнул. Он некоторое время молчал. Бледное, с запавшими щеками лицо его было задумчивым.
– А я думал – фриц. Даже дух отшибло. – Он подвинулся, уступая мне место на соломе. – Садись, – все так же хрипло сказал он, – думаешь, я на тебя сержусь? Ни капельки.
Мы разговорились. Я узнал, что моего пленника зовут Колей Рублевым, что мать его, старуху, сожгли в хате немцы и что отец его в партизанах. Сам он долгое время скрывался в камышах, поджидая прихода наших войск. А когда узнал, что мы стоим на правом берегу реки Тихой, решил перебраться к нам.
Так Коля попал ко мне в руки.
* * *
Спустя несколько дней, Коля стал выходить из блиндажа. Он охотно отвечал на вопросы разведчиков, но всегда подозрительно, как зверек, косился на часового, хотя тот стоял от него на почтительном расстоянии.
Вначале я не придавал этому значения, но вскоре убедился, что Коля тяжело переживает свое заточение.
Однажды, когда он выходил из землянки, часовой преградил ему дорогу:
– Не велено выпускать, – сказал он строго.
– Я же не фриц, – сказал Коля. Нервная судорога перекосила его лицо.
– Не знаю, кто ты такой, а выпускать не велено.
Рублев стоял молча и все больше мрачнел. Затем вдруг решительно сделал шаг вперед, уперся грудью в ствол автомата и, набравшись сил, еще шагнул, столкнув с места часового. Тот отскочил в сторону.
– Стрелять буду, малец! – угрожающе предупредил он.
Услышав голос часового, я опрометью выбежал из своего блиндажа. Рублев медленно наступал на автоматчика. Туго сомкнутые побелевшие губы его перекосились.
Увидев меня, он, будто опомнившись, кинулся в землянку. Когда я вошел в нее, Коля лежал на развороченной соломе вниз лицом, судорожно зажав в руках пучки стеблей. Он плакал.
В тот же день я доложил о случившемся майору. Выслушав меня, Лопатин спросил:
– Как же ты решил поступить с мальцом?
– Все зависит от вас, товарищ командир полка. А если позволите самому решить…
– Ну-ну.
– Я бы взял его в разведчики.
Лопатин сдержанно улыбнулся, но тотчас же лицо его опять стало серьезным.
– А ты хорошо изучил своего пленника?
– Мне кажется, это честный парень.
Командир полка помолчал.
– Вот что, – начал он спокойно, но уверенно, как человек, окончательно все взвесивший. – Рублева можешь взять к себе во взвод. Я с ним беседовал. Это действительно честный паренек. Много пришлось ему пережить при немцах. Бери, только на дело мальца не смей посылать, ясно?..
* * *
Мы одели Колю в новенькую гимнастерку и шаровары, подарили ему барашковую кубанку с малиновым верхом, она ему шла. Теперь он был равный среди моих бойцов, с той только разницей, что не ходил с нами в разведку. Коля никогда не сидел без работы; заготовлял солому для землянок, маскировал их свежими зелеными ветками. Во время работы он всегда пел. Голос у него был мягкий, мелодичный.
Вскоре у парня обнаружился другой талант: Коля превосходно плясал. Вспоминая теперь его, я вижу статную, гибкую фигуру, сияющее лицо, грациозный выход под гармошку…
Как-то под вечер штаб полка остановился в небольшом украинском селе вблизи Днепра. Я расположил свой взвод в колхозном саду, как и всегда, неподалеку от штаба.
Когда зашло солнце, гармонист Митя Бычков уселся под яблонькой и, мечтательно склонив голову, стал наигрывать. Собрались бойцы. Пришли сельские девушки.
Гармонист играл с упоением, зазывно. Однако в круг никто не входил. Я не выдержал и первый бросился в пляс. Танцевал я не особенно лихо, но мне хотелось подзадорить компанию, рассеять застенчивость девушек.
Прошел два круга, несколько раз залихватски свистнул в такт музыки. Одна из девушек, вдруг отделившись от подруг, подбоченясь, медленно поплыла вслед за мной. Лицо ее было какое-то торжественно строгое. Я улыбнулся ей, и она, вдруг зардевшись, всполошенной птицей метнулась к подругам и скрылась в их тесном кругу.
Я уже выходил из танца, как вдруг услышал:
– Дайте-ка простора…
То был голос Коли Рублева. Сразу я даже не узнал его, столько в нем было лихости, задора и молодецкого отчаяния. Коля пробился сквозь толпу, энергичным жестом сбил набок кубанку и вызывающе, броском выставил вперед правую ногу. Он стоял так еще некоторое время, как бы выжидая свой такт, который вот-вот должен прозвучать.
– А ну, ну, Коля, – сам загораясь его нетерпением, тихо, но так, чтобы он услышал, сказал я.
Рублев вскинул на меня веселый взгляд и торжественно медленно пронес его по всему кругу.
Все мы с затаенным дыханием следили за высоким стройным юношей.
Коля еще раз тронул рукой кубанку и, словно убедившись, что она хорошо прилажена, рванулся вперед и поплыл. Один раз он прошелся по самому краю круга, как будто нечаянно задевая то локтем, то плечом стоявших, и все поняли, что танцору тесно. Круг раздвинулся.
Но вот Коля, словно сложив крылья, опустился на одно колено перед девушкой, склонил голову. Все с нетерпением смотрели на девушку. Опустив глаза, она стояла в нерешительности, смущенно улыбаясь. Но всем сразу стало ясно: пойдет.
И вдруг тряхнула косами, согнала с лица улыбку и сделала шаг вперед. Коля выпрямился и поплыл назад, вытянув руки, как бы маня и увлекая ее за собой. Затем он пропустил девушку и шел за нею то вприсядку, то выпрямившись, плыл на носках, будто хотел догнать ее и не мог. Когда казалось, он вот-вот настигнет ее, девушка делала неожиданный, с разлетом юбки поворот, и Коля снова отставал, лихо выбивая каблуками, будто сердился на нее.
– Шибче! – вскрикивал он.
У гармониста только пальцы мелькали на перламутровых клавишах и пот заливал лицо…
Поздно вечером, когда укладывались спать, я спросил у Рублева:
– Где это ты так лихо плясать обучился?
Коля вздохнул и ответил не сразу:
– Батя обучил.
Помолчали.
– Почему вы меня в разведку не берете, товарищ лейтенант? – неожиданно спросил он.
– Успеешь еще. Это от тебя никуда не уйдет, – ответил я, стараясь придать своему голосу обнадеживающий тон.
– Такое я уже слышал…
Признаться, я не брал своего юного друга в разведку не потому, что боялся наказания командира полка. Меня пугало другое: горячность натуры паренька, которой был пронизан каждый мускул его тела. Мне не один раз приходилось убеждаться в этом. А сегодня во время танцев я окончательно уверился в своей мысли. Из опыта я знал, что из таких, как Рублев, выходят очень смелые, но не всегда расчетливые разведчики.
Я долго не мог уснуть. Догадывался, что не спит и Коля, не спят все мои товарищи. Кто-то из них закурил, и в бледном, зыбком свете я увидел Рублева. Он сидел, обхватив руками колени, укрытые шинелью. Когда свет погас, сказал обиженным голосом:
– Знать, что попаду к вам в руки, ушел бы к партизанам. К бате ушел бы.
– А ты знаешь, где твой отец? – спросил я.
– Теперь-то не знаю. А тогда знал: в партизанском отряде «Мститель» был он. Только, наверно, не успел бы я тогда добежать до леса, перестрели бы немцы. А может, и успел… – заключил он задумчиво.
В землянке некоторое время было тихо. Кто-то опять закурил, и я снова увидел Колю в прежней задумчивой позе.
– Когда нас: Петьку Гарбузова, Вальку Конова, – говорил он словно одному себе, – Надю Синицину, Мишку и еще некоторых ребят поменьше нас закрыли в сельском клубе и подожгли, такое поднялось, что не передать. Дыму накопилось – не продохнуть, и пламя хлещет со всех сторон. Вот изверги, что придумали! Всего ожидали, а чтоб живьем в огонь!..
– А за что же, Коля? – спросил кто-то.
– Было б за что… Ну, я и Леня – другое дело. Гранату мы под грузовик бросили. А всех остальных ребят от злости в клуб заперли. Вижу – спасения никакого. Стали в окна, в двери ломиться, а они стрелять по нас. Мишку в живот ранили, Надю Синицину – наповал. Бросился я на сцену, а оттуда через ляду на чердак и…
Коля внезапно умолк. Казалось, он задохнулся от пережитого.
– Только не сразу на чердак, – помедлив, продолжал он, – а немного задержался на сцене. Сколько раз выступала здесь наша самодеятельность!.. На этой сцене я танцевать обучился и песни петь. Помнится, прошлым летом проездом из родных мест Лемешев к нам заехал. Уж очень много шумели о нашем колхозном ансамбле, и ему захотелось послушать нас. Понравилось ему. А мне Сергей Яковлевич сказал: «Заканчивай десятилетку и – в консерваторию. Место приготовим». А позже письмо прислал, чтоб в летние каникулы приезжал в Москву к нему. А тут война… Вот оно как вышло.
Коля всхлипнул, заворочался на соломе, видимо, зарывался в нее лицом, чтобы мы не слышали, как он плачет.
* * *
Был конец сентября. Стояли тихие погожие дни, овитые серебристой паутиной бабьего лета. Я люблю осень. В ней есть своя прелесть. В эту пору тянет в поле, в лес, в какой-нибудь уединенный уголок, где ни одной души, только ты со своими мыслями. В такую пору я часами, бывало, бродил по степи у себя в Донбассе. Солнце уходит за горизонт, и землю покрывают прохладные чисто-синие тени. Далеко, на пологой возвышенности, в окнах домов горят яркие прощальные лучи солнца. Доносится девичья песня. Она привольно плывет по степному простору, все шире расправляя невидимые крылья.
В один из таких осенних дней я шел из штаба полка, получив боевое задание. Неожиданно до моего слуха донеслась песня. Высокий молодой голос выводил протяжно с переливами:
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали…
Я узнал голос Коли Рублева. Мне нравилась эта песня. Любил ее Коля, все мои разведчики. Эту песню нельзя было петь вполголоса. Она звучала только тогда волнующе сильно, когда в нее вкладывали всю душу, всю страстность пылкого сердца. Она дорога была мне еще и потому, что чем-то напоминала ненастную темную ночь в камышах:
…и беспрерывно гром гремел… —
подхватил хор.
Я незаметно приблизился к товарищам, включился в хор. На мгновение закрывал глаза, и мне чудилось, будто лечу на легких крыльях этой песни. Она то уносила меня так высоко, что замирало сердце, то проносила низко над степью, над перелесками, прозрачными тихими заводями, окаймленными высоким дремучим камышом.







