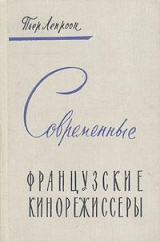
Текст книги "Современные французские кинорежиссеры"
Автор книги: Пьер Лепроон
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 49 страниц)
Жан-Поль Ле Шануа
«ПУСТАЯ ИДЕЯ» (называемый также «Неотразимый мятежник»), 1939 (Une Idée á l'eau, L'Irrésistible rebelle). В ролях – Сориа, Андрекс, Гастон Модо, Ж. Тиссье, Жанна Фюзье-Жир.
«В ЦЕНТРЕ БУРИ», 1945—1948 (Au coeur de l'orage). Монтаж сцен, снятых во время сражения у Веркора, и документов из синематеки союзников и немецкой. Дикторский текст Жана-Поля Ле Шануа; читают Жан Шеврие, Жан Дюран, Крпстиан Сертиланж, Юбнер, Саран, Кроннегер; опер. – Форестье, Вейль, Кутабль (Веркор), Барри, Бургуан, Лемарк, Муссель, Пердрикс, Шнейдер, Тике; муз. – Эльза Баррен и Тибор Харсани.
«ГОСПОДА ЛЮДОВИК», 1946 (Messieurs Ludovic). Сцен. – Пьер Сиз; перелож. и диал. – Ж. -П. Ле Шануа; опер. – Ж. Лемар; декор. – П. Бертран; муз. – Ж. Косма. В ролях – Одетт Жуайе, Бернар Блие, Жан Шеврие, Марсель Эрран, Жюль Берри, Каретт.
«ШКОЛА БЕЗДЕЛЬНИКОВ», 1949 (L'Ecole buissonnièrrе). По произведению Элиз Фрейне; сцен., перелож. и диал. – Ж. -П. Ле Шануа; опер. – М. Фоссар, М. Пекё, А. Дюметр; декор. – Кл. Буксен; муз. – Ж. Косма. В ролях – Бернар Блие, Жюльетт Фабер, Дельмон, Пупон, Аквистапас, Алибер, Ариюс, Моли, Данни Карон.
«ВОТ ОНА, КРАСАВИЦА», 1950 La Belle que voila). По роману Вики Баум «Карьера Дорне Харт»; перелож. – Франсуа Жиру; диал. – Ж. -П. Ле Шануа; опер. – А. Тирар; декор. – М. Дун; муз. —Ж. Косма. В ролях – Мишель Морган, Анри Видаль, Бернар Ланкре, Жан Дебюкур, Жан д'Ид, Жерар Ури, Людмила Черина.
«АДРЕС НЕИЗВЕСТЕН», 1950 (Sans laisser d'adresse). Сцен. – Алекс Жоффе; перелож. – Ж. -П. Ле Шануа и Алекс Жоффе; диал. – Ж. -П. Ле Шануа; опер. – М. Фоссар; декор. – М. Дуи и С. Пименов; муз. – Ж. Косма. В ролях – Даниэль Делорм, Бернар Блие, Р. Трабо, Ж. Каретт, Арлетт Маршаль, София Леклер, Жерар Ури. В СССР – «Адрес неизвестен».
«БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО», 1952 (Agence matrimoniale). Сцен. – Ф. Роше и Ж. Реми; перелож. и диал. – Ж. -П. Ле Шануа; опер. – М. Фоссар; декор. – М. Дуи. В ролях – Бернар Блие, Мишель Альфа, Каретт, Ж. -П. Гренье, Иоланд Лаффон, М. Барбюле, А. Мишель.
«ВОЛШЕБНАЯ ДЕРЕВНЯ», 1954 (Le Village magique). Сцен. и диал. – Ж. -П. Ле Шануа; опер. – Марк Фоссар; декор. – Раймон Габютти; муз. – Ж. Косма. В ролях – Робер Ламуре, Лючия Бозе, Карла Дель Поджо, Юдит Магр, Брижитт Элой, Кристиан Данкур, Жани Валльер, Рене Клермон.
«ПАПА, МАМА, СЛУЖАНКА И Я», 1954 (Papa, maman, la bonne et moi). Сцен. – Пьер Вери, Марсель Эме и Жан-Поль Ле Шануа; перелож. – Пьер Бери и Ж. -П. Ле Шануа; диал. – Ж. -П. Ле Шануа; опер. – Марк Фоссар; декор. – Робер Клавель; муз. – Жорж Ван Парис. В ролях – Робер Ламурё, Габи Морлен, Фернан Леду, Николь Курсель, Жан Тиссье. В СССР – «Папа, мама, служанка и я».
«БЕГЛЕЦЫ», 1954 (Les Evadés). Сцен. – Мишель Андре; перелож. и диал. – Мишель Андре и Ж. -П. Ле Шануа; опер. – Марк Фоссар. В ролях – Пьер Френе, Франсуа Перье, Мишель Андре. В СССР – «Беглецы».
«ПАПА, МАМА, МОЯ ЖЕНА И Я», 1955 (Papa, marnan, ma femme et moi). Сцен. – Марсель Эйме, Пьер Бери, Ж. -П. Ле Шануа; перелож. и диал. – Ж. -П. Ле Шануа; опер. – Марк Фоссар; декор. – Робер Клавель; муз. – Жорж Ван Парис. В ролях – Робер Ламурё, Габи Морлей, Фернан Леду, Николь Курсель, Элина. Лабурдетт, Луи де Фюне, Жан Тиссье, Робер Роллис, Габриэль Фонтан. В СССР – «Папа, мама, моя жена и я».
Жак Тати
«ШКОЛА ПОЧТАЛЬОНОВ», 1946 (L'Ecole des facteurs). Короткометражный фильм (500 метров). В гл. роли – Жак Тати.
«ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ», 1949 (Jour de fête). Сцен и диал. – Жак Тати и Рене Уилер в сотрудничестве с А. Марке; опер. – Жак Меркантон; декор. – Рене Мулаер; муз. —Жан Ятов в сотрудничестве с А. Марке. В ролях – Жак Тати, Ги Десомбль, Поль Франкёр, Санта Релли, Мэйн Балле, Рафаль, Бове Делькассон.
«КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО», 1953 (Les Vacances de M. Hulot) Сцен., перелож. и диал. – Жак Тати и Анри Марке в сотрудничестве с Пьером Обером и Жаком Лагранжем; опер. – Жак Меркантон и Жан Муссель; декор. – Бриокур и Шмитт; муз. – Алэн Роман. В ролях – Жак Тати, Луи Перро, Андре Дюбуа, Люсьен Фрежи, Рене Локур, Раймон Карль, Жорж Адлен, Натали Паско, Мишель Ролла, Валентина Камакс, Мартин Жерар, Сюзи Вилли, Мишель Брабо.
Александр Астрюк
«БАГРЯНЫЙ ЗАНАВЕС», 1952 (Le Rideau cramoisi). По новелле Барбея д'Оревили; опер. – Эжен Шюфтан; декор, и костюмы – Майо; муз. – Ж. -Ж. Грюненвальд. В ролях – Анук Эме, Жан-Клод Паскаль, М. Гарсия, Жеральд, Ив Фюре.
«ДУРНЫЕ ВСТРЕЧИ», 1955 (Les Mauvaises rencontres). По роману Сесиль-Сен-Лоран «Проклятая смесь»; сцен., перелож. и диал. – Александр Астрюк и Ролан Лауденбах; опер. – Робер Ле Февр; декор. – Макс Дуи. В ролях – Жан-Клод Паскаль, Анук Эме, Филип Лемер, Клод Дофен, Габи Сильвия, Ив Робер, Джани Эспозито.
Альбер Ламорисс
«ДЖЕРБА», 1949 (Djerba).
«БИМ», 1950 (Bim). Дикторский текст А. Ламорисс и Ж. Превер; читает Жак Превер; муз. – Игербухен; опер. – А. Костай и Ж. Табари.
«БЕЛАЯ ГРИВА», 1953 (Crin Blanc). Опер. – Э. Сешан; муз. – М. Ле Ру. В гл. роли – Ален Эмери. В СССР – «Белая грива».
«КРАСНЫЙ ШАР», 1956 (Le Ballon rouge). Опер. – Э. Сешан; муз. – М. Ле Ру. В ролях – Паскаль Ламорисс.
Послесловие
В развитии мирового киноискусства французская кинематография занимает такое значительное место, что трудно представить себе мало-мальски серьезную историческую работу или творческий обзор кинопродукции, где бы мы не встретили упоминания о мастерах французского «Авангарда», о творческих работах Р. Клера, Ж. Ренуара, М. Карне, о деятельности французских документалистов, объединенных в «группе тридцати».
Поэтому появление книги П. Лепроона можно только приветствовать. Она охватывает творческий путь 25 крупнейших режиссеров французского киноискусства и в общей сложности почти сорокалетний период его развития.
Книга эта является большой исследовательской работой, посильной только для человека, посвятившего большую часть своей жизни киноискусству. П. Лепроон является именно таким человеком. В подавляющем большинстве случаев он лично знал тех режиссеров, о творчестве которых пишет. Он имел возможность неоднократно встречаться и беседовать с ними, смотреть многие фильмы, в первоначальных редакциях, еще до выпуска их на экран и до разрешения цензуры, то есть видеть наиболее полное воплощение в фильме идей я мыслей их авторов.
П. Лепроон выступал в прессе с критическими статьями и полемизировал по волнующим его проблемам с историками и критиками кино. О нем можно сказать, что он буквально «варился» в котле кинематографических событий в течение ряда десятилетий. Обилие фактов, имевшихся в распоряжении автора, в сочетании с живой наблюдательностью очевидца-современника позволяет П. Лепроону сказать что-нибудь повое почти о каждом, даже широко известном режиссере.
Особенно удачными в этом отношении нужно считать разделы, посвященные творчеству Р. Клера, М. Карне и М. Паньоля.
Автор анализирует их творчество в основном с правильных позиций, принимая за отправную точку исследования четко выраженный национальный характер созданных ими фильмов.
И действительно, те страницы, где говорится о фильмах «Под крышами Парижа», «Миллион», «Великая иллюзия». «Набережная туманов», «Топаз», «Письма с моей мельницы», написаны автором красочно, убедительно и с большой любовью.
Рядом с этими глубокими и содержательными биографиями значительно беднее выглядят разделы, посвященные таким режиссерам, как Ж Деланнуа и Марк и Ив Аллегре. И это не потому, что творчество их в количественном отношении беднее, чем у других мастеров, но главным образом потому, что в их фильмах не чувствуется ярко выраженной творческой индивидуальности. Читая эти разделы, недоумеваешь, почему, собственно, П. Лепроон писал о тех мастерах, о которых ему, в сущности, нечего сказать. И в самом деле, что можно, например, сказать о фильме М. Аллегре «Жюльетта», который демонстрировался на наших советских экранах? Это типичный средний фильм, поставленный грамотным режиссером с участием крупных (Ж. Марэ), но далеко не лучших актеров французского кино. А если таких фильмов несколько? Можно лн ставить имя этого режиссера рядом с Р. Клером и М. Паньолем! Невольно возникает вопрос, по какому принципу сделал это автор?
Вызывает недоумение и отношение автора к некоторым другим режиссерам, и в частности к М. Офюльсу. Восторженный панегирик, посвященный ему в книге, вряд ли оправдан. Пестрый калейдоскоп фильмов, сделанных М. Офюльсом в разных странах мира, не оставил по себе заметного следа. На это обстоятельство автор указывает в самом начале его биографии. Что же касается последних трех картин М. Офюльса, которые восторженно хвалит П. Лепроон, то давайте посмотрим, стоят ли они этого.
В основу этих фильмов были положены произведения А. Шницлера, А. де Вильморен и С. Сен-Лорана, творчество которых представляет собой четко выраженную декадентскую литературу, прославляющую утонченную жизнь аристократических салонов Вены и Парижа. Не случайно действие всех трех фильмов: «Карусель», «Мадам де... » « «Лола Монтес» – перенесено в элегантную Вену конца прошлого века.
Рафинированный эстетизм и желание укрыться в «башню из слоновой кости» – явление, далеко не новое во французской литературе. Но какой смысл его реставрации в кино? Кому может прийти в голову экранизировать стихи Верлена или Меларме в современной французской кинематографии?
Провал «Лолы Монтес» у публики – лишнее свидетельство этого. Сам по себе провал фильма в прокате – еще не самое главное. Ведь, прочитав книгу П. Лепроона; можно не раз убедиться в том, как часто по-настоящему интересные произведения, открывающие новые горизонты в киноискусстве, терпели неудачи в прокате. Но применимо ли в данном случае это положение к фильму М. Офюльса? Думаю, что «Лола Монтес» никаких новых горизонтов в кинематографе не открывает: широкий экран и цвет еще не служат основанием, чтобы утверждать это.
Более того, можно полагать, что М. Офюльс просто реставрирует старые формалистские приемы, свойственные некоторым фильмам раннего «Авангарда», пытаясь выдать их за новые.
Так что же есть в этом великого, чтобы ставить М. Офюльса рядом с Р. Клером и Ж. Ренуаром?
Излишне восторженная оценка творчества М. Офюльса, подчеркнутое восхищение творчеством М. Л'Эрбье и желание автора рассматривать явления искусства только сквозь призму эстетических ощущений бросаются в глава в процессе чтения книги. Это несколько настораживает читателя – и не без оснований.
С каких позиций рассматривает П. Лепроон явления искусства? – Вот вопрос, на который необходимо ответить!
Нельзя, конечно, требовать от человека, живущего в условиях капиталистической действительности, чтобы он к явлениям искусства обязательно подходил с позиции марксистского искусствознания. Но, когда автор имеет дело с таким массовым искусством, как кино, он не может не учитывать, какую роль оно играет в общественной жизни страны, в какой мере участвуют его мастера в политической и экономической борьбе своего народа.
Живя, как П. Лепроон, во Франции в период между двумя войнами, а затем в годы второй мировой войны и в настоящее время в обстановке сложных политических взаимоотношений послевоенной Европы, любой буржуазный историк не может не принимать во внимание те политические события, которые происходят у него на глазах. Он не может укрыться в наш атомный век в таком хрупком сооружении, как «башня из слоновой кости». Ему надо ответить на вопрос, поставленный еще А. М. Горьким: «С кем вы, мастера культуры?» В противном случае многие по-настоящему значительные и новаторские фильмы могут оказаться вне поля зрения аполитичного историка и критика. Так, собственно, и получилось в работе П. Лепроона с некоторыми фильмами, занимающими ключевые позиции во французской кинематографии.
В качестве примера достаточно сослаться на фильм Ж. Ренуара «Жизнь принадлежит нам». Он был поставлен в обстановке бурных событий середины 30-х годов, когда трудящийся Франции боролись за создание Народного фронта. Эту постановку субсидировали Всеобщая конфедерация труда (которая в то время солидаризировалась с Народным фронтом) и газета «Юманите». Фильм снимался вне студий. В нем принимали участие многие крупные актеры французского кино, без всякой оплаты, просто из-за солидарности с идеями этой постановки.
Фильм «Жизнь принадлежит нам» не демонстрировался в широком прокате, ему чинились всяческие препятствия, но, несмотря на это, его увидели десятки тысяч трудящихся в рабочих клубах и сельских местностях страны.
П. Лепроон, вероятно, мог бы узнать много интересных подробностей, связанных с историей появления этого фильма, но, к сожалению, сообщая об этом беспрецедентном событии, он ограничился всего двумя строчками. А ведь если искать (как это делает автор) возможные истоки итальянского неореализма в киноискусстве других стран, то, пожалуй, ближе всего к ним стоит фильм «Жизнь принадлежит нам». Тут мы найдем четкий социальный фон и образы рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, новеллистическую форму построения и обличающий документализм фактов.
Могут сказать, что этот фильм в Италии, вероятнее всего, никто не видел. Возможно, это и так, но для историка и исследователя чрезвычайно важно указать, где впервые появились тенденции, близкие к понятию неореализма, и какая политическая обстановка сопутствовала этому событию.
А разве история создания фильма «Марсельеза» того же Ж. Ренуара не заслуживает более подробного изложения, чем это сделано у Лепроона? Ведь в процессе постановки этого фильма была сделана первая в истории мирового кино попытка создания кооператива зрителей. Не имея необходимых средств и не находя поддержки у предпринимателей, Ж. Ренуар с помощью газеты «Юманите» выпускает акции, стоимость которых равняется стоимости билета в кинотеатр. Будущие зрители фильма давали деньги в кредит режиссеру, который обязался после окончания фильма предоставить им возможность его посмотреть. Только благодаря поддержке французского народа этот фильм и был поставлен.
Обо всем этом в главе, посвященной Ж. Ренуару, не говорится ни слова.
Касаясь фильма «Марсельеза», П. Лепроон замечает, что эта работа страдает всеми недостатками политического фильма: не обладая достоинством произведений этого жанра, «она лишена горячей убежденности, дыхания эпоса, на протяжении стольких лет составлявших величие советского кино» (стр. 180).
Это признание достоинств многих выдающихся советских фильмов делает честь автору, но в то же время П. Лепроону хорошо известно, что появились они только в результате революционных преобразований, происшедших в пашей стране и способствовавших подъему творческой активности работников искусства.
Ж. Ренуар создавал свой фильм в совершенно иных социальных условиях, и тем не менее он сделал шаг, на который до него не решался ни один французский режиссер, а именно поставил на деньги народа фильм о Французской революции.
Кто знает, какие фильмы мог бы создать Ж. Ренуар на гребне революционного подъема широких народных масс? Может быть, в других условиях он и стал бы французским Пудовкиным!
П. Лепроон, как, впрочем, и многие другие историки на Западе, видит главное зло кинопроизводства в погоне предпринимателей за прибылью, что создает нетерпимые условия для подлинного творчества. В значительной мере это так, и если вспомнить некоторые творческие портреты, сделанные Лепрооном, то их смело можно назвать по этой причине трагическими.
Но только ли в этом главное зло капиталистической кинематографии? Только ли забота об извлечении прибыли является стимулом к постановке того или другого фильма?
Совершенно очевидно, что и предприниматель, вкладывающий деньги в постановку фильмов, и цензор, запрещающий демонстрацию того или иного прогрессивного фильма, сами по себе еще не являются главным злом на пути развития киноискусства. П. Лепроон, конечно, это знает, известен ему и адрес, по которому следует направлять свои горестные сожаления о неосуществленных дерзаниях. Это сама система капиталистического мира, это те реакционные круги, выразителями интересов которых являются и цензор, и предприниматель.
В истории кино найдется немало примеров, когда предприниматели шли на большие затраты и даже на риск понести убытки. Но, конечно, все это делалось отнюдь не в интересах народа и искусства.
Часто останавливаясь на сложностях, которые возникали для творческих работников кино в связи с финансированием производства кинокартин, и приводя примеры начатых и незавершенных постановок, П. Лепроон почему-то не считает нужным упоминать о фактах совершенно иного порядка. Одним из них является история создания «Наполеона» режиссером А. Гансом. Этот фильм, который был начат постановкой в 1924 г. и окончен в 1927 г., по своим затратам превосходил все, что знала до этого французская кинематография. А. Ганс получал почти неограниченные финансовые ассигнования и мог экспериментировать, как хотел, вплоть до введения тройного экрана.
На премьере этого фильма присутствовали все «сливки» французской буржуазии во главе с президентом. Но, несмотря на шумную рекламу, фильм в прокате буквально провалился. В чем же дело?
Как известно, сценарий «Наполеона», написанный лично А. Гансом, отличался сознательным пренебрежением к историческим фактам. Для того чтобы заранее отмести упреки историков, А. Ганс во вступительных титрах фильма сделал знаменательную оговорку: «Наполеон, – как его увидел А. Ганс».
Эта оговорка накладывает большую ответственность на автора, ибо то его воле Наполеон, показанный в фильме, был не столько подлинной исторической личностью, сколько символом неограниченной власти. А отсюда уже недалеко до того, чтобы Наполеон стал прообразом диктатора, о котором мечтала тогда французская реакция.
Возможно, по этой причине на постановку фильма не жалели средств определенные финансовые круги.
Холодный прием, который был устроен этому фильму рядовыми зрителями, лишний раз подтверждал, что картина не отвечала желаниям и помыслам французского народа.
Нетрудно убедиться, что дальнейший «скорбный» путь А. Ганса во многом объяснялся неустойчивостью политических взглядов и шаткостью его убеждений. А. Ганс работал бок о бок с Ж. Ренуаром, Р. Клером, Ж. Гремийоном. В начале 30-х годов, когда все эти художники под влиянием роста политической активности? широких народных масс делают резкий поворот влево и в центр своего внимания ставят образ простого человека, А. Ганс обращается к теме Фламариона и создает фантастический фильм «Конец мира» (1930), в котором предвещает гибель человечества, а позднее, в 1934 г., в разгар борьбы французских демократических сил с фашистскими элементами, озвучивает и выпускает новую версию «Наполеона», сделанного им в 1927 г. Можно думать, что более «удачного» момента для этого не нашлось!
Характерно, что весь период 30-х годов, и особенно его первая половина, проходит под знаком консолидации прогрессивных элементов, во французской литературе, театре и кино. Победа Народного франта в 1936 г. была высшей точкой подъема творческой активности многих деятелей искусства.
В самом деле, в 1931 г. Леон Муссинак, Луи Арагон, Поль Вайан Кутюрье основали ассоциацию революционных писателей и артистов. Организуется «Синеклуб», где широко показываются советские фильмы. Группа «Октябрь», объединившая многих творческих работников, укрепляет свои связи с рабочими клубами. В этой группе принимают активное участие М. Карне, Ж. Превер и многие другие киноработники. Наконец, в 1935 г. организуется объединение «Свободное кино», основной задачей которого было стремление противостоять коммерсантам-предпринимателям и помочь киноработникам делать фильмы, избегая контроля финансистов.
Все эти обстоятельства, естественно, не могли не оказать своего влияния да появление таких фильмов, как «Тони», «Преступление г-на Ланжа», «Жизнь принадлежит нам» и «Марсельеза» Ж. Ренуара, «Свободу вам» а «Последний миллиардер» Р. Клера, «Рыжик» и «Дружная компания» Ж. Дювивье, не говоря уже о фильмах Ж. Вито «По поводу Ниццы» или «Аталанта».
Ж. Садуль совершенно справедливо называет этот период в развитии французского кино «Ренессансом», да и в работе П. Лепроона приводится высказывание Ж. Ренуара о том, что он тогда примыкал к «крайним левым».
Следовательно, именно это явление нужно было поставить в центре внимания и, если уж не в манере подачи материала, то хотя бы в конструкции книги, объединить в один комплекс имена тех, кто действительно был вершиной этого творческого подъема, а не помещать рядом с Ренуаром, Гремийоном и Клером в достаточной степени бесцветного Марка Аллегре или рафинированного эстета Макса Офюльса. Эти люди и в жизни и в творчестве находились совершенно на другом полюсе.
Как уже говорилось, П. Лепроон избегает проведения параллелей между явлениями искусства и событиями из сферы общественно-политической жизни своей страны, хотя зачастую такие параллели напрашиваются сами собой.
В самом деле, чем можно объяснить появление пессимистических настроений в творчестве ряда крупнейших французских режиссеров в 1937—1939 гг. ?
Почему, например, Ж. Ренуар, который в недавнем прошлом ставил такие фильмы, как «Преступление господина Ланжа», «Жизнь принадлежит нам» или «Марсельеза», ставит теперь суровый по своим краскам фильм «Человек-зверь» с сознательным подчеркиванием безнадежного отчаяния в положении его героев?
П. Лепроон пишет в своей книге, что героям этого фильма свойственна «пассивность жертв судьбы, от которой никуда не уйдешь».
Также высказывается Лепроон и о фильме Карне «Набережная туманов», где словами критика Реваля он говорят, что этот фильм – «одна из редких трагедий в кино». Даже Ж. Дювивье, один из самых жизнелюбивых режиссеров, ставит в эти годы горький и полный отчаяния фильм «Конец дня», посмотрев который, П. Лепроон имеет основания утверждать, что «характерной чертой творчества Дювивье является пессимизм».
Итак, «неумолимость рока, ожесточенность судьбы, одиночество героев... отчаяние и пессимизм» – вот характерные черты кинопродукции конца 30-х годов. Обстоятельства, обусловившие все эти явления, не просто смена настроений, творческий каприз или, наконец, очередная мода. Значительно правильнее объяснить все эти явления крахом надежд части французской интеллигенции на радикальные социальные изменения в стране.
По мере того как буржуазные круги Франции постепенно ликвидировали все обещания, сделанные в период подъема общественных сил страны из страха перед народом, по мере того как увеличивалась угроза новой войны, а она буквально стучались в двери Франции, оптимизм в искусстве уступал место пессимизму. Отсюда и «сила рока», и «безнадежность», и «обреченность героев».
В отличие от режиссеров, выпускавших коммерческую продукцию, которая и накануне второй мировой войны продолжала повторять заигранные мотивы развлекательных жанров, такие деятели интеллектуального фронта в киноискусстве, как Ж. Превер, Ш. Спаак, П. Ларош, Ж. Ренуар и М. Карне, не могли не реагировать в своем творчестве на мрачную атмосферу окружающей их предвоенной действительности.
Если исходить из довольно пессимистического утверждения автора о там, что кино «искусством... оказывается случайно и на него почти никто не смотрит как на искусство, с помощью которого можно выражать свои мысли и идеи» (стр. 315), то, конечно, можно говорить только о чисто эстетических проблемах, отбрасывая в сторону идейную значимость того или иного фильма. Но ведь это не так, и автор сам неоднократно подтверждает это обстоятельство, рассказывая о работах М. Карне и некоторых других режиссеров в период оккупации.
П. Лепроон досконально анализирует «Вечерних посетителей» М. Карне или «Небо принадлежит вам» и «Летний свет» Ж. Гремийона, доказывая, что зрители оккупированной Франции отлично понимали даже самые незначительные намеки, имевшиеся в этих фильмах, авторы которых стремились внушить им веру в победу французского народа над силами оккупантов. Значит, «мысли и идей» средствами киноискусства выражать можно. Тогда почему же автор не акцентирует внимание на тех явлениях, которые сопутствовали развитию прогрессивных идей в киноискусстве в послевоенный период? Ведь если говорить исторически точно, то главный нерв французского киноискусства бился в годы оккупации не в Париже и не в Ницце, а там, где находились подлинные патриоты, – в отрядах Сопротивления. Ведь именно тогда был создан подпольный комитет – «Освобождение кино», в котором активную роль играли Л. Дакен, Ж. Пенлеве, Ж. Гремийон, Р. Клеман и другие пожилые и молодые кинематографисты. Ведь именно из материалов, снятых киноработниками в отрядах Сопротивления. Жан-Поль Ле Шануа мог смонтировать в 1947 г. фильм «В центре бури», а Р. Клеман, изучая их, сделать в 1945 г. «Битву да рельсах».
Но перелистайте книгу П. Лепроона, и вы не найдете в ней вообще упоминания о Л. Дакене, фильмы которого были обращены к простому народу Франции. А разве «Родина» или «Рассвет» не заслуживают такого же, окажем, разбора. как «Ворон» А. Ж. Клузо? К тому же фильм «Рассвет» был удостоен почетного диплома на Международном фестивале в Марианских Лазнях в 1949 г. А разве не интересно было бы отметить в биографии Л. Дакена такой факт, как получение им Международной премии мира за фильм «Битва за жизнь», который показывает, как рядовой француз приходит к убеждению в необходимости борьбы за мир. Может быть, П. Лепроон не упомянул о фильмах Л. Дакена потому, что некоторые из них были запрещены французской цензурой? Нет, в книге есть упоминания о других фильмах, запрещенных к демонстрации. Правда, чаще всего они запрещались не по политическим соображениям, а главным образом по моральным или этическим причинам. Как видим, позиция, занятая автором, мешает ему быть объективным.
Касаясь трагических биографий французских кинорежиссеров, стоило бы более подробно остановиться на судьбе Ж. Гремийона, ныне уже покойного. Ведь ему, как и Л. Дакену, приходилось переживать горькие разочарования и творческие трагедию. Не потому, что их способности и таланты оказались не на высоте, а потому, что они боролись за право осуществить постановку таких фильмов, в которых поднимались острые политические проблемы. Ведь именно Гремийон пытался создать прогрессивную по своей идейной направленности кинотрилогию «Весна свободы» и фильм к столетию революции 1848 г. «Коммуна». Написанный им сценарий для этой трилогии был произведением высокого мастерства. Он был опубликован отдельной книгой. Его слушали в виде радиокомпозиции в 1948 г. и в концертном исполнении в 1949 г.
Каковы же причины, помешавшие осуществлению этой постановки?
П. Лепроон указывает на отказ Министерства просвещения Франции финансировать фильм. Но только ли это помешало Гремийону осуществить свой замысел? И опять приходится пожалеть, что П. Лепроон не рассказал о тех обстоятельствах, которые сопутствовали этому периоду.
В 1946 г. было подписано пресловутое соглашение между Блюмом и Бирнсом о привилегиях для американских фильмов на французских экранах. 52 процента экранного времени в прокате стали занимать американские фильмы. Положение настолько обострилось, что предприниматели прекращали постановку уже начатых фильмов. Даже крупные мастера оказались лицом к лицу с безработицей. В 1948 г. создается Политический комитет защиты французского кино, который вступает в активную борьбу, и только в 1950 г. соглашение Блюм– Бирнс было изменено парламентом.
В этот тяжелый для французской кинематографии период пышным цветом распускаются так называемые «черные фильмы», которые, подражая американским боевикам, сеяли ядовитые семена неверия в человека, подчеркивали господство самых низменных инстинктов. Отсюда понятно, почему благородные идеи, заложенные в произведениях Ж. Гремийона, не нашли своего воплощения на экране.
С другой стороны, упоминание о сложившейся тогда ситуации помогло бы читателям понять, почему возникли и появились некоторые фильмы «черной серии», созданные Клузо, Активный протест киноработников и французской общественности, приведший к ликвидации соглашения «Блюм—Бирнс» и организации фонда поощрения французской кинематографии, способствовал новому возрождению демократических тенденций в киноискусстве. Именно в этом следует искать истоки появления ряда фильмов о простых людях Франции, об их солидарности, о борьбе с угрозой новой войны. Это и «Адрес неизвестен», и «Антуан и Антуанетта», и «Если парни всего мира... », и ряд других.
В этой связи хочется привести штату из доклада М. Тореза на XII съезде Коммунистической партии Франции в апреле 1950 г.: «В наше время наиболее искренние и последовательные художники чувствуют необходимость в присоединении к идеологическим и политическим позициям рабочего класса. Это доказывает, что все достижения культуры теперь на стороне пролетариата».
И факты реальной действительности подтверждают это положение. После второй мировой войны во Франции произошла очень интересная перегруппировка сил на фронте киноискусства. На смену заслуженным мастерам приходят новые кадры. Среди них немало таких, кто начинал творческий путь будучи бойцами отрядов Сопротивления. Они как любители-хроникеры сняли немало документальных кадров, которые были потом использованы при создании фильмов о борьбе французского народа во время второй мировой войны.
Кто они – эти никому не известные люди? Многие из них – дети рабочих, представители трудовой интеллигенции. Они научились в годы Сопротивления чувствовать локоть друг друга. После войны многие из них работают в «короткометражном» кинематографе, а в 1953 году оформляются в «группу тридцати», объединяющую в основном кинодокументалистов. Вскоре состав этой группы значительно расширился, и члены ее выступают организованно, поддерживая друг друга.
Правда, далеко не все произведения «группы тридцати» попадают на широкий экран, но зато все чаще и чаще фильмы, созданные ее членами, удостаиваются премий на международных фестивалях.
Некоторые из режиссеров и операторов «труппы тридцати» получили такое широкое признание, что автор этой книги нашел возможным включить творческий портрет Альбера Ламорисса в число крупнейших французских режиссеров. И действительно, его фильмы – «Белая грива» и особенно «Красный шар», премированный на фестивале в Каннах, – заслуживают быть особо отмеченными.
Вслед за А. Ламориссом можно упомянуть Алена Рене, который сделал документальные фильмы «Герника», «Статуи тоже умирают» и «Ночь и туман» (который демонстрировался в СССР). Последний фильм этого режиссера «Хиросима – любовь моя» поставлен как игровой, с участием актеров и вызвал широкую дискуссию во всем мире.








