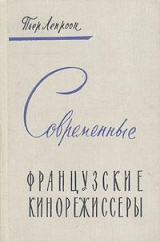
Текст книги "Современные французские кинорежиссеры"
Автор книги: Пьер Лепроон
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 49 страниц)
Таким образом, оставаясь верным театральной форме и сохраняя примат диалога, он все же находит способ прибавить к этому нечто новое. Кинематографическое произведение перерастает свои оригинал.
Подобный опыт был произведен впервые. Oн оказался чрезвычайно удачным, так что не могло быть и речи о его повторении. Жан Кокто избрал форму, соответствовавшую сущности его пьесы. Страшное переплетение непомерных страстей, владеющих пятью персонажами; каждое чувство грозит подчинить себе соседние, и эта ужасная «картинная галерея» дает крупному плану оправдание, какого он не имел бы в других случаях. Эти губы, которые говорят, глаза, которые плачут, ужасающая мимика морщин, смеха, слез соответствует диалогу, который, ничего не скрывая, показывает нам обнаженные сердца. Все это сообщает произведению внутреннее единство и удивительную силу. Текст дает зрителю меньше, чем взгляд актера, чем все те изменения, которые мы видим в выражении лица, в горькой улыбке...
Все это не может быть передано со сцены. Речь идет не только о лучшей видимости, но и об увеличении показываемого. Кокто перенял метод опера-тора, снимающего энтомологический фильм. Мы не подозревали о трагическом ужасе борьбы насекомых, разыгрывающейся в майской траве, пока не увидели это в увеличенном виде на экране. Нечто подобное представляет собой и фильм «Ужасные родители». Будучи «ужасными», персонажи ни на мгновение не перестают быть реальными, чем и порождена патетика фильма.
... «Мои пять актеров, – говорит Кокто, – подобны ветрам Андерсена, врывающимся в пещеру. Я даже думаю, что совершенство их игры делает ее невидимой и умеряет воздаваемые им похвалы и мою благодарность». Ивонн де Брей была восхитительна, а Жан Маре с успехом исполнил в этом фильме свою лучшую роль.
* * *
Особенность Кокто заключается также в постоянном бегстве от самого себя, в том, что он никогда не останавливается на достигнутом. Он исследователь. Успех «Ужасных родителей» не удерживает его от дальнейших исканий. Когда Ж. -П. Мельвиль просит его дать согласие на постановку «Ужасных детей», он соглашается (прежде он неоднократно отказывал в разрешении на экранизацию своего романа), так как считает, что этому режиссеру присущ «партизанский стиль» и он способен придать картине «характер импровизации», отличающий любительские фильмы. Мельвиль придаст своему произведению такой характер. Здесь снова дает себя знать стиль постановщика, несмотря на присутствие автора, а иногда даже несмотря на его влияние.
Как и в «Ужасных родителях», в этом фильме. драма обусловлена господством необычных страстей. Здесь это страстная любовь сестры к брату, там – матери к сыну. Эта привязанность, поддерживаемая притворными ссорами, презрением, спорами, эта страстная требовательность подобна любви с ее инстинктом обладания, власти, но не физической, а моральной и тем самым еще более жадной. Следует ли усматривать в этом романс тему инцеста? Не обязательно. Если от произведения и веет чем-то нездоровым, то это относится скорее к обстановке, в которой развивается драма: отвратительная комната, где зарождается страсть, владеющая героиней. Эта комната ей необходима, она непрерывно перестраивает ее, как паук паутину, чтобы удержать в ней свою жертву, помешать ее соприкосновению с внешним миром, с жизнью.
Мельвиль превосходно передал эту атмосферу. Но еще более примечательно построение рассказа – это уже работа автора адаптации Кокто, который постепенно развивает эту историю, порою нелепую и забавную, по линии нарастания трагизма в духе чистого классицизма. Последние кадры сделаны мастерски: ширмы падают, и камера удаляется, открывая, как в «Вечном возвращении», два распростертых тела, навеки вошедшие в легенду.
Другая сцена– «приглашение к смерти», сделанное Елизабет Полю, также очень напоминает главную сцену «Орфея» – «приглашение к жизни», сделанное Смертью Орфею. Именно в этом фильме Кокто удается «связать концы с концами», о которых он говорил в связи с фильмом «Ужасные родители». «Двадцать лет спустя, – сказал он, – я оркеструю тему «Крови поэта», неловко сыгранную одним пальцем».
* * *
Прежде чем говорить о фильме, посмотрим на поэта за работой, на этого человека мечты в борьбе с теми реальными условиями, которые существуют на киностудии... Но разве он не говаривал «поэзия – это цифры... » И следует ли напоминать цитату, приведенную в начале этой главы: «Искусство кино – это кустарное ремесло, ручной труд... » Для Кокто это не оправдание, а действительность. Он не из тех, кто руководит постановкой, восседая в кресле. Он ходит взад и вперед, раздумывает, останавливается, уходит, измеряет декорации, размещает аксессуары, совещается с актерами. Всегда кажется, что ему необходимо приручить какое-то чудовище, внимание которого следует усыпить хитростью. Для него руководить – значит действовать, поощрять, воодушевлять. Уже во время съемок «Красавицы и Чудовища», рассказав нам о фильме и о своих сотрудниках, он добавил: «Фильм – это искусство организовать съемочную группу». При этом он имел в виду не только «творческий коллектив», работу которого он так хорошо умел координировать и вдохновлять – вкус Кристиана Берара, знания Клемана (который был техническим консультантом постановки «Красавицы и Чудовища»), но и всех участвующих в создании фильма, от которых он зависит в самых мельчайших деталях, например оттого, как машинист толкнет по рельсам тележку с камерой, снимающей панораму. «Кино – это прибежище ремесленников. Вообще ремесленники считаются аристократией рабочей среды. Эту аристократию пытаются уничтожить. На съемочной площадке группа представляется ремесленной в самом точном смысле этого слова. Особенно во Франции, где смышленый человек еще находит себе место. Невозможное становится возможным благодаря «гению» (в стендалевском смысле слова) французского рабочего, который упорствует в достижении намеченного и всегда находит удачный выход из создавшегося положения»[394] 394
«Entretiens... »
[Закрыть].
Жан Кокто работает в атмосфере доверия, дружбы: «Я смотрю на свой технический персонал и на рабочих как на семью, ответственным главой которой являюсь. Я их люблю, и они любят меня... » Как правило, нет ничего более скучного, чем присутствовать на съемке в студии. Однако весьма редко бывает, чтобы уже с самого начала киносъемки не ощущалось рождение большого фильма. Работа таких постановщиков, как Клузо, Клеман или Кокто, дает наблюдателю сотню интересных тем для размышлений. На его глазах возникает произведение, созданное любовью автора в борьбе против всех возникающих на пути его осуществления препятствий. «Поле съемки» не является замкнутым местом драмы, это лишь странная зона, вокруг которой хлопочет группа. Но эта зона не считается запретной; декорация иногда служит кулисами, ими был «дом поэта», открытый Кокто для «Орфея» в небольшой долине близ Шевреза. Он прислонил к старым стенам несколько гипсовых слепков с античных образцов, кое-где прибавил решетчатые загородки. Комнаты были превращены в помещения для гримировки и уборные актеров. Деревенская столовая служила конторой, помещением для приемов или собраний. Внимательно посмотрев на небо, Жан Кокто побеседовал с главным оператором Николя Айэ о задачах на текущий день, затем, пренебрегая дверью, через которую вошея, выпрыгнул в окно, чтобы продолжать в саду свою причудливую прогулку.
«Теперь я знаю, что фильм – это сражение. Надо его выиграть... »
Вот уже несколько дней, как он начал это сражение. Одновременно с этим шло и другое, за перипетиями которого он внимательно следил.
«Быть может, «Орфей» и «Ужасные дети» – два произведения моей юности, доставившие мне наибольшее удовольствие, – сказал он нам. – Сегодня они начинают новую жизнь в кино. Я работал с Мельвилем над экранизацией «Ужасных детей», но сам снимать этот фильм не мог – роман был слишком близок мне... »
Что касается «Орфея», то известна пьеса под этим заглавием, поставленная автором в 1927 году. Фильм не должен был стать экранизацией пьесы. Автор обратился к тем же персонажам – «персонажам вечного мифа, образам мифа, созданного мною», но действие развертывается в соответствии с возможностями оптики в кино и для кино.
««Орфей» должен был стать ирреальным фильмом, снятым в реальной обстановке. Я предусматривал некоторую стилизацию, от которой затем отказался, и обратился к более скромным средствам.
Никакой расплывчатости, поэтических эффектов, никаких хитросплетений. Фотография также будет реалистической и отчетливой».
Но в кино все становится парадоксом. Если в «Орфее» декорации сцен, связанных с жизнью Орфея, были созданы Обонном, то декорации для сцен, в которых фигурирует Смерть, были взяты из действительности – трагической действительности разрушения. В развалинах Сен-Сирской школы Жан Кокто решил создать «зону смерти», через которую Эртебиз ведет Орфея. Из своего недавнего путешествия по Греции и Египту Кокто вывез «любовь к развалинам». В течение нескольких ночей высокие стены, разрушенные бомбами, опустошенные пожаром и открытые небу залы служили для его труппы студией.
Перед камнями, которым белый свет юпитеров придавал вид мрамора, Жан Кокто возрождает Олимп и «стовратные Фивы». У полукруга, образуемого полем съемки, расположилась безмолвная толпа, удерживаемая на своих местах службой наблюдения за порядком. Люди расположились среди развалин, гирлянда настороженных лиц, словно явившихся на представление античной трагедии в открытом театре. И действительно, здесь разыгрывается трагедия, но свидетели увидят лишь ее фрагменты.
Жан Кокто полон энтузиазма. Он ведет нас через развалины, чтобы показать красоту странных эффектов этой созданной бомбами декорации. «Это развалины человеческих привычек, – говорит он нам... – Зона, в которой души еще не успели полностью отрешиться от того, что было их оболочкой, от форм их «привычки» в жизни... » Такова дорогая поэту судьба стекольщика.
У начала лестницы, где растения уже разрушают камни, Мария Казарес стоит рядом с Сежестом. Черное платье ниспадает с ее плеч, длинная газовая вуаль покрывает всю ее фигуру.
«Смерть, грозящая Орфею, —сказала нам актриса, – персонаж двуликий: один ее лик – дисциплина и власть, другой – нежность. Смерть – это своего рода чиновник, отдающий приказы с той же требовательностью, с какой ее принуждают к покорности. Отсюда строгость и замкнутость персонажа. Но любовь смягчит ее сознание, уведет с пути долга... »
Следующее мгновение показало нам, как понимала Мария Казарес эту драму и как ее передавала. Снимался момент, когда Смерть Орфея осуществляет то, о чем Эртебиз окажет: «ни в одном из миров ничто не может быть важнее» возвращения поэта к жизни.
Эртебиз и Сежест схватывают Орфея – Жана Маре – и как бы сковывают его; постепенно воля Эртебиза околдовывает героя и берет верх над его волей. Орфей возвращается к жизни, так же как погружаются в сон. И именно Смерть здесь руководит, приказывает и требует того, что противоречит ее миссии. Выпрямившись, закинув голову к стене, Мария Казарес говорит, кричит, голос ее дрожит, она вся трепещет, впав в состояние транса, который уже заставлял содрогаться зрителей «Deirdre des Douleurs» при ее появлении на сцене театра Матюрен. Слезы текут по ее щекам, голос прерывается рыданиями. Призыв к Эртебизу отзвучал... «Стоп!» Но обычный приказ не нарушает тишины. Жан Кокто удаляется потрясенный... «Какая актриса!» – шепчет он...
Кажется, что никогда ни одна съемка не захватывала нас до такой степени. Волнующая сцена, темнота ночи, пронизанная лучами юпитеров, талант актрисы – все способствовало созданию впечатления величественности, которое и должен был передать фильм.
... В пять часов утра, когда первые проблески зари заставили поблекнуть свет прожекторов, мотоциклисты Смерти, закованные в кожаные одежды, сели на свои мощные машины.
«Когда я снимаю фильм, – говорит Жан Кок-то, – у меня такое ощущение, словно я вижу сон. Люди могут «ходить в комнату; я их не «слышу; я живу, окруженный персонажами моего сновидения. Сейчас я живу в окружении персонажей моего фильма. Я никуда не хожу, не вижусь с друзьями... »
«Я не отдыхаю по-настоящему в воскресенье, – оказал он в другой раз. – Я пытаюсь возможно скорее уснуть».
К концу съемок он бывает измучен физически и морально. Но это неизбежно при создании художественного произведения, требующего от своего творца полной отдачи, предельного напряжения всех способностей. Сделать фильм – это значит задумать сюжет, облечь его в форму, взять из предлагаемых вам возможностей именно то, что требуется, и собрать разнородные элементы воедино, отбросить ненужное; кроме того, это значит приходить на студию первым, уходить последним, укладывать складки платья актрисы, расставлять и переставлять реквизит.
Жан Кокто большой кинорежиссер не только по значению своих фильмов и оригинальности поисков, но и по достойной подражания вере в свой труд.
Автор опубликовал монтажный лист «Орфея»[395] 395
Edition «La Parade», Paris, 1950.
[Закрыть], так же как и фильма «Красавица и Чудовище», снабженный заметками о картине, о ее темах и персонажах. Кроме того, он дал несколько пояснений относительно этого фильма, который, по его словам, «заставил его подвергаться огромному риску».
«Орфей» – фильм, который может существовать только на экране, и ни театр, ни книга не могут мне здесь помочь. В первый раз после фильма-импровизации «Кровь поэта», сделанного мною двадцать лет тому назад, когда я совершенно не был знаком с искусством кино, я пытаюсь разрешить важную задачу – использовать кино не как вечное перо, а как чернила.
Я беру несколько мифов и перекрещиваю их. Миф античный л миф современный. Драма видимого и невидимого. Два мира, которые не могут проникнуть один в другой, но пытаются осуществить это взаимопроникновение. В результате невидимый мир становится видимым и очеловечивается до такого предела, что изменяет своей сущности, а мир видимый проникает в невидимое, но с ним не смешивается. Смерть Орфея оказалась в положении шпионки, влюбившейся в того, за кем ей приказано следить, и поэтому она будет судима. После произнесения приговора она остается как бы связанной, и за ней устанавливается наблюдение. Под гнетом этого наблюдения она произносит себе приговор ради человека, которого ей придется потерять. Человек спасен. Смерть погибает. Это миф о бессмертии.
«Когда вы снимаете реалистическое произведение, цифры организуются без труда, по законам обычной математики. Но если вы изобретаете нереальный ритм, необходимо комбинировать цифры и упорядочить математические действия. Малейшая ошибка превратила бы ваше произведение в «фантастическое», а я не одобряю фантастики, считая ее бессильной. «Орфей» может нравиться и не нравиться, но если вы станете тщательно изучать механизм фильма, то ничего неправдоподобного в деталях не найдете. Целое будет казаться неправдоподобным только тем, кто не видит в мире ничего, кроме собственной персоны и четырех стен своей комнаты»[396] 396
«Unifrance Film Informations».
[Закрыть].
Фильм «Орфей» интересен по многим причинам. С самых первых демонстраций его во Франции и за границей можно было предсказать, что интерес к нему будет длительным. Этому произведению с самого начала гарантирована своего рода вечность. Оно интересно разными своими сторонами в соответствии с теми точками зрения, под которыми его рассматривают. В плане киноискусства – а это важно в первую очередь – оно представляет собой почти единственную в подобном масштабе попытку вырвать это искусство, такое молодое и уже такое состарившееся, из круга привычного, из круга требований, диктуемых материальными обстоятельствами. Оно было воплощением в масштабе большого фильма, рассчитанного на широкого зрителя, смелых опытов так называемых «авангардистских» короткометражных лент, имевших значение лишь для небольшого круга посвященных, иначе говоря, не оказывавших никакого влияния. Жан Кокто был единственным, кто решился сделать этот шаг, который дался ему нелегко; и надо думать, он был единственным, кто мог это сделать с успехом. Что бы там ни было, он был вправе сказать в заключение: «Я доказал, что желание видеть нечто необычное побеждает лень, удерживающую публику от серьезных фильмов»[397] 397
«Entretiens... »
[Закрыть].
Для Кокто этот фильм важен тем, что в него вошли главные темы его творчества, а именно: тема необходимости для поэта проходить через ряд последовательных смертей, чтобы каждый раз возрождаться и в конце концов обрести себя, как сказано у Малларме: «таким, каким стало его существо, измененное вечностью»...
Тема вдохновения и тема зеркал, о которых Эртебиз скажет: «Смотритесь всю вашу жизнь в зеркало, и вы увидите смерть, которая трудится в вас, как пчела в стеклянном улье».
Об этих темах, которые он «ведет одновременно и перекрещивает между собой», Жан Кокто говорил в статьях и непосредственно репортерам при представлении своего фильма прессе. Я уже просмотрел фильм, и мне казалось, что Кокто слишком много объяснял, отнимая у произведения необычность, составлявшую часть его красоты.
Существует два способа смотреть фильм: первый– отдаваясь формальной красоте образов, языка, звуков, позволяя уносить себя, как это бывает при прослушивании музыки, задумываясь не больше, чем задумывается о своих снах тот, кто не заботится об их толковании. Быть может, этот способ лучший. «Вы слишком стараетесь понять все происходящее, милостивый государь. Это большая ошибка». Но если вы даете волю анализу, – а Кокто, противореча себе, нас к этому побуждает, – то все, что может казаться непонятным или просто неоправданным, находит свое оправдание в размышлениях того или иного героя: эта принцесса является не символическим образом Смерти («В этом фильме нет ни символов, ни концепций», – пишет Кокто), а смертью Орфея и смертью Сежеста. «Вы знаете, кто я?» – спрашивает она. Сежест отвечает; «Вы моя смерть», но он не говорит: «Вы смерть вообще... » – Эта зона, где все обветшало, представляет собой не заоблачные края, не ад, но то, что остается от привычек человека... Этот стекольщик, что проходит мимо... «Нет ничего неистребимее старинных профессий».
Здесь не разыгрывается античный миф. «Никто не может поверить в знаменитого поэта, имя которого выдумано автором. Мне нужен был певец мифологический, певец певцов. Певец из Фракии. Его история так прекрасна, что было бы безумием искать другую. Это канва, по которой я вышиваю свой рисунок». Кокто придал своему Орфею другую любовь, любовь не к Эвридике, а к собственной смерти, воплощенной в принцессе, которая жертвует собой и своей любовью, чтобы сделать его бессмертным.
Эта центральная тема переплетается со сценами, отмеченными едким юмором Кокто, юмором, который может раздражать одних и пленять других. Кафе поэтов, возвращение Эвридики примешивают к драме шутовской элемент. При первом просмотре фильма возникает ощущение бессвязности, котороe затем исчезает. Однако неоспоримо, что фильм приобретает широкий размах главным образом во второй части. Некоторые моменты, сопровождаемые музыкой ударных инструментов, достигают душераздирающей силы. А последний кадр – после стольких других – незабываемо прекрасен.
Музыка, «Орфея», как и предшествовавших фильмов Кокто, совершенно оригинальна. Нам известна свобода, c которой Кокто приспосабливает музыку к своим фильмам. «Начиная с фильма «Кровь поэта», я перемещал и изменял порядок музыкального сопровождения всех эпизодов». Для «Ужасных детей» он использовал музыку Баха, подобно тому как впоследствии Ренуар нашел у Вивальди аккомпанемент к «Золотой карете». Для «Орфея» Кокто записал звуки барабанов эстрадного оркестра Катерины Дюнхам, наложил их на партитуру Жоржа Орика и иногда даже прекращал музыку в оркестре, чтобы звучали одни барабаны. Это создавало самый потрясающий эффект.
Мне казалось, что о подобном произведении лучше дать эти разрозненные заметки, чем пытаться написать критическое исследование, которое неизбежно оказалось бы фальшивым и неуместным. Поэтическое произведение не поддается анализу; оно либо воздействует на людей, либо не воздействует. Можно направить на него лучи, с тем чтобы подчеркнуть некоторые его стороны, не освещая целиком. Здесь, как уже было сказано, самому поэту захотелось бросить эти лучи на свое произведение. Странно видеть, с какой настойчивостью старался он показать в своих статьях, комментариях и беседах, что «Орфей» не является фильмом лишь для посвященных, вероятно потому, что характер этого фильма мог создать подобное впечатление.
«Я хотел слегка, не философствуя в пустоте, коснуться самых важных проблем. Итак, этот фильм —детектив, с одной стороны, уходящий в миф, а с другой – в область сверхъестественного.
Я всегда любил сумерки, полутьму, в которой цветут загадки. Я думал, что кино прекрасно подходит для их передачи при условии возможно меньшего использования того, что люди называют «чудесным». Чем ближе подходишь к тайне, тем важнее быть реалистом. Радио в автомобилях, шифрованные сообщения, коротковолновые сигналы, порча электричества – столько знакомых всем явлений, позволяющих мне оставаться в пределах реального».
Что касается персонажей фильма, то Кокто утверждает, что они «настолько же или почти настолько же далеки от «неведомого», как и мы». Этот потусторонний мир представляет собой лишь мир другой, иной круг, над которым имеются новые круги. Принцесса, Эртебиз – лишь посланники Смерти; обслуживающие ее мотоциклисты «не более, чем дорожные сторожа, знают о распоряжениях министра». В поступках Принцессы Кокто, как и в нашем мире, видит тайну свободной воли, проблему выбора, которая в действительности является проблемой бунта.
Отказываясь от подчинения приказам и следования порядку, Смерть Орфея, столь же неведающая о последствиях, как и мы, идет на риск, какому подвергаемся мы в каждое мгновение нашей «свободы». Таким образом мы видим, как миф соприкасается с подлинно человеческим началом, видим, что этот фильм при всей его необычности затрагивает важнейшие проблемы нашем судьбы.
Автор заметил, что люди пересматривали «Орфея» по пять-шесть раз. В Германии в одном из кинозалов его показывали каждую субботу в течение четырех или пяти лет. Зрители вновь идут на этот фильм, как вновь слушают поэму, но также и для того, чтобы лучше им проникнуться, открыть в этом лабиринте другие перспективы. Лес никогда нельзя знать до конца; в нем всегда можно заблудиться. Может быть, именно это и нравится зрителям «Орфея». Это произведение имело гораздо больший успех за границей, чем во Франции. Несмотря на все предосторожности, принятые Кокто для того, чтобы заставить нас поверить в простоту его фильма, эта тайна претит нашему рационализму.
«Я приступаю к работе не тогда, когда мне в голову приходит мысль, а лишь если она неотступно меня преследует, сводит с ума и терзает настолько, что мне необходимо ее выразить и любой ценой от нее избавиться»[398] 398
«Entretiens... »
[Закрыть].
После «Орфея» Жан Кокто, по-видимому, оставил кино. Он снял в Сен-Жан-Кап-Ферра среднеметражный цветной узкопленочный фильм под названием «Святая мечта» (Santo sospir). Тема этого маленького фильма – мифологические фрески, выполненные им самим на стенах виллы на Кап-Ферра. Этот фильм лишь интермедия в творчестве Кокто, как и те маленькие, не выходившие на экран или утерянные фильмы, о которых Андре Френьо говорит в своих «Беседах».
Что обескуражило Кокто, усталость или затруднения?Кинорежиссер должен непрестанно бороться не только с самим собой и своим искусством, но и с проблемами финансового, социального и материального порядка, возникающими в связи с постановкой фильма.
Большое значение «Орфея» в искусстве, в котором столь мало произведений отличается какой-либо значимостью, заставляет нас сожалеть об отходе от кино этого вдохновенного художника. Он сам лишь с трудом решился на это. Он говорил: «Человек устроен так, что яд действует на него чрезвычайно быстро, и отравление работой (например, над фильмом) требует столь же медленного и болезненного процесса борьбы за очищение организма, как и при отравлении опиумом. У тебя бессильно падают руки, они отказываются держать перо. Человеку, бегавшему вверх и вниз по лестницам, руководившему работой актеров, отдававшему распоряжения бригадам механиков и электриков, работа писателя кажется скучным делом.
Поэтому мое лечение состоит в том, чтобы отказаться от этой суматохи, которая словно встряхивает вино, мешая ему отстаиваться в бутылке.
Нужно вернуться в одиночную камеру, к книгам, читаемым немногими, к поэтам, выражающим крайний предел одиночества»[399] 399
«Entretiens... »
[Закрыть].








