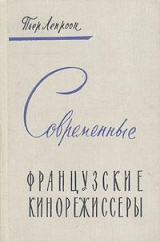
Текст книги "Современные французские кинорежиссеры"
Автор книги: Пьер Лепроон
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 49 страниц)
Жак Беккер нашел «тон» для французского неореализма, который увязывался с рационализмом, сдержанностью чувства, точностью и изяществом режиссерского почерка. Жаль, что он сошел с этого пути.
Однако можно утверждать, что фильм «Не прикасайтесь к добыче» также в известной мере рисует картину современного французского общества. Преступный мир, мир гангстеров высокого полета занимает определенное место в современной жизни, а Жак Беккер в этом замечательном фильме дает его отчетливое изображение без каких бы то ни было условностей и всякой дешевой романтики, которой обычно окутывают подобные истории. Но такого рода изображение жизни, хотя оно и отвечает стилю режиссера, испытывающего необходимость в точной характеристике различных слоев общества, не является ни целью, ни задачей фильма. «Прежде всего меня интересуют персонажи», – говорит Беккер. Персонажам уделялось больше внимания, чем обстановке, в его предыдущих работах. Но «Антуан и Антуанетта», «Эдуард и Каролина», молодежь из «Свидания в июле» живут в определенной среде, и она в свою очередь сказывается на героях. Бегло рисуя преступную среду, бары, девиц, места, где хранятся краденые вещи, и т. п., Беккер дает лишь внешнее представление об обстановке, необходимой для занятий определенной «профессией», с которой сами персонажи – особенно Макс – ничем не связаны. Беккер и сам перестает интересоваться ею. Он с ледяным совершенством рисует эту среду, в которой герои остаются посторонними, хотя и живут в ней. Таким образом, «свидетельство», на которое можно было рассчитывать, обращаясь к этой среде, отсутствует. С тем же презрением к дешевым эффектам Беккер доводит до схематичности всякие грубые моменты, связанные со спецификой действия и самого детективного жанра, к которому, по-видимому, относится фильм «Не прикасайтесь к добыче». Финальная сцена сведения последних счетов проведена с удивительной строгостью, но дана лишь потому, что требовалась по сюжету. Ни по замыслу, ни по использованию выразительных средств это не традиционная «потасовка». И именно поэтому сцена стала образцам для данного жанра.
Итак, на экране лицом к лицу встречаются два человека. Они изолированы от окружающего их мира, напоминая трио в «Золотой каске», замкнутое в очерченном любовью круге, и связаны «профессиональной» дружбой, опасностями, которым вместе подвергались. Эта дружба даст Максу более 50 миллионов; она даст ему то, чего он никогда прежде не мог найти, – покой. Но Макс приходит в бешенство при мысли об этой дружбе; он знает, что Ритон не стоит его привязанности. Эта дружба, от которой герой хотел бы отделаться, но которую , он терпит, – последние оковы, связывающие его, мешающие его полному освобождению. Что найдет он за ними? Полное одиночество. Кажется, в этом кроется смысл фильма Беккера. Это не столько драма дружбы, сколько драма одиночества. Одиночество жизни, которая привела героя в некую пустыню, где ему остается лишь ожидать смерти-избавительницы, подобно герою фильма Феллини[383] 383
Федерико Феллини (род. 1917) – один из крупнейших современных итальянских кинорежиссеров. Советский зритель знаком с его творчеством по фильмам «Дорога» (1954) и «Ночи Кабирии» (1957). В шедших на наших экранах картинах «Рим – открытый город», «Нет мира под оливами», «Дорога надежды» он выступает в качестве сценариста.
[Закрыть] «Мошенники», в одиночестве переживающему предсмертную агонию на краю оврага.
Максу удалось избежать столкновения с полицией; его спасла в основном потеря богатства. Ему придется вновь приняться за борьбу и, следовательно, жить. Но это спасение в свою очередь является приговором. Другая тема фильма – усталость. Усталость человека, дожившего до пятидесяти лёт, для которого все кончено; он все исчерпал и мечтал лишь о покое, об уединении. Эта тема усталости, почти не встречавшаяся в кино, присоединяется к теме одиночества. Они придают фильму, внешне такому сентиментальному и живописному, звучание, полное горечи и безнадежности. Макс борется в безлюдном мире...
Совершенно очевидно, что этот фильм очень далек от картины нравов и детектива, он ведет нас в мир, гораздо более глубокий, более скрытый от постороннего глаза. Если в «Золотой каске», как нам кажется, за блестящей пластической оболочкой отсутствует какая-либо глубина, то фильм «Не прикасайтесь к добыче» представляется нам полированным зеркалом, помогающим проникнуть в самую глубину отражаемых им истин. Это по самой своей сущности фильм психологический... Таким образом, гoворя об эволюции Жака Беккера, мы не хотим сказать, что в его творчестве наблюдается спад. Как раз наоборот. Речь идет об изменении направления. «Приходит момент, – пишет Франсуа Трюффо, – когда каждый подлинный создатель совершает такой рывок вперед, что его почитатели теряются». Это не относится к «Добыче», в которой публика усматривала лишь детектив, чем и объясняется большой успех фильма. Но по этой же причине создатель может сбить своих поклонников с толку. Вполне естественно, что Беккер ощутил потребность совершить этот «рывок вперед» в «Золотой каске» и «Добыче». Или по крайней мере, как принято говорить, «обновить» свое искусство...
Этим желанием следует объяснить и постановку фильма «Али Баба», который можно назвать фильмом недоразумений. На первый взгляд кажется удивительным, что Беккер мог увлечься подобным сюжетом. Но по зрелому размышлению это перестает удивлять. Разве он не говорил сам, что хотел бы стать «рассказчиком»? И разве восточная сказка, как ее понимает режиссер, не является лучшим образцом этого жанра? Основные черты стиля постановщика могли сотворить чудеса при воспроизведении со свойственной ему точностью персидской миниатюры или арабского орнамента. Но для успеха от режиссера требовалось более, чем когда-либо до этого, основательное владение структурой произведения и выразительными средствами, необходимыми для его воплощения. Но именно это не было позволено Беккеру. Невозможность осуществить задуманное очень скоро расхолодила постановщика. Теперь у него осталось желание создать просто «добродушный фильм», как он выразился во время наших бесед в Тарудане.
Недоразумение начинается с самого построения этой истории. Между тем линия рассказа весьма проста, и именно в этой одноплановой простоте фильм мог найти свои первые достоинства, за которыми пышным цветом распустились бы и остальные. Другое недоразумение заключается в имени лучшего итальянского сценариста – Дзаваттини, фигурирующего во вступительных титрах фильма. Такая сильная художественная индивидуальность, как Дзаваттини, могла лишь деформировать классическую линию народной сказки. В действительности же его участие было весьма незначительным. Но продюсерам казалось выгодным приписать сценарий еще одному знаменитому имени, хотя имени Беккера было бы совершенно достаточно. Четверо или пятеро сценаристов – авторов диалогов, включая самого Беккера, принялись за дело, чтобы привести в порядок эту «комедию-фарс». Но работа удалась им лишь наполовину. Сюжет развивается по нескольким направлениям, не приобретая равновесия ни в одном, рассказ лишен единого тона. Подобное отсутствие каркаса должно было мешать Беккеру, который любит знать, к чему он идет.
У Бектара возникла соблазнительная, но странная мысль: снимать эту восточную сказку в южном Марокко, вписать фантазию в рамки реальной жизни и пейзажа столь сурового, столь замкнутого и столь увлекательного. Выжженные берега высохших африканских ручьев, свежая прелесть пальмовых рощ, четыре тысячи арабов в живописных лохмотъях, палящая жара, месяцы напряженной работы. Какой замечательный фильм мог бы снять Беккер, если бы ему не приходилось ставить «Али Бабу»!
Недоразумение – искать в действительности то, что следовало «строить» с еще большей неукоснительностью, чем «Золотая каска». Наконец оставалось недоразумение с Фернанделем. Это большой актер, но его актерский темперамент не соответствовал стремлению Беккера к тщательной отработке деталей. Уроженец Прованса, упрямый как бретонец, он не признавал ничего, кроме своей точки зрения. С первого же вечера, проведенного в Тарудане, я понял, что режиссер и актер шли различными путями, и под внешними уступками почувствовал взаимную враждебность. И тот и другой в беседе со мной подтвердили это впечатление. Однако никто из них не хотел взять на себя ответственность за это недоразумение. Данные Фернанделя не соответствовали стилю, которого придерживался Беккер. Созданный актером образ был, несомненно, сочным, во многом удачным, но он не вязался с фильмом. И, конечно, никакие качества деталей не могут искупить этот разрыв. Можно отметить отдельные места фильма, находки в игре актеров, тонкость характеристик, стремительность финального преследования, когда фильм наконец принимает тот фарсовый характер, в котором он задуман режиссером. Расстроенный вялостью драматического развития, обескураженный темпераментностью актера, Жак Беккер растерялся. Это фильм не Беккера: он был создан не его волей, а его беспомощностью. Поэтому мы не придерживаемся мнения Франсуа Трюффо, который, исходя из своей «политики авторов», несмотря ни на что, восхищается «Али Бабой», отводя этому фильму место, какое ему не отводит сам Беккер. «Несмотря на сценарий, измельченный десятью или двенадцатью авторами, не считая Беккера, «Али Баба» является фильмом одного автора, достигшего исключительного мастерства– автора фильмов»[384] 384
François Truffaut, «Cahiers du Cinéma». № 44, février 1955.
[Закрыть]. Однако это не так. Наоборот, «Али Баба» – это фильм, автор которого от авторства уклонился. Не будем обвинять в этом Беккера. У него не было иного выхода.
Можно ждать большего от его последнего фильма «Приключения Арсена Люпена», хотя очевидно, что режиссер старается создать популярное произведение, к чему его обязывает и название и сюжет. Альбер Симонен, автор «Добычи», и Жак Беккер свели в один сценарий несколько романов, которыми зачитывалось целое поколение, сохранив их время действия– 1910 год.
Похоже, что этот новый фильм Беккера говорит о его ориентации на «кинодивертисмент», к которому в той или иной форме примкнули почти все крупные французские кинорежиссеры современности.[385] 385
В 1959 году во время недели французского кино в Москве шел новый фильм Жака Беккера «Монпарнас, 19», рассказывающий о жизни известного французского художника Модильяни. В 1960 году Беккер умер.
[Закрыть] В этом, несомненно, следует усматривать реакцию на «черные», а также на «проблемные» фильмы, которыми злоупотребляло французское кино последних лет. В кино, больше чем в любой другой форме искусства, на характере художественных произведений оказываются различные течения. Будущее покажет, чего можно ожидать от этого нового пути; можно надеяться, что он в свою очередь заставит французскую кинематографию принять новую ориентацию...
Жан Кокто
«Искусство кино – это кустарное ремесло, ручной труд. Произведение, написанное одним человеком « экранизированное другим, представляет собой всего-навсего перевод... Для того чтобы искусство кино стало достойным писателя, надо, чтобы писатель стал достойным этого искусства; надо, чтобы он не предлагал для перевода на экран произведение, написанное левой рукой, а (принимался бы за него обеими руками и создавал вещь, стиль которой был бы равноценен его писательскому стилю»[386] 386
«Entretiens autour du cinématographe», Paris, 1951.
[Закрыть].
В этих нескольких строках заключен большой смысл. Нам казалось необходимым привести их читателю, прежде чем говорить о кинематографисте Жане Кокто. Они объясняют ослепительный путь этого поэта, сравнимый с полетом падающей звезды в астральном мире кино. Но они определяют также – лучше, чем все участники полемики, длящейся уже более тридцати лет, – понятие «автор фильма» и делают его ясным и очевидным.
Как только «поэзия кино» своей необычностью привлекла никогда не дремлющее внимание Жана Кокто, он понял, что дело заключается не в том, чтобы поставлять темы исполнителям, а в том, чтобы пользоваться камерой как пером или кистью. И так же, как раньше Жан Кокто писал поэмы и романы, легкими мазками рисовал образы своих мечтаний, выкраивал театральные костюмы, набрасывал декорации, танцевал в балете, так теперь он создавал фильм с неловкостью увлеченного своей работой ремесленника. Это была «Кровь поэта», «сыгранная одним пальцем на рояле... »
Он уже хорошо знал, что фильм создается не так, как на бумаге составляется баланс. Он знал, что необходимо являться на студию, играть со светом, преодолеть тысячу коварных уловок со стороны вещей и людей. Он знал, что эта мечта, облаченная в зримые образы, создается лишь с помощью всевозможных реальных вещей, нередко враждебных, иногда благосклонных. «Мри промахи, – скажет он впоследствии, – будут приняты за хитрые шаги, а походка сомнамбулы – за ловкость акробата».
Если между первым его фильмом и последующим прошло четырнадцать лет, это не означает, что Жан Кокто признал себя побежденным. Возврат кино к театру отдаляет его от искусства, терявшего присущее ему своеобразие. Затем Кокто с осторожностью приблизился к этому искусству, постоянно неуверенному в себе самом, и создал несколько диалогов, несколько сюжетов и наконец решился вернуться в студию, чтобы создать в соответствии со своими взглядами один из самых прекрасных рассказов о том, что он называет «великой французской мифологией». В течение четырех лет он замкнул цикл своего рода исследований самых различных аспектов кино.
* * *
Мы не станем здесь описывать творческий путь Жана Кокто. Пьер Броден уже подвел итог его литературной деятельности[387] 387
«Présences Contemporaines», Littérature, t. I.
[Закрыть]. Следует ли напоминать читателю главные этапы духовного пути Жана Кокто?
Он родился 5 июля 1889 года в Мэзон-Лафитте, учился в лицее Кондорсе и в пятнадцать лет впервые побывал в Венеции. По возвращении в Париж он вращается в литературных и светских кругах, знакомится с Катюль-Мендесом, Эдмоном Ростаном, Марселем Прустом и графиней де Ноай. В шестнадцать лет выпускает первый сборник стихов, завязывает дружбу с Андре Жидом, Ж. -Э. Бланшем, Игорем Стравинским. Освобожденный в 1914 году от воинской повинности, он организует санитарные поезда для раненых и вступает в полк морской пехоты. Его представляют к ордену «За боевые заслуги», но выясняется, что он не числится в боевых войсках, и его переводят на нестроевую службу. Помимо чрезвычайно плодотворной литературной и театральной деятельности, Жан Кокто вместе с Блезом Сандраром основывает издательство. Под влиянием Жака Маритена склоняется к католицизму, но впоследствии отходит от него. Совершает за 80 дней кругосветное путешествие на пари и публикует рассказ о нем в «Пари-Суар». После войны путешествует по Греции и Египту. В настоящее время чаще всего гостит на вилле госпожи Вейсвейлер «Санто Соспире», расположенной на крайней точке мыса Сен-Жан-Кап-Ферра.
«Я рисовальщик, – говорит Жан Кокто, – мне свойственно видеть и слышать то, что я пишу, и облекать написанное в пластическую форму». Действительно, именно рисунок привел поэта, автора «Мыса Доброй Надежды», к созданию фильма. Виконт де Ноай, уже финансировавший «Золотой век» Бунюэля, в 1929 году попросил Кокто сделать мультипликационный фильм. «Я быстро понял, что мультипликация требует незнакомой еще во Франции техники и бригадной работы. Поэтому я предложил ему создать фильм столь же свободный, как и мультипликация, выбирая лица и места в соответствии с той свободой, с которой рисовальщик выдумывает близкий ему мир»[388] 388
«Entretiens autour du cinématographe», Paris, 1951,
[Закрыть].
Так была предпринята работа над фильмом «Кровь поэта».
Начиная с этого времени Жан Кокто пишет в публикуемом Грюндом «Опыте ковсвенной критики» о трудностях работы, в которую он ушел со всей своей страстной любовью к новому: «Работа над фильмом – работа слепого; умираешь от усталости, стараешься не умереть, чтобы не рухнуло все предприятие, – вот и все». Впоследствии он рассказывал о «придирках», которым подвергался на студии, и о том, как пыль, поднятая слишком рано явившимися подметальщиками, помогла его оператору Периналю заставить танцевать золотые пылинки в лучах света дуговых ламп.
Результатом этих трудов, этого опыта, этих случайностей явился фильм, который, как и все, что в то время не укладывалось в понимание кинодраматизма, был признан «авангардистским». Весьма часто «Кровь поэта» подводили под эстетику сюрреализма, в то время как автор объявлял себя противником фильмов этого направления. Он прибавлял, что столь же абсурдно говорить о влиянии «Золотого века» Бунюэля, поскольку этот фильм снимался одновременно с «Кровью поэта», причем Кокто ничего о нем не знал.
«Кровь поэта» – фильм поэтический, созвучный поэзии, уже находившей себе выражение в поэмах и пьеса Кокто, созвучный также темам, развившимся и созревшим впоследствии в «Орфее».
«Не отдавая себе в этом отчета, я изображал самого себя; так происходит со всеми художниками, для которых модель является лишь предлогом... » И все там же – в цитированных нами «Беседах» – он упоминает о некоторых истолкованиях его фильма лишенными воображения начетчиками. Однако в 1932 году Кокто писал: «Кровь поэта» не содержит в себе никаких символов. Зрители сами усматривают в фильме символы». Он не ошибался. «Желая подчеркнуть, что время действия соответствует мгновению мысли», в начале фильма он показывал заводскую трубу, которая начинала разваливаться, а в конце фильма зрители видели, как она обрушивалась окончательно. Тот же смысл приобретает письмо, брошенное почтальоном в почтовый ящик в «Орфее». Кружок девушек, занимавшихся изучением психоанализа, усмотрел в этом образе «Крови поэта» фаллический символ.
Создатели фильма или любого другого произведения, должно быть, нередко бывают удивлены, услышав о намерениях, которые им приписывают. Но произведение искусства создано из материала, который видят люди: в этом – его право на существование. Художник не более уверен в судьбе своего произведения, чем мать в судьбе своего ребенка. В результате этих открытий Кокто приходит к следующему заключению: «Мы – столяры-краснодеревщики. Спириты появляются позже, и это уже их дело, если они захотят заставить стол разговаривать». Но ведь столы говорят...
Интерес к фильму «Кровь поэта», критика, которой он был встречен, и комментарии, по-видимому, в дальнейшем никак не способствовали укреплению связи Кокто с кино. Увлеченный другими формами поэзии, он отошел от поэзии кино. Тем не менее можно полагать, что сама эпоха—появление говорящего кино, возвращение к худшим театральным концепциям – была особенно неподходящей для новых опытов в области кинематографической выразительности. Авангард умер. Обстоятельства сопутствуют или мешают появлению произведений, больше всего проникнутых индивидуальностью авторов, которые нередко оказываются не в состоянии осмыслить свое положение.
Другая эпоха вернула Кокто к кино, хотя он, конечно, не отдавал себе в этом отчета. Война, оккупация заставили французскую кинематографию порвать с действительностью, с реализмом. Это было сознательным и в то же время вынужденным бегством в мечту, поэзию, легенду...
«Барон-призрак», фильм Сержа де Полиньи, послужил для Жана Кокто предлогом для возвращения к этому таинственному миру зрительных образов, к которому он осторожно приблизился как мастер слова. Он делает лишь инсценировку, пишет диалога – тема фильма принадлежит не ему. Вот как он ее излагает: «Вообразите себе старинный разрушенный фамильный замок. Он видывал столько свадеб. Рвы, наполненные водой, озера, пруды, подземные тюрьмы, леса и лунный свет – вот что такое «Барон-призрак»[389] 389
Roger Régent, «Cinéma de France», Paris.
[Закрыть]. Это фильм полный литературных и кинематографических реминисценций—Эрве, лунатик, уносящий Анну в своих объятиях, газовый шарф, развевающийся над травами ночного леса, – но вместе с тем это возвращение к доступной глазу красоте. Диалог поэта парил над этими образами, не подавляя их, и сам Кокто, исполнявший главную роль, делал «барона-призрака» образом комичным и в то же время трагическим... Романтику, интриги, шероховатости в построении сюжета нельзя было вменять ему в вину.
Значительно большим будет его вклад в фильм «Вечное возвращение», поставленный в 1943 году Жаном Деланнуа. Тема этого фильма обусловлена теми же событиями, необходимостью отказа от актуальных сюжетов, к которым нельзя было обращаться в условиях оккупационного режима.
Жан Кокто остается верен себе, воспроизводя на экране древнюю легенду и перенося ее действие в современность. Он делал это для театра, используя темы Орфея и Эдипа. Он будет это делать для экрана в своем главном фильме «Орфей». Если «Вечное возвращение», о котором мы говорили в главе, посвященной Жану Деланнуа, не является фильмом Жана Кокто, то это потому, что, по его же выражению, он был написан «левой рукой» и потому совсем не соответствует литературному стилю поэта. Но как можно не почувствовать его почерк в очаровательном финальном эпизоде – в этом чуде, поднявшем режиссера и актеров на высоту, можно сказать, превышающую их возможности.
Волшебник продолжает творить чудеса в фильме «Дамы Булонского леса». На этот раз он медленно приближается к своей цели, находясь между Дидро и Брессоном... Он принимает участие в написании диалога этого фильма, на котором все же сказывается стиль режиссера. Наконец два года спустя Жан Кокто вновь решается «двумя руками» приняться за работу в кино и ставит фильм «Красавица и Чудовище».
* * *
Выбор этого сюжета вызвал всеобщее удивление. Используя «волшебную сказку без феи», написанную госпожой Лепренс де Бомон в качестве материала для нового опыта в кино, Кокто оставался верным своей любви к чудесному, украшающему все формы искусства, в которых выражалась его мысль.
Он говорил нам тогда о своем фильме: «Этот сюжет примыкает к циклу, который я назову «великой французской мифологией». Я снимаю его для тех, кто еще сохранил детскую непосредственность, и для тех, несомненно, гораздо более многочисленных зрителей, которые устали от того, что называется реальной жизнью... Фильм не ставит никаких психологических задач. Пусть зрители думают все, что им заблагорассудится. Фильм предлагает каждому частицу чудесного. Но чудесное имеет свои законы. Действие не может развертываться в неправдоподобной атмосфере, и поэтому я не мог позволить себе ничего неправдоподобного! Необходимо, чтобы дети мне поверили!.. »
Жан Кокто использует в этом фильме свою изобретательность, но лишь с чрезвычайной осторожностью. (И все-таки его упрекнут в том, что он подменил тему сказки своими собственными темами.) «Самое забавное заключается в том, что, хотя я выбрал эту сказку в соответствии с моей личной «мифологией», все предметы и действия, приписываемые моей фантазии, на самом деле взяты из романа г-жи Лепренс де Бомон, написанного в Англии, где существует бесчисленное множество рассказов о чудовищах, спрятанных в родовых замках»[390] 390
«Entretiens autour du cinématographe», Paris, 1951.
[Закрыть].
Однако совершенно ясно, что фильм Кокто приобретает гораздо более глубокое звучание, чем вдохновившая его сказка. Персонажи фильма оказываются не просто олицетворениями добра, зла, доброты, злобы, как это было в сказке, а символическими образами человеческих страстей, инстинктов и мечтаний, т. е. элементов, составляющих человеческое существо. В фильме появляется новое лицо – Авенан, друг, которому поручают убить чудовище; освобождая красавицу, он сам превращается в чудовище, в то время как последнее обретает свой подлинный облик, облик прекрасного принца.
«Я решил использовать сказку в качестве отправного пункта, – пишет Кокто, – дополнить ее действиями, не мешающими основной линии рассказа, а обвивающимися вокруг нее». Эти арабески, не искажая темы, обогащают и питают ее, превращая детскую сказку в вариацию на тему Любви и Смерти—основу легенд всех времен. Этот вневременной характер сообщает фильму его подлинное измерение, дает возможность проникнуть по ту сторону его внешней формы и ощутить емкость содержания.
Возможно, что пышность фильма «Красавица и Чудовище» заслонила его внутреннюю красоту – по крайней мере для некоторых зрителей.
С самого начала публику поражает необычное великолепие, редкий для кино художественный вкус. Известно, какая заслуга принадлежит в этом Кристиану Берару. «Его находки наталкивают меня на другие. Он «рассказывал» мне обстановку и костюмы. Но когда доходило до дела, он скрывался из виду. Я был знаком с этим методом и немедленно продолжал дело, заказывал другим эскизы костюмов и декораций, отвечавшие его замыслам. Возмущенный моими ошибками, он набрасывался на эти эскизы, исправлял их, обливаясь потом, в отчаянии вытирая мокрый лоб»[391] 391
«Entretiens autour du cinématographe», Paris, 1951.
[Закрыть].
Все мельчайшие детали – перчатка, серебряный прибор – изучались и специально изготовлялись со всею тщательностью. Жан Кокто не терпит неопределенности и неточности, за которыми скрывается ложная поэзия. Он создает правду воображения, которая – даже за пределами кино – определяет способ своего выражения. Он создает «образы», а не сны. В этом фильме находят стиль Вермеера Делфтского. К этому Кокто и стремился, некоторые части фильма носили более романтический характер.
Как и в более позднем «Орфее», Жан Кокто сплошь и рядом черпает пластические элементы для этой феерии в самой прозаической действительности. Замки, в которых живут его герои, не были выдуманы; они существуют, и даже странная зала со стеной, покрытой скульптурными изображениями животных, – это замок Рарэй (Иль-э-Вилэн). Но Кокто умеет открывать в действительности необычное, ускользающее от нашего внимания, показывая его нам во всей таинственной прелести (например, знаменитый эпизод стирки).
Как это видно в том же эпизоде, костюмы также играют существенную роль. В пластическом отношении они являются как бы знаками персонажей в такой же степени, как и лица, в той же мере, что и внешность Чудовища – одного из удивительных созданий кино. Жан Кокто рассказывал о подлинной пытке, какую приходилось выносить Жану Ма-ре под этим гримом: «Я сделал из него Чудовище, которое вместо того, чтобы быть отвратительным, остается обольстительным, обладая той обольстительностью Чудовища, в котором ощущается одновременно и человек и зверь. Впрочем, в этом и заключается сюжет сказки, потому что в конце концов красавица проникается жалостью и любовью к этому страшилищу... » Этот облик, жалкий и в то же время величественный, – и все, что осталось в нем человеческого, – взгляд, некоторые жесты, – обладают большой силой эмоционального воздействия. А мастерство в использовании пластических и звуковых элементов – голоса, звуковых пауз, музыки – делало фильм с точки зрения его формы богатым и многогранным, не знающим себе равных.
Тем не менее сам Кокто пишет: «Теперь, когда прошло определенное время, я вижу, что ритм фильма – это ритм рассказа... Герои как бы живут жизнью не настоящей, а рассказанной. Может быть, этого требовала сказка?»[392] 392
La Belle et la Bête, «Journal d'un film».
[Закрыть]
Это «отдаление» от жизни, эта холодность, которую отмечали некоторые критики (хотя, как уже говорилось, в фильме были и глубоко волнующие моменты), несомненно, способствовали формальному совершенству фильма. Все моменты, благоприятно сказавшиеся на фильме, шли от внешних факторов, а не от его содержания. Кокто строил свою феерию перед камерой, которой была отведена несложная роль «записывающего прибора». Он пользовался объективом не для написания феерии, а лишь для фиксации ее на пленку, и, следовательно, он рассказывал ее зрителям, но не воспроизводил перед ними. Однако в последней цитированной нами фразе Кокто высказал сущую правду: картина не становится частью нашей жизни, ее только смотрят; сказку не переживают, ее слушают.
Эта прямая победа над искусством, которому он служил (слишком короткое время), лучше многих других; это понимание кинематографа не заставляет Кокто привязаться к нему, как привязывается ученый к своему открытию. Оно является для него забавой. «Для меня кино – не профессия. Я хочу сказать, что ничто не заставляет меня снимать фильм за фильмом, искать актеров для исполнения ролен и создавать роли для определенных актеров». Его просят принять участие в работе. Иногда он уступает, одному подсказывает тему, для другого пишет диалог; он продолжает играть «левой рукой» – можно сказать, для времяпрепровождения. В 1947 году Жан Кокто по драме Виктора Гюго «Рюи Блаз» пишет сценарий, который ставит Пьер Биллон. Кокто придумывает для этого фильма изумительные декорации – светлые арматуры на фоне черного бархата – и воссоздает на студиях Милана пышную и ветшающую Испанию. «Мне хотелось, – говорит он о «Рюи Блазе», – создать ковбойский фильм, фильм плаща и шпаги. Я не вкладывал в него душу, потому что это была скорее игра, нежели внутренняя потребность. По этой причине я доверил его постановщику, которого некоторым образом консультировал, но ритма его монтажа я изменить не мог, потому что любой фильм всегда является портретом постановщика... Испанский каркас выпирал из-под бархата, чернота которого напоминала китайскую тушь рисунков Виктора Гюго»[393] 393
«Entretiens... »
[Закрыть].
Почерк Виктора Гюго чувствуется и в фильме «Двуглавый орел», который Кокто снимает по поставленной им пьесе. Фильм был сделан тщательно, но получился слишком литературным, в духе старомодного романтизма, чем, однако, и нравился публике. Несмотря на то, что автор хотел этой пьесой дать зрителю «театр действия», фильм претит избытком диалогов, т. е. отсутствием действия. Если он и войдет в кинематографическую биографию Кокто, то, подобно «Рюи Блазу», лишь как своего рода интермедия.
«Мы с головой ушли в легенду!» – говорит как бы в заключение один из героев «Двуглавого орла». Этот привкус легенды, присущий фильмам Кокто, характерен для него. Именно в такой форме выражения, которую принято называть «реалистической», он видит идеальное средство для передачи всего, что не укладывается в рамки реальности. Он дойдет даже до того, что, подобно ярмарочному зазывале, напишет и произнесет текст «от автора» для не получившего широкого признания фильма Звобада «Свадьба в песках», навеянного марокканскими легендами...
Прежде чем говорить о главном произведении Кокто – «Орфее», следует остановиться на двух фильмах: «Ужасные родители», автором которого был он сам, и «Ужасные дети», поставленном по его книге другим режиссером.
Вернемся еще раз к «Беседам о кино», бросающим яркий свет на намерения автора и на достигнутые результаты. «Должен признать, что с кинематографической точки зрения «Ужасные родители» являются моей большой удачей. В этом фильме, как оказал бы Баррес, я «связал концы с концами», то есть добился того, о чем мечтал. Я стремился к трем вещам: 1. Запечатлеть на пленку игру несравненных актеров. 2. Быть рядом с ними, видеть лица, вместо того чтобы рассматривать их на расстоянии, из зрительного зала. 3. Прильнуть глазом к замочной скважине и захватить своих хищников врасплох при помощи телеобъектива». Сюжет и развитие действия относятся к области литературного творчества Кокто. Поэтому мы остановимся здесь лишь на их перенесении на экран, которое в данном случае является «съемкой» в точном смысле этого слова. В каждом из своих фильмов Жан Кокто что-нибудь изобретает: маску Чудовища, декорации в виде каркаса в «Рюи Бла-зе». Здесь он делает вид, что снимает свою пьесу – ни дать ни взять как Марсель Паньоль или Саша Гитри; но, производя съемки, он осуществляет то, что еще никому не приходило в голову: перенося пьесу на экран, он использует прием, невозможный в театре и органичный для кино, – он снимает почти исключительно крупным планом, причем часто даже очень крупным. Он подает фильм под микроскопом.








