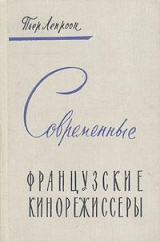
Текст книги "Современные французские кинорежиссеры"
Автор книги: Пьер Лепроон
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 49 страниц)
Но вернемся к «Воспоминаниям» Ренуара: «К моему несчастью, борьба, которую пришлось выдержать, чтобы поставить на ноги «Суку», создала мне репутацию человека, весьма неуживчивого, так что после этого фильма найти работу мне было чрезвычайно трудно.
Я жил кое-как, изредка снимая убогие фильмы, вплоть до того момента, когда Марсель Паньоль дал мне возможность снимать «Тони».
Этими «редкими убогими» фильмами были «Ночь на перекрестке» (1932), «Будю, спасенный из воды» (1932) и «Шотар и К°» (1933). О первом многого не скажешь. По отзыву Сименона, это детектив, сделанный профессионально, но без оригинальности. Второй – «тот самый превосходный «Будю, спасенный из воды», беспредельное богатство и несколько неряшливая оркестровка которого являются как бы крайним проявлением сильных и слабых сторон творчества Ренуара»[150] 150
Raymond Barkan, Jean Renoir, «Ciné-Club», № 6, avril 1948.
[Закрыть].
От «Шотар и К°» не осталось никаких следов.
«Работа над «Тони», – пишет Ренуар, – меня многому научила. Этот фильм вселил в меня мужество, необходимое, чтобы экспериментировать в разных направлениях».
Созданный Марселем Паньолем и сыгранный марсельскими артистами, «Тони» принадлежит к так называемой Провансальской школе в кино. И «Тони» и выпущенная годом ранее «Анжела» возвещают о намечающейся тенденции к французскому неореализму, уже содержащему в себе некоторые черты будущего итальянского неореализма: отказ от павильонных съемок, простота и ясность действия фильма, рассчитанного на самые широкие круги зрителя, а отсюда склонность к мелодраме, отказ от «кинозвезд». Недавнее возобновление демонстрации этого фильма ясно показало, какое место он занимает в истории киноискусства, а также и его наивный характер, в котором еще сказывалась неопытность Ренуара.
Хотя сын великого художника уже неоднократно доказывал, что обладает талантом, однако ему еще не удалось выработать своего индивидуального стиля. Предоставленный самому себе, как это было вовремя постановки фильма «Мадам Бовари» (1934), сценарий для которого был написан им самим по Флоберу, Ренуар колеблется, сомневается и создает произведение, в котором ощущается нерешительность. Если Ренуар работает со сценаристом, отличающимся сильной индивидуальностью, он попадает под его влияние и выпускает фильм, принадлежащим ему лишь наполовину. Так было с «Преступлением господина Ланжа», сценарий которого был написан Жаком Превером по замыслу самого Ренуара и Ж. Кастанье. По мнению Жака Брюниуса, нельзя быть уверенным, что «комбинация Ренуар – Превер может оказаться благотворной для французской кинематографии, если даже и предположить, что резкое несоответствие этих бурных темпераментов допускает подобную комбинацию»[151] 151
«En marge du cinéma français», цит. по J. Q u é v a 1, Jacques Prévert.
[Закрыть]. Она подавила бы индивидуальность Ренуара, слишком поддающегося чужому влиянию.
Неравноценность фильмов Ренуара, характерная для всего довоенного периода его творчества, обусловлена гораздо в большей мере этой игрой влиянии, нежели недостаточным техническим мастерством режиссера. Порою кажется, что даже его мастерство подчиняется императиву чужого вдохновения. Именно в этом смысле критик Жорж Шарансоль в ходе одной радиодискуссии отказывался признать Жана Ренуара «автором фильмов». Эту точку зрения, однако, можно отстаивать только в применении к минувшему периоду, о котором сейчас идет речь. В наши дни она уже несостоятельна, так как теперь Ренуар является типичным образцом «автора фильма» благодаря своему стилю, который пронизывает его произведения.
Фильм «Преступление господина Ланжа» продолжает линию «Суки». Мотивы насилия, неустойчивости, смелости, но с более подчеркнутой социальной окраской и проявившейся у Ренуара еще раньше склонностью рисовать людей улицы в свете классовых проблем, а не как исключительных людей или исключительные случаи. Проблема эпохи тоже не обойдена – ведь мы накануне Народного фронта, – у Ренаура еще больше, чем у Дювивье в его фильме «Славная компания», чувствуется стремление сделать кинематограф средством художественного выражения социальных интересов. С победой Народного фронта в 1936 году это стремление примет даже форму своего рода «социального заказа».
В этом же году Жан Ренуар ставит короткометражный фильм «Жизнь принадлежит нам», а в следующем – полуисторический фильм «Марсельеза», соавторами сценария которого наряду с Ренуаром выступали К. Кох и М. Дрейфус.
Эта работа страдает всеми недостатками политического, пропагандистского фильма: не обладая достоинствами произведений этого жанра, она лишена горячей убежденности, дыхания эпоса, на протяжении стольких лет составлявших величие советского кино. Глубокое понимание человеческой натуры, пристрастие к подробностям и чувство меры неизбежно обрекали на провал начинание, задуманное в эпическом плане, или, выражаясь точнее, произведение, которое кинематографически могло быть выражено только как эпос. Оставаясь верным самому себе, Ренуар стремился создать реалистическое произведение. «Мы остановили свой выбор, – писал он, – на совсем простых персонажах, очень скромных, хороших ребятах – рабочих, мелких буржуа, средних французах». В этом заключалась коренная ошибка, поскольку революционным периодам как раз свойственно разрушать подобную умеренность. Превращение рядовых личностей в типические образы исказило звучание драмы. Реализм в произведении Ренуара уступил место своего рода лубку, не отвечающему исторической правде. Рождение национального гимна становится мелким, обыденным событием, душа которого выхолощена; фильм насыщен банальным красноречием, как избирательная программа. Несколько довольно сильных эпизодов не смогли бы спасти фильм в целом, даже если бы ораторский тон диалога был приглушен.
В этих же недостатках можно упрекнуть «Наполеона» Абеля Ганса, но у него над всем брал верх глубочайший лиризм. Ренуар же в соответствии со своими замыслами показал нам марсельцев, прибывших в Париж после похода, длившегося месяц, одетыми с иголочки, прилизанными и начищенными, готовыми идти хоть на парад. Это было бы еще ничего, если бы аналогичный лоск не был наведен и на их умы. Его герои, по существу, все та же «славная компания»; они никому не хотят причинить зла, мечтают о любимых, о своем семейном очаге и по-дружески парламентируют с дворцовой стражей. Слишком учтивая революция! Историческому фильму тоже требуется точность в обрисовке человека... А толпы людей, заполнившие 10 августа лестницу Тюильри, неся на остриях пик только что отрубленные головы королевской стражи, наверное, выглядели далеко не такими прилизанными, как герои этого фильма.
Однако до «Марсельезы» и непосредственно вслед за ней Ренуар поставил несколько своих крупнейших произведений, где, «наконец, обозначается нечто большее, чем стиль, – своего рода поэтическое переложение используемых им пластических элементов.
В 1936 году Ренуар снимает фильм по пьесе Горького «На дне», который получился гибридным– в нем лицо художника как бы прикрыто маской. Два годя спустя он скажет: «Теперь я начинаю постигать, как мне следует работать. Я осознал в себе француза и должен работать в строго национальном духе. Я знаю также, что, поступая так и только так, я смогу тронуть людей и других наций и создать произведение общечеловеческого звучания». И действительно, мы не видели на экране ни одного глубокого произведения, действие которого не разворачивалось бы в национальной среде, родной для создателей фильма. Блестящие фильмы Клера в Америке не опровергают высказанной нами мысли. Их успех нужно отнести за счет внешней, формальной стороны, а не содержания.
Ни один французский режиссер не может поставить фильм на русскую тему. Достоинства фильма «На дне» ощутимы лишь в той мере, в какой мы абстрагируемся от типично русской обстановки.
В том же году Жан Ренуар приступил к работе над «Загородной прогулкой» по рассказу Мопассана. Здесь мы наблюдаем обратное явление: Ренуар выбрал типично французский сюжет, из которого он и сделает своего рода шедевр. После того, как были произведены натурные съемки, Ренуар перестал заниматься этим фильмом и принялся за «Марсельезу». В 1940 году Маргарита Ренуар смонтировала имеющийся негатив, но мы увидим «Загородную прогулку» лишь в 1946 году. Этот маленький фильм вызвал в нас смешанное чувство восхищения; и в то же время удивления: его совершенно исключительные достоинства некоторым образом предвосхищают последующую эволюцию искусства Ренуара. «Загородная прогулка» – это уже и «Река» и «Французский канкан», одно – по своей глубокой сердечности, другое – по своей живописности. Эта забавная история – только «повод» для живописца, этим ее значение ограничивается. Но вокруг использованной режиссером истории пульсирует жизнь. Человеческое существо попадает в лоно чудесного мира. Его чувства как бы отражают все, что живет вокруг, – деревья, воду, облака. Импрессионистский набросок... Нежность в сочетании с юмором и меланхолией... Это картины Ренуара-отца, Моне, Сислея, проникнутые тем волнением, которое порождает в душе незаконченное полотно, где все недосказанное окутано дымкой таинственности.
Намерение закончить этот набросок возникло значительно позднее. При этом он, несомненно, утратил бы три четверти своего обаяния. Жан Кеваль передает эту историю так: «Жак Превер адаптировал «Загородную прогулку» Мопассана. Предстояло растянуть сочный короткометражный фильм, который был знаком кинофилам, до размеров полуторачасового зрелища. Но и в переделанном Превером виде сюжет оставался мертвой схемой. И дело вовсе нe в том, что режиссер его недооценил. Наоборот, он нашел этот сюжет превосходным и разработанным вплоть до деталей – от начала до конца, сцена за сценой все было оказано, все предусмотрено. «Это превосходно, – оказал Ренуар, – но мне здесь делать нечего».
Довоенный период ознаменовался еще тремя значительными произведениями: это «Великая иллюзия» (1937), «Человек-зверь» (1938) и «Правила игры» (1939).
«Великая иллюзия», несомненно, наиболее законченный фильм Ренуара в том смысле, что форма и содержание достигают здесь подлинно классической завершенности. Прошло двадцать лет, а он все еще не устарел и сегодня, как вчера, выделяется своей сдержанностью, своей безукоризненной гармонией. Подобная неувядаемость некоторых фильмов – доказательство существования кинематографического стиля, который можно считать вполне сложившимся. Но не всегда этот стиль оказывается самым ярким. В этом смысле «Великая иллюзия», несмотря на ее совершенство, тоже не самое прекрасное творение Ренуара. Но режиссер обрел в нем то, чего до тех лор ему недоставало: единство, точное соответствие формы содержанию.
«Великая иллюзия» – фильм о войне или, точнее, о военнопленных. Люди на войне – таков подлинный сюжет фильма. Или в более широком смысле: чувства людей, оказавшихся в гуще событий. Обстоятельства военного времени сталкивают людей между собой, пробуждая чувство дружбы или презрение. Людей этих разделяет все: национальность, и классовая принадлежность, и характер, и вкусы. Вопреки этим различиям, несмотря на преграды, которые ставит их положение или предрассудки, они научатся уважать друг друга. В этой картине, лишенной какого бы то ни было преувеличения, все время очевидна «ненормальность» войны, ее варварский характер, ее враждебность человеку, его стремлениям, потребностям, самой сущности его природы.
Таким образом, самый большой интерес этого фильма прежде всего заключается в том, что экран приходит здесь на Службу не драматическому сюжету, а своего рода психологическому сопоставлению, иллюстрируемому следующими один за другим эпизодами, независимыми друг от друга, которых объединяет лишь превосходная зарисовка характеров и правда чувств. «Великая иллюзия» появилась весьма своевременно – как раз в тот момент, когда минувшие годы позволили воскресить в памяти войну 1914 года и уже ощущалась угроза надвигающейся войны. Но, как уточнил автор в одном интервью, он выразил в фильме не только протест против войны. Жан Ренуар выразил здесь также сожаление о том, что исчез своеобразный военный дух, памятный ему со времен, когда начиналась его карьера, что исчезла определенная французская, существовавшая в кавалерии традиция, которая, пo его мнению, выражалась даже в нормах поведения солдата, требуемых уставом: «без аффектации и напряженности». Эту непринужденность сумел передать Пьер Френе в образе Боэлдьё, в котором как бы суммировались черты многих товарищей Жана Ренуapa по драгунскому полку.
Таким образом, уже в «Великой иллюзии» мы видим, какое место занимают в произведениях Ренуара его жизненный опыт и личные воспоминания, которые впоследствии придадут исключительную насыщенность всем его выдающимся фильмам. Что касается его стиля, то уже здесь он впечатляет благодаря своей завидной умеренности в использовании средств кинематографическом выразительности. Сцена прохода немцев, в которой мы видим только тех, кто на них смотрит, сменяющиеся наплывами кадры заснеженных деревень, за какие-нибудь несколько мгновений дающие ощущение времени и пространства; волнующая сцена пения «Марсельезы» при вести о взятии у врага Дуомона и момент расставания Габена с Далио – все это безупречные образцы того искусства, которое не терпит ничего лишнего и обладает огромной впечатляющей силой искусства подлинного кинематографа.
Роль Шарля Спаака выразилась в фильме в том, что он придал ему устойчивость, уравновесил «богемную» сторону манеры постановщика, больше склонного к пластическому, нежели к драматическому. Тем не менее уверяют, что в фильме, поставленном Жаном Ренуаром, Спаак не увидел многого из того, что было им намечено в сценарии. Это лишний раз доказывает, что Ренуар умеет руководить актерами. Игра актеров, занятых в «Великой иллюзии», своей правдивостью и сдержанностью в значительной мере способствует прочной ценности целого.
«Человек-зверь», поставленный в 1938 году, может быть, не обладает законченным совершенством «Великой иллюзии», но по своему стилю он в большей степени индивидуален и неповторим. В нем ярче раскрывается сущность художественного темперамента Жана Ренуара. Мы уже говорили, что «Великая иллюзия» воспринимается зрителем сейчас так же, как и при ее появлении. Что же касается «Человека-зверя», то теперь, спустя столько лет после выхода его на экран, в нем обнаруживаются некоторые стороны, которые тогда едва замечались. Кажется, Жан Ренуар сам ошибался в нем, говоря в беседе с Риветт и Трюффо[152] 152
«Entretien avec Jean Renoir» («Cahiers du Cinéma», avril 1954).
[Закрыть]: «В сущности говоря, это произведение натуралистического порядка; я старался прежде всего быть верным духу книги и не следовал рабски за интригой, всегда считая, что важнее сохранить дух оригинала, чем его внешнюю форму. Впрочем, я подолгу беседовал с госпожой Леблон-Золя, и ничего не делал, не будучи уверенным, что моя работа понравилась бы самому Золя. Однако я не считал себя обязанным строго придерживаться фабулы романа. Я вспомнил такие произведения Золя, как «История витража», «Собор», «Проступок аббата Мурэ» или «Наслаждение жизнью». Я задумался над поэтической стороной его творчества».
Последнее признание, сделанное с присущей Ренуару лукавой обходительностью, опровергает сказанное им в начале беседы. По-видимому, свойственная ему потребность опираться на чужую мысль, поддаваться чьему-то влиянию побуждала его сделать из «Человека-зверя» «произведение натуралистическое». Но его манере противен натурализм, и он это знает лучше, чем кто бы то ни было. Доказательством тому другое признание, сделанное в 1951 году в беседе с Андре Базеном и Александром Астрюком: «Мне помогли создать «Человека-зверя» объяснения героя насчет своей наследственности. Я подумал: они звучат не слишком красиво, но если бы такой красавец, как Габен, говорил это где-нибудь на лоне природы, и позади него расстилался горизонт, а быть может, еще и дул ветер, то такое признание могло бы иметь определенную ценность. Это как раз стало тем ключом, которым я пользовался при создании фильма».
Итак, поэтический образ, возникший в воображении художника, может подсказать идею всего произведения. Это значит также, что от образа у него рождается произведение. Вот почему такой незаконченный фильм, как «Загородная прогулка», занимает столь важное место в его творчестве и в некотором смысле является шедевром Ренуара. На том же основании Жана Ренуара надо признать выдающимся кинематографистом, выдающимся «автором фильмов», если даже он, как его упрекает Шарансоль, и не «автор» в том смысле, что он не изобретает сюжетов. Однако в «Человеке-звере» имеется кое-что, помимо красоты зрительных образов – это «атмосфера», которой они окутаны, и ритм, который их объединяет. Адаптируя сюжет Золя, Ренуар насколько мог облегчил его драматическое содержание. Обусловленные наследственностью преступления стали здесь не больше, чем несчастными случаями или последствиями своего рода рокового стечения обстоятельств, более близкого к трагедии, нежели к бытовой драме. Почти все характеры персонажей отмечены печатью пассивности, что делает их жертвами судьбы, от которой они не в силах уйти. Ими движут не чувства и даже не страсти; они как бы околдованы, в результате чего уже не осознают своих поступков. Когда героиня толкает своего любовника на преступление, она только превращает его в орудие собственной гибели. И на этот раз Жан Ренуар сумел использовать и превосходный талант Габена и какую-то изысканную неловкость Симоны Симон.
Сама драма скорее внушена, нежели рассказана. Каждое проявление насилия прикрыто. Сквозь всю эту «цепь» преступлений, вытекающих одно из другого, проглядывает хватающая за душу, околдовывающая нежность, которая покоряет зрителя гораздо сильнее, чем драматические обстоятельства действия.
Это действие передано в фильме бледными тонами. Ему уделено здесь столько и значения и места, сколько отводится речитативу в симфонической поэме. Романтическая фабула развивается на фоне паровозов и железнодорожных путей. Композиция фильма задумана как симфония – с большим эпизодом, играющим роль увертюры. Это проезд по железнодорожному пути, ведущему к Гавру, – превосходный фрагмент, мотив которого повторится в заключительной части драмы и фильма в том же симфоническом построении.
Прелесть фильма в этой композиции, а не в сюжете Золя, в умелой его экранизации и в высоком качестве игры актеров, в гармоничном сочетании элементов пластики и ритма, составляющем сущность кинематографа.
В сценарии и в постановке «Человека-зверя» замысел режиссера был, по-видимому, превзойден. Ренуар почти всегда, сам того не сознавая, превосходит самого себя. В наши дни ценность фильма «Человек-зверь» заключается в том, благодаря чему удалось избежать того мнимого «натурализма», который, как казалось автору, он в него внес. Как бы там ни было, в беседе с Риветт и Трюффо автор заявляет: «Работа над этим сценарием внушила мне желание преодолеть узкие рамки и, может быть, окончательно уйти от натурализма и творить в жанре более классическом и более поэтическом; результатом таких размышлений был фильм «Правила игры».
«Поскольку вдохновение обычно нуждается в каком-либо толчке (надо все-таки иметь исходную точку, хотя бы от нее и ничего не осталось в законченном произведении), чтобы помочь себе думать о «Правилах игры», я довольно внимательно перечитал Mapиво и Мюссе, не намереваясь следовать даже духу их произведений. Я полагаю, что это чтение помогло мне определить стиль, в основе которого лежали реализм – не внешний, но все-таки реализм – и поэзия; по крайней мере, я попытался, чтобы так было».
В фильме «Правила игры» Жан Ренуар чуть ли не впервые работает над темой и диалогом, являясь их автором. Место этого фильма в творчестве Ренуара тем значительнее, что и его идейное содержание и форма как нельзя более соответствуют умонастроению режиссера в предвоенные годы. В нем сказался весь Ренуар – с его сильными и слабыми сторонами, его слегка шутливым анархизмом и хмурой нежностью. По его собственным словам, раньше, находясь под влиянием определенного умонастроения, он любил изображать одиноких героев. «В работе над «Правилами игры» я стал лучше познавать идеи единства, стал отдавать себе отчет в том, что мир тоже поделен на квадратики и кружочки, внутри которых действуют люди, связанные общими идеями, условностями, интересами. В киноискусстве меня начала интересовать тема коллектива».
Эта же мысль заставит Жана Ренуара позднее, накануне съемок «Французского канкана» заявить на пресс-конференции, что ему ближе немецкий или американский кинематографист, чем французский генерал или финансист, поскольку сам он является членом большой семьи, семьи, творящей «зрелища».
Свобода, которой располагал Ренуар как автор сюжета (он был также и продюсером), позволила ему полностью высвободиться от драматических условностей и создать оригинальный фильм («Правила игры»), который вначале вызывает недоумение, а потом пленяет и восхищает. В его творчестве эта картина является как бы звеном, связывающим предшествующие ему фильмы сатирической и социальной направленности с фильмами, если можно так «выразиться, «постановочными», за ним последовавшими. В фильме «Правила игры» есть нечто от «Булю» и «Суки», а также от «Золотой кареты». Таким образом, в нем выражен весь Ренуар. Вот почему этому фильму придается такое значение. В дальнейшем зритель одобрит уклон Ренуара в сторону большей душевности, его частичный отказ от язвительного юмора, который здесь еще берет над всем верх. Но богатство этого произведения будет вызывать все большее и большее восхищение.
В свое время фильм был воспринят в основном как социальная сатира. Такое понимание было ограниченным. Жан Ренуар нас от этого предостерегает. «Этот дивертисмент не претендует на исследование нравов... » – пишет он в предисловии. Полагаться на это заявление Ренуара полностью не приходится. Но его определение следует запомнить. Действительно, перед нами «дивертисмент» в духе XVIII века, что сказалось на самой композиции фильма – две параллельно развивающиеся сюжетные линии плюс музыка Моцарта, время от времени оттеняющая этот трагико-шуточный балет. «Золотая карета» подтвердит тяготение Ренуара к этой форме, легкой и в то же время затейливой, столь мало согласующейся с тогдашними общими тенденциями кинематографа.
Что это за дивертисмент? «О какой игре идет речь?» – спрашивает Жан Пра в фильмографических заметках по фильму «Правила игры»[153] 153
Фильмографическая картотека I. D. Н. Е. С., № 30.
[Закрыть]. «Речь идет о жизни, но о жизни общества, дошедшего до стадам полного разложения; оно может продлить свое скучное я бесполезное существование лишь ценой строжайшей дисциплины, непреложных правил и лжи. Лживые речи, лживые чувства, лживые поступки, погребение какой бы то ни было непосредственности под покровом фривольности и поверхностной учтивости. Однако этот покров ненадежен, он может легко слететь, стоит лишь искренности прорваться наружу; на таком случае и основан сюжет фильма».
Это происходит в разгар празднества в замке, когда действующие лица, увлеченные поставленным ими «дивертисментом», перестают притворяться и дают волю своим подлинным чувствам. Непринужденность делает их смешными, потому что Жан Ренуар до конца верен своей установке на «дивертисмент» и вовсе не хочет, чтобы мы разделяли чувства его персонажей. Он заставляет нас, так же как и тех, кто созерцает празднество, оставаться сторонними зрителями. Поэтому поведение действующих лиц нам кажется столь же смехотворным, как возня насекомых в муравьиной куче.
Подобное «обесчеловечивание» персонажей выявляет непрочность того, что придает человеческой жизни смысл и величие. Действующие лица фильма любят, борются, страдают. Но они смешны нам своей любовью, борьбой и страданиями, потому что механизм их чувств вскрыт с беспощадной иронией.
Это «обесчеловечивание» персонажей, эта двойная погоня, которая происходит во время празднества и смешивает интриги господ с интригами слуг, – все это предвосхищено в знаменитой картине охоты – классическом эпизоде, знакомом каждому любителю кинематографа. Он заснят при бледном освещении в Солони[154] 154
Солонь – местность во Франции, на юге Парижского бассейна.
[Закрыть], и его нарастающий драматизм подчеркивает жестокость этой бойни, выявляет нелепость тех, кто затевает такую «игру». Ответом на нее будет разворачивающаяся дальше двойная погоня, в которой охотники сами окажутся в положении дичи. Рок настигает самого лучшего, самого чистого, чтобы остальные могли продолжать ярмарку своего тщеславия.
Итак, этот «дивертисмент» действительно оказывается «дивертисментом» моралиста. Одного зрелища, которое он нам дает, достаточно, чтобы вынести приговор его участникам. Что за пустой, жестокий, показной мир! Жан Ренуар рисует его не с озлоблением, а с иронией. Он делает это в настолько необычной форме, что при первом просмотре фильма зритель оказывается сбитым с толку. Архитектоника фильма прочно базируется на основных линиях действия, но она облечена не в классическую драматическую форму, а развивается в силу того, что все персонажи и события движутся к заключительному эпизоду, в котором и соединяются все элементы фильма. Обилие персонажей, активно участвующих в действии, параллельное развитие двух линии драмы – господа и слуги —тоже на первый взгляд производят впечатление некоторой бессвязности, которое, как убеждаешься потом, совершенно не оправдано. «Правила игры» – произведение чисто кинематографическое в том смысле, что оно задумано кинематографически, а не служит иллюстрацией к существовавшему до него рассказу. Отсюда свобода стиля, живой ритм, тесное единство звукозрительных элементов. Диалог делает совершенно ненужными и пояснения и драматизм. Он одновременно и реалистичен – той естественностью тона, которая сохраняется, несмотря на то, что речь идет о ничтожных пустяках, – и символичен, так как не оставляет сомнений относительно тех, кто изъясняется этим языком.
По этой оригинальности постановки и по своей сложности фильм «Правила игры» является примером произведений, о которых не следует судить по впечатлениям от одного просмотра. В 1939 году фильм поразил зрителя; в наши дни заставляет молодежь весело смеяться. Он знаменует важнейший этап в творчестве режиссера. Однако, на наш взгляд, подлинный Ренуар не здесь. Этой игре мыслей, этому жестокому юмору можно предпочесть другую сторону его искусства – тонкость чувств, человеческое тепло, потому что, как нам кажется, она в большей мере оправдывает существование искусства и необходимость в нем.
Чтобы проследить дальнейший творческий путь Ренуара, столь же не простой, как и его фильмы, мы вновь обратимся к высказываниям режиссера в «Беседе», опубликованной в «Кайе дю Синема»; они вполне могут служить дополнением к «Воспоминаниям», опубликованным в 1938 году.
После «Правил игры» Жан Ренуар уехал в Италию, где ему предстояло снять экранизацию «Тоски». Этот большой добрый человек был полон любопытства, и смотрите, с какой тонкой хитрецой он его оправдывает:
«Это происходит до войны, но люди все-таки уже догадывались, какие события надвигаются, и многие официальные лица во Франции считали желательным, чтобы Италия осталась нейтральной. Вышло так, что итальянское правительство и даже семья Муссолини изъявили желание, чтобы я посетил Италию. Моим первым движением было отказаться, и я отказался. Но мне было сказано: «Знаете, сейчас не совсем обычный момент, нужно забыть о личных симпатиях. Окажите нам услугу – поезжайте». Не только, чтобы заснять «Тоску», но и чтобы преподать урок постановки фильмов в Экспериментальном центре Рима[155] 155
Экспериментальный центр Рима (Экспериментальный киноцентр) – высшее кинематографическое учебное заведение в Италии.
[Закрыть], что я и сделал.
Такова подоплека материальная, практическая; внутреннее, если позволительно так выразиться, основание для поездки в Италию вытекало из постановки мною «Правил игры». Как вам известно, думая о Мариво, нельзя не думать об Италии. Не следует забывать, что Мариво начал с того, что писал для итальянской труппы, что его возлюбленная была итальянка и что он, по существу, продолжатель традиции итальянского театра. По моему мнению, его можно поставить в один ряд с Гольдони. Итак, моя работа над «Правилами игры» удивительно сблизила меня с Италией, и мне захотелось воочию увидеть статуи в стиле барокко, ангелов на мостах, облаченных в одежды со множеством складок, и их крылья с обилием перьев. Мне захотелось познакомиться с такого рода сложной игрой итальянского барокко».
Над экранизацией «Тоски» Жан Ренуар работал с Карлом Кохом, с которым он уже сотрудничал, создавая «Правила игры», а также с Лукино Висконти[156] 156
Висконти Лукина (род. 1906) – крупный итальянский режиссер театра и кино. В СССР шел его фильм «Самая красивая».
[Закрыть]. Ренуар снял первый эпизод фильма (лошадиные скачки), когда вступление Италии в войну 10 июня 1940 года заставило его прекратить работу над фильмом и вернуться в Париж. Но и там режиссер не задерживается. Представитель Голливуда делал ему предложения еще раньше. Наступил момент о них вспомнить. 1 января 1941 года Жан Ренуар высадился в Нью-Йорке и явился в Голливуд. Его первое впечатление было как нельзя хуже. Но послушаем его самого: «Все, что говорят о крупных студиях, вполне соответствует действительности, но, на мой взгляд, при этом совершенно упускается из виду одна из существеннейших причин, в силу которых там трудно работать такому человеку, как я, то есть импровизатору. Дело в том, что крупные студии несут огромные расходы – фильмы там обходятся очень дорого... Заметьте, что если вы обладаете даром красноречия, то, будучи постановщиком, практически делаете все, что хотите, однако вы обязаны заранее знать, что будете делать, и убедить людей в необходимости этого; я же таким искусством не обладаю».
Приглашенный кинокомпанией «Фокс», Ренуар начинает с того, что совершенствуется в английском языке, одновременно приглядываясь своим наивным и проницательным взглядом к людям и тому, что его окружает в этой стране. Руководители кинокомпании передают ему множество сценариев, сделанных почти исключительно на французском и европейском материале. Они воображают, что Ренуар сумеет придать им достоверность и при этом не будет чувствовать себя связанным. Ренуар же думает обратное. Он «убежден, что чрезвычайно трудно ставить фильмы, которые не связаны с местом, где их делают». «Я считаю, – говорит он, – что национальность художника не имеет решающего значения, но... я часто прибегаю к сравнению с французской школой живописи... Пикассо может быть испанцем, но он пишет картины во Франции я значит он – художник французский. И родись он хоть в Китае, он все равно был бы французским художником»[157] 157
«Cahiers du Cinéma», цит. статья
[Закрыть].
В конце концов Жан Ренуар обнаруживает сценарий, написанный за год до того Дадли Николсом, – сценарий, типично американский и даже фольклорный по своему характеру. Воодушевленный Ренуар знакомится со сценаристом, становится его другом и заявляет продюсеру Зануку, что едет в Южную Джорджию, в район болот – на место действия предполагаемого фильма. Все удивлены.








