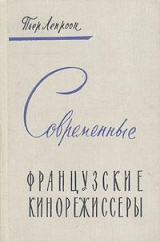
Текст книги "Современные французские кинорежиссеры"
Автор книги: Пьер Лепроон
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 49 страниц)
За время пребывания в Америке Офюльс снял несколько фильмов разного достоинства: «Кровная месть» (1946) по сценарию, написанному им совместно с Престоном Стюрджесом (не был закончен), «Изгнанник» (1947), выпущенный фирмой Дугласа Фербенкса-младшего, «Письмо незнакомки» (1948), «Добыча» (1949) и «Потерянные» (1949).
К числу наиболее интересных фильмов того периода относится, несомненно, «Письмо незнакомки» по мотивам новеллы Стефана Цвейга, переносящее зрителя в Вену конца прошлого века. Тема фильма – излюбленная тема Офюльса – недолговечность любви и горечь воспоминаний. Письмо, полученное молодым пианистом, содержит исповедь женщины, бившей для него лишь эпизодом в жизни. Прочтя письмо, он начинает понимать, что из всех любимых им женщин наиболее достойна любви была именно эта.
В Голливуде Макс Офюльс ставит свои фильмы так же, как делал бы это в Париже или Вене, – с той же тщательной отработкой деталей и в том же поэтическом тоне...
По возвращении в Европу он восстанавливает контакт с миром, который составляет его родную стихию. Годы изгнания в Америке не оборвали старых связей, некоторые его фильмы воскрешают в памяти дорогие ему места и времена; он покидает Францию, чтобы вновь встретиться с миром «Мимолетного увлечения» и Шницлера.
Вскоре по прибытии в Европу он написал: «Несколько дней назад я ездил в Вену. Я не видел этого города с 1927 года. «Логически» нельзя объяснить то, почему Вена показалась мне более грустной и в то же время более очаровательной и полной контрастов, чем все другие города, виденные мной с момента возвращения в Европу. Я бродил по улицам, размышлял о «Карусели» и, очутившись среди развалин, террас, кафе, старомодных трамваев и современной оккупационной полиции, мало-помалу восстановил в своем мозгу некоторые связи. Я в них еще не очень разобрался, но мне все-таки хочется о них сказать.
События этих лет, плачевные последствия господства фашизма, никому не нужная война, воздушные налеты, разгром, оккупация, неуверенность в будущем – все это не ново для жителей Вены; они привыкли к подобному в течение жизни многих поколений, мне кажется, с незапамятных времен, как к своему небу и к своей музыке, той музыке, о которой Берлиоз сказал примерно так: «Вальсы Штрауса, взывающие к любви и к жизни, навевают на меня глубокую грусть». Эта полная красоты грусть характерна для австрийской литературы, и я всегда находил ее в произведениях Артура Шницлера– поэта нашей еще только нарождающейся эпохи и эпохи умирающей австрийской империи.
При скупом свете фонарей я увидел в витрине Общества страхования жизни близ Кертнерринга портрет Шницлера. Под портретом, изображавшим его бледное и обросшее лицо, можно было прочесть слова, звучавшие как напоминание о быстротечности жизни. Кажется, в надписи было сказано: «Удивительнее всего, что в великолепии жизни приближение смерти ощущаешь заранее». Эти слова должны были бы отпугивать вкладчиков. Возможно, что они принадлежали Альфреду де Мюссе.
Шницлер был вторым Мюссе с берегов Дуная, реки, которая едва касается Вены, но пересекает столько других стран и несет на себе груз их истории. В произведениях Шницлера «все течет», как эта река: рождение, жизнь и конец всех человеческих отношении, в том числе любви – и все это в ритме вальса. В «Мимолетном увлечении» и «Приключениях Анатоля», во «Фрейлейн Эльзе» и «Карусели» меня пленяет именно эта тоска по родине»[213] 213
«Unifrance Film Informations»
[Закрыть].
То общее, что обнаружил Макс Офюльс между Веной времен империи и Веной фильма «Третий человек»[214] 214
«Третий человек» (1949) – английский фильм режиссера Кэрола Рида, знакомого советскому зрителю по картине «Козленок за два гроша».
[Закрыть], – это общий упадок: там – конец империи, здесь – конец эпохи, то и другое переживалось людьми, несомненно, с одинаковым изяществом и фривольностью. «Эта красота в грусти» – высшая философия ума, достаточно отрешенного, чтобы упиваться тем, что отмирает, тем, в чем некогда так бурлила жизнь.
Макс Офюльс нашел Вену «более грустной», однако верной своей судьбе. В «Карусели» он нарисует не эту Вену, не Вену «Мимолетного увлечения» или «Письма незнакомки», а Вену вечную, вне времени... Ни одна сцена фильма не вписана в определенную эпоху; это уголок улицы, погруженный в туман, ночной бал под открытым небом, край фонтана, берег реки, карусель, вертящаяся под куплеты зазывалы...
В одной беседе[215] 215
«Cahiers du Cinéma», № 32, février 1951.
[Закрыть], касаясь Макса Офюльса, Жак Беккер справедливо отметил: «Критика не прощает ему успеха «Карусели». Фильм был воспринят как нечто веселое и приятное, и незачем было буквоедам после приема, оказанного этой прелестной картине широкой публикой, выискивать тайный смысл, якобы кроющийся в этом блестящем и слегка игривом произведении. Оно получилось блестящим благодаря непринужденности трактовки, изящным, скрытым в дымке тумана декорациям и исполнителям, в числе которых несколько крупнейших французских киноактеров... «Легкость» фильма обусловлена темой, – ведь «Карусель» – это карусель любви, – откровенностью тона, граничащей иногда с вольностью, но никогда в нее не впадающей. В фильме не все одинаково удачно. Некоторые эпизоды не совсем уместны, сыграны не так хорошо, как другие, очаровательные по тонкости, восхитительные по остроумию. Но обаяние фильма в том, что сквозь изящную словесную перепалку, чувственность и иронию пробивается едва ощутимая грусть, воскрешающая в памяти «праздники любви»... Это «обаяние» – одно из редких достоинств кинофильма, особенно в таком жанре, где сюжет мог быть подан вульгарно или банально. Автор внес в него то, что видит у Шницлера и за что его любит: аромат пепла и увядших цветов... Эта карусель любви является также каруселью самой жизни. Быть может, за этой игривостью кроется немало глубоких мыслей. Как много горечи в этих радостях!
Многие хорошие парижские актеры, с которыми мне посчастливилось работать, как и я, поддались обаянию этого вечного непостоянства, что вполне естественно, так как между Парижем и Веной в самой структуре этих городов большое сходство; Сена, как и Дунай, струит свои воды мирно и бесконечно; не потому ли Париж всегда чутко воспринимал музыку Гайдна, Моцарта и Штрауса, не потому ли и в «Карусели», где французское драматическое искусство сочетается с австрийской литературой, рождается гармоническое единство; надеюсь, что это так...
Тем временем спустилась ночь. У моего отеля «Отель де Франс» молодой альпийский стрелок мирно патрулировал рядом с австрийским полицейским. Они вместе охраняли свой район, совершая свою «карусель».
Фильм стареет, как доброе вино, и со временем приобретает новый вкус, который обогатит его аромат и скоро позволит занять более достойное место. Публика любит картины Делакруа. Но сколько прелести у Ватто! Макс Офюльс вносит в киноискусство довольно редкую ноту. Тем она ценнее. Она не связана с серьезными проблемами. Она выше их. Если Макс Офюльс ставит фильмы исключительно из жизни прошлого, он делает это не столько ради того, чтобы перенести их действие в XIX век, сохранив изящество XVIII, сколько для того, чтобы оторвать их от настоящего, злободневного... «Актуальность?– сказал нам однажды режиссер, – пока делаешь фильм, она уже миновала... » И в вещах и в чувствах он ценит то, что непреходяще. Его фильмы не связаны с определенным временем...
Совершенно очевидно, что он не заботится ни о верности конкретной эпохе и ее (модам, ни о точном воспроизведении времени и места действия. Он подает Нормандию Мопассана в том же вычурном стиле, что и любимую им Вену.
«Надеюсь, вам понравился фильм «Забава»? – спрашивая меня Жак Беккер в 1954 году. – По моему мнению, это лучшая из последних работ Офюльса... » И в этом фильме тоже чувствуется, что, помимо «забавы» и больше, чем ее, автор хочет показать нам шутовскую и в то же время трагическую сторону жизни. Как и в «Карусели», он делает это, прикрываясь игривостью. Контраст здесь получился более резкий, более хватающий за душу, но – если мне не изменяет память (следовало бы проверить ее на фильме) – фон обрисован в этом фильме менее удачно. Может быть, виною тому не режиссер? Если книга, с которой читатель при чтении про себя остается один на один, волшебством своего стиля затрагивает самые заветные струны человека, то фильм и, следовательно, кинорежиссер, адресуется к толпе, в глазах которой тончайшие оттенки пропадают, затмеваемые блеском других. Я сильно опасаюсь, что в столкновении чувственности с целомудрием, составляющем тему новеллы «Дом Телье», четыре пятых зрителей разглядят главным образом сексуальную сторону, иными словами, исказят смысл новеллы, и тем самым будет снижен интерес фильма. Точно так же в «Маске», как, впрочем, и в «Модели», мы не воспринимаем трагического аспекта проблемы. Не будет ли «Забава» в отличие от «Карусели» воспринята глубже?
Не вызывает сомнений, что Мопассан совсем не тот автор, который безоговорочно подходит Офюльсу. Возможно, что другой режиссер сумел бы лучше передать его стиль и дух. Но этот фильм трогает, потому что режиссер в нем верен себе; производят впечатление и высокие достоинства изобразительной стороны произведения: кадры, рисующие пляж в новелле «Модель» (мы обязаны ими Агостини) не уступают работам Будена[216] 216
Буден Эжен (1824-1898) – французский художник, мастер пейзажа, с большим искусством воссоздающий прозрачный, светлый воздух, бегущие облака, подвижную поверхность моря, меняющееся освещение.
[Закрыть]. Надо быть таким художником, как Офюльс, чтобы ставить себе подобные задачи и решать их.
«Мадам де... » тоже не имела успеха ни у критиков, ни у публики, несмотря на громкие имена исполнителей. Три персонажа – три актера из числа самых блестящих. Макс Офюльс еще будет говорить о них. Но сначала посмотрим, что привело его к этому сюжету. «При чтении романа Луизы де Виль-морен меня поразила маленькая история с драгоценной безделушкой, вокруг которой действуют персонажи, направляемые незримым зачинщиком игры. Я увидел в ней символ судьбы, группирующей, разлучающей и соединяющей людей... Все наши планы могут быть опрокинуты судьбой, которую многие именуют случайностью...
В книге, которую Марсель Ашар, Аннетт Вадеман и я адаптировали, не дано никаких точных сведений, в частности, относительно времени действия. Я попытался мысленно отнести действие романа к нашим дням; но при этом он утрачивал свою тональность – ведь чувства и действия персонажей носят печать болезни века, присущей 1880—1885 годам. К этой эпохе мы, не колеблясь, и отнесли «Мадам де... ». В упадке, переживаемом каким-нибудь миром, есть странная красота, которая меня и привлекла...
Положение персонажей тоже было уточнено. Муж – генерал, любовник—посол. Это не просто этикетки. Мы хотели показать за различием положения различие двух жизненных укладов, двух мужских характеров. Для первого, прошедшего школу военной дисциплины, все вещи точно определены, словно отлиты из бронзы. Второй—дипломат и не только в политике, но и в жизни; ему понятен смысл и значение нюансов...
Что касается героини, то она женщина в полном смысле слова. Вступив в брак по расчету, но отнюдь не несчастный, она ведет жизнь блестящую, однако лишенную глубокого смысла и, не отдавая себе отчета, страдает от этого. Ее сердце просыпается слишком поздно, когда она уже не способна на любовное приключение, связанное с преодолением препятствий; жизнь не подготовила ее к драме»[217] 217
«Unifrance Film Informations», № 25.
[Закрыть].
И на этот раз тема трактуется в двух планах. Один – легкая светская жизнь героев, преднамеренные совпадения, поверхностные чувства; персонажи находятся в каком-то опьянении, точно они участвуют в пустой игре, мчатся на карусели. Однако по мере раскрытия сюжета нам показывают, что в этой игре и состояла сама жизнь, и чувства, и страсти. За никчемностью, которая прежде всего бросается в глаза, скрывался глубокий план.
То же изящество режиссерского почерка, та же тщательность в отношении деталей, декораций, места какого-нибудь предмета, та же гибкость повествования. Ни длиннот, ни «деланных» сцен... История развивается плавно, как течение спокойной реки.
Я повстречался с Максом Офюльсом на Елисейских полях, когда съемки «Мадам де... » шли к концу. Он смеется звонко, заразительно. О том, что ему нравится, он говорит умно, с большой сердечностью.
Я встретился с Офюльсом снова два года спустя. Это произошло в сосновой роще, затерянной среди холмов Вара. Он уже приступил к грандиозному предприятию, связанному с постановкой «Лолы Монтес». Цвет. Синемаскоп. Кинозвезды международного класса: Сесиль Сен Лоран, Мартин Кароль. Три варианта. 500 миллионов. Было заснято менее трети фильма, а кинофирма «Гамма», казалось, выдыхалась. Картина напоминала армию в походе. Коляска Франца Листа, вокруг которой паслись лошади. Мартин Кароль, непринужденно беседующая в своем фургоне. Подсобный персонал, выжидательно рассевшийся под кустами. Поговаривали о стачке. За поворотом дороги под соснами хор техников записывал на пленку магнитофона подходящий к случаю припев на мотив Карманьолы:
Месье Карако обещал (2 раза)
С утра зарплату выдавать (2 раза).
Но вот и полдень наступил,
Кассира все же не видать.
Да здравствует монеты звон,
Монеты звон по долу.
А мы, пока кассира ждем,
Станцуем Гамманьолу [218] 218
Перевод В. Завьялова.
[Закрыть]
Впрочем, все это скорее ради остроумия, нежели ради язвительности.
Далекий от событий, Макс Офюльс, помахивая тросточкой, рассуждал с Устиновым. Его жесты повторяются в поставленных им фильмах – грациозные, непринужденные... В ожидании решения «делегата» некоторые рабочие продолжали выполнять задание, которое заключалось на тот момент в окрашивании дороги в красный цвет с помощью шланга. И не только дороги, но и соседних кустов и нижних веток деревьев. Шла подготовка к съемке осеннего эпизода приключения Лолы[219] 219
Монтес Лола (1823-1860-е гг. ) – знаменитая испанская авантюристка, исполнительница фривольных танцев, любовница престарелого Людовика II Баварского.
[Закрыть] с Францем Листом.
... Три месяца спустя. Фильм все еще не снят. На этот раз встреча состоялась в Мюнхене под куполом огромного цирка. Настоящий цирк – с фургонами, лошадьми, запахами диких зверей и конского навоза. Мартин Кароль, изнуренная, очаровательная, неутомимая, разучивает с учителями английского и немецкого языка три варианта своей роли, реплику за репликой. «И все это, – скажет нам впоследствии Макс Офюльс, – она делает, прекрасно понимая, что в своей невыигрышной роли будет почти незаметна. Этим она вдвойне заслуживает преклонения... » Смета давно уже превышена на 150—180 миллионов – на сумму, достаточную для покрытия расходов по постановке трех фильмов. Режиссер к этому не стремился – он хотел ограничиться французским вариантом и сделать из «Лолы Монтес» «европейский фильм». Рамки встречи Вены и Парижа, о которой он говорил в связи с «Каруселью», здесь раздвигались как в смысле места действия, так и по составу исполнителей, принадлежавших к пяти или шести национальностям.
Наконец фильм появился на экране. То была торжественная премьера перед «всем Парижем». Провал был равен тому, какие случаются лишь в Канне. И по тем же причинам.
* * *
Забыли «подготовить» снобов. Чего ждали от «Лолы Монтес»? Прежде всего Мартин Кароль. А она оказалась незаметной в роли женщины, целиком принадлежащей своей эпохе, в одежде по моде того времени, застегнутой на все пуговицы – до самой шеи. Ожидали увидеть историю куртизанки со всеми пороками, которые за ней водились, со всеми победами, а увидели лишь воспоминания героини и карикатуру на цирковое представление. В этой истории не было ни конца, ни начала. Все произошло до того, как началось действие фильма. И «весь Париж», ожидавший получить «Нана», очутился перед «Эльдорадо», которого он, кстати, никогда не видел. Надо думать, что продюсеры были всем этим неприятно поражены еще раньше, чем зрители. Это несколько напоминает историю с «Сукой» Ренуара, о которой мы рассказывали раньше. Драма, конечно, заключалась в том, что фильм стоил 650 миллионов!
«Весь Париж» весьма болтлив; его суждения безапелляционны. Последующие зрители хвалились тем, что тоже ничего не поняли. Говорят, имя Макса Офюльса было предано поруганию перед кинотеатром «Мариньян»... Но для того, чтобы напомнить о тех днях, которые, как считали, так безвозвратно ушли в прошлое, режиссеру и следовало создать нечто необычное – и даже шедевр!..
Мне могут, может быть, заметить, что это слишком громкий эпитет для «Лолы Монтес». И тем не менее этот фильм самый новый, самый богатый по выдумке из всех, созданных с начала истории «говорящего» кино. Он как бы упраздняет театральный кинематограф последнего двадцатилетия и вновь выдвигает на первое место язык киноискусства, следуя по линии кинематографической выразительности за поливизионным «Наполеоном» Абеля Ганса, вышедшим на экраны в 1927 году. «Условимся еще раз, что кино – искусство «чистое», и существует отнюдь не в переносном смысле; это искусство тем более чистое, что оно независимо от психологической, эмоциональной или социологической выразительности. Интересно, что сталось бы с музыкой, если бы ее ограничили утилитарными целями? В ней осталось бы место лишь любовным романсам да военным маршам, вселяющим героизм s сердца граждан! Однако, говорят, кино в чистом виде – уже «пройденный этап». Как прав был Рене Клер!
Точно так же разве «Лола Монтес» не явление «чистого кино»? В данном случае задача свелась просто к тому, чтобы поставить подлинно кинематографическую технику на службу выбранному сюжету и выразить этот сюжет не драматическими или литературными средствами, а средствами кинематографическими. Однако для зрителя это оказалось первым камнем преткновения. Офюльса упрекали в том, что в ето фильме отсутствует сюжет. Вот чего требует в первую очередь публика, считающая себя избранной; подавай ей историйку, рассказанную как в серии «газетных рисунков» в «Франс-Cуap». За пределами этой примитивной формы зритель теряется. На то есть две причины: во-первых, отсутствие культуры, необходимой для понимания искусства, до которого он не дорос; во-вторых, отсутствие у него непосредственности, необходимой для восприятия фильма, предлагаемого его вниманию. Этот зритель – не зритель, а судья. Поэтому он так часто и впадает в ошибку. «Лола Монтес» с гораздо большим успехом будет «идти», в отдаленных кварталах и провинции, нежели на Елисейских полях.
Критика на первых порах вела себя сдержанно. «Любовные приключения героини никого не трогают», – писал Лун Шове; «произведение довольно незавершенное и перегруженное», – выразился Р. М. Арло. Но кое-кто за «экстравагантностью» фильма улавливает его изумительное богатство:
«Низведя роль героини до роли немого идола, лишив романическую жизнь этого персонажа всякого значения и психологии, нарушив естественный ход времени, отодвинув любовное приключение на задний план, смазав фабулу, автор со смелой непринужденностью высвободился из пут глупейшей истории. Он сделал из нее фильм»[220] 220
«Les Trois Masques» («Franc-Tireur», 26 décembre 1955)
[Закрыть].
Именно это и надо было писать. Что нам за дело до «скандальной жизни Лолы Монтес», о которой оповещали рекламы продюсеров? Неужто она интересует нас больше, чем личности «карточных игроков» или характер «Олимпии»[221] 221
«Олимпия» – немецкий документальный фильм, созданный в 1936-37 гг. нацистским режиссером Лени Рифеншталь (совместно с В. Руттманом). В фильме большое место занимает любование гармонически развитыми фигурами атлетов «арийского» происхождения.
[Закрыть]? Значит, публика жалеет, что не увидела эту историйку? А ведь дальше Офюльс нам ее рассказывает, и тремя способами одновременно.
«Что за странный фильм!» – восклицает Андре Базен, но в заключение говорит: «Что касается меня, то я в восхищении от Макса Офюльса, который, имея дело с самым условным сюжетом и в обстановке кинопроизводства, обычно толкающего на путь наихудшего академизма, дерзнул и, больше того, сумел создать «авангардистский» фильм»[222] 222
«Le Parisien», 24 décembre 1955.
[Закрыть].
Этот термин тоже вызывает споры. Но закончим наш краткий обзор печати высказыванием Жака Дониоль-Валькроза в «Франс-Обсерватер»: «На протяжении трех дней я дважды смотрел «Лолу Монтес» Макса Офюльса, и во второй раз, еще больше, чем в первый, фильм меня ослепил, покорил, очаровал, привел в восхищение... » Расхождения в мнениях критики, растерянность публики – и той, что отнеслась к фильму положительно, и той, которая приняла его в штыки, – не напоминало ли это отношение к «Лоле Монтес» новую битву вокруг «Эрнани»? Быть может, впервые в истории киноискусства несколько режиссеров – и притом небезызвестных – публично встали на защиту произведения своего собрата и поместили в парижской печати «открытое письмо» следующего содержания:
«Нам пришлось слышать в различных кругах города столько отрицательных и положительных отзывов о фильме, что, посмотрев его, мы ощутили потребность обменяться своими впечатлениями по телефону. Мы все сошлись на том, что «Лола Монтес»– предприятие новое, смелое и нужное, фильм большого значения, подоспевший в тот момент, когда киноискусство настоятельно нуждается в притоке свежего воздуха.
Слыхали мы и такие высказывания: «Он не нравится зрителям, а ведь фильмы создаются для зрителей». На это мы отвечаем: «Еще не доказано, что зрители бойкотируют фильм, ведь его карьера только начинается». Кроме того, поскольку «Лола Монтес» совершенно не похожа на то, что мы привыкли видеть на экранах, вполне естественно, что некоторая часть публики сбита с толку этим произведением.
Зрители попадают в зал, уже наслушавшись самых разноречивых мнений о фильме. Возникает вопрос, найдут ли они в себе мужество открыто взять его под свою защиту, если он им понравится? На наш взгляд, постановка «Лолы Монтес» прежде всего свидетельствует о том, что режиссер уважает публику, которую так часто недооценивают, преподнося ей фильмы, сделанные на низком уровне, портящие ей вкус и восприимчивость.
Этот фильм – не дивертисмент. Он заставляет задуматься, но мы полагаем, что зритель тоже любит размышлять.
На каком основании человек может положительно принимать книгу определенного качества и отвергать фильм такого же качества?
Встать на защиту «Лолы Монтес» – значит защищать киноискусство вообще, поскольку любая серьезная попытка обновления есть благо для кинематографии, благо для публики».
Жан Кокто, Роберта Расселины, Жак Беккер, Кристиан-Жак, Жак Тати, Пьер Каст, Александр Астрюк.
В этом есть что-то парадоксальное. На страницах «Манд» критик, подписавшийся Г. М., восстает против упоминания, «хотя бы косвенного», о «вкусе» Макса Офюльса. Мне прекрасно известно, что латинский дух несовместим с вычурным стилем, которым проникнуто все творчество Макса Офюльса. Можно любить классическую стройность, наслаждаться Версалем, но разве это мешает нам находить прелесть в Зальцбурге?
Мы скорее склонны признать парадоксальным утверждение, будто «этот фильм не является дивертисментом». Наоборот, это прежде всего дивертисмент! И еще какой! Дивертисмент иного рода, но по своим богатствам равноценный «Золотой карете» Ренуара, которая тоже была неправильно понята. И это потому, что в наши дни публика не умеет «развлекаться» в подлинном смысле этого слова. То, что ей предлагают под видом развлечения, и то, что она любит, – это возбуждение, страсть, скандал. Тема «Лолы Монтес» это обещает... и, к счастью, не дает.
Но вернемся к самому произведению: оно стоит того, чтобы на нем задержаться. «Лола Монтес» – первое разумное использование метода, именуемого синемаскопом, которого избегали в течение двух лет, так как, исходя из опыта американских и нескольких французских фильмов, опасались, что он может еще раз вернуть кинематограф к условностям и театральной упрощенности. Макс Офюльс доказал нам наконец, что это «техническое новшество» действительно может вернуть кинематографию на путь совершенствования его немого языка, отныне обогащенного звуком, цветом и экраном, отвечающим требованиям выразительности. Таким образом, можно сказать, что «Лола Монтес» с помощью нового средства выразительности пытается разрешить проблему «седьмого искусства» на той самой ступени, на которой, как говорит Абель Ганс, оно остановилось с появлением «говорящего» кино.
Первый упрек, брошенный «Лоле Монтес», заключался в том, что она якобы «лишена фабулы». А между тем в развитии действия их можно насчитать четыре, а в показанном на экране сюжете – три. Это явление сравнимо с ультразвуком. Зритель не уловил того, что находится за пределами восприятия нормального слуха. Эти четыре фабулы в действительности являются четырьмя эпизодами из жизни Лолы Монтес: конец романа с Листом, воспоминания о юности Лолы, ее головокружительные успехи на любовном поприще и, наконец, любовные отношения с Людовиком II, королем Баварии. Эти четыре эпизода в свою очередь включены в пятый, который охватывает весь фильм: блестящие выступления Лолы в цирке, конец ее скандальной жизни, ее последний любовник – наездник и укротитель диких зверей...
Таким образом, фильм почти одновременно преподносит зрителю три истории в трех различных планах; три истории, которые порой дополняют одна другую, а порой повторяются в двух аспектах. С одной стороны, это новая жизнь Лолы, избравшей столь необычную профессию, связанную с упражнениями на трапеции, губительными при ее состоянии здоровья. Затем это воспроизведение прошлой жизни Лолы в пантомиме с участием актеров, клоунов, карликов, цирковых музыкантов – картины действительности, поданные в условном схематизированном виде. И наконец, помимо этого «представления», на котором присутствует героиня, пока другие персонажи воскрешают в памяти молодость Лолы, в ее собственной памяти встают воспоминания, оживляемые экраном в четырех вышеназванных эпизодах.
Эти три плана напластованы один на другой с большой выдумкой и порой с поразительно тонким вкусом. Иногда на экране в одном кадре одновременно развиваются две из этих сюжетных линий: таков, например, кадр, показывающий Лолу перед выходом на арену, в то время как позади нее мы видим разыгрывающуюся пантомиму.
Чтобы следить за развитием столь расчлененного повествования, нет необходимости быть семи пядей во лбу, для этого нужно только отдаться ему во власть, быть «непредубежденным». Именно поэтому зритель периферии и провинции оказал фильму лучший прием, нежели «предубежденный» Париж.
На протяжении фильма о Лоле Монтес Максу Офюльсу прекрасно удалось выразить волнующие его мысли и, как и в прежних работах, сказать о недолговечности любви, окутать все свое произведение горьким ароматом утраченных или бесплодных радостей, высказать свое презрение к злободневному, свое пристрастие к извечному, например в сцене, когда Людовик Баварский читает Лоле «Гамлета», равнодушный к бунту, грозно подымающему свой голос под самыми окнами дворца куртизанки.
Повторяем, эта верность своей индивидуальной манере видения мира характерна для автора. За какой бы сюжет ни брался Макс Офюльс, он старается передать через пего свои заветные мысли. И к какой бы форме режиссер ни прибегнул, он верен своему стилю.
Чтобы оправдать применение синемаскопа, Офюльс нашел довольно интересное объяснение: «Сравните переднее стекло автомобиля с узким вертикальным отверстием фиакра; смотрите, как щели превращаются в застекленные окна. Если все в жизни можно вытянуть в длину (или в ширину) от экипажей до архитектурных зданий, то это можно производить и с киноэкраном с таким же успехом». Это шутка, в которой режиссер дает нам понять, что, по его мнению, сам по себе формат, пользуясь выражением Рене-Клера, – «бессмыслица». А поскольку Офюльс решительно предпочитает прошлое настоящему, он сделал при помощи синемаскопа с горизонтальным экраном вертикальный фильм. То и дело объектив камеры перескакивает с арены цирка под его купол, скользит по канатам, вовлекая в головокружительный вихрь люстры, трапеции и эквилибристов. С этой точки зрения в «Лоле Монтес» нот ничего парадоксального, она доказывает, что, подходя к делу с умом, можно во всем достичь успеха...
В самом деле, синемаскоп прокладывает путь варьирующемуся экрану. Совершенно бесспорно, что эпизод ошеломительного парада, показанного в начале фильма, с помощью гигантского формата экрана приобретает такой размах, какого нельзя было бы добиться без него. Кроме того, благодаря одновременности множества действий этот эпизод перебрасывает мост к поливидению Абеля Ганса. Создается действительно поливизионное впечатление. Но по окончании такого балета кадров автор умело возвращается к крупному плану, который необходим, чтобы сосредоточить внимание зрителя на определенной детали. В этом случае Офюльс каширует неиспользованные боковые части экрана или по возможности освобождается от них, прикрывая их нейтральной драпировкой, сеткой, панно. Иногда режиссер меняет положение камеры по отношению к стоящим лицом к лицу актерам, чтобы показать их зрителю то справа, то слева. Порой он начинает показ кадра с какой-нибудь детали (пальцы короля, отбивающие ритм танца на бархатных перилах ложи) и постепенно расширяет охват изображения. Такая «гимнастика» никогда не бывает бесцельной, она всегда служит усилению выразительности изображения, находится в строгом соответствии с определенным стилем. Можно даже сказать, что она гармонирует с присущим Офюльсу вычурным стилем и при помощи часто применяемых «наездов» и «отъездов», то есть подвижности камеры, создает «барочный» кинематографический стиль. Трафаретное использование барочной декорации на экране – бессмыслица. В «Лоле Монтес», как и в «Карусели», Офюльс в согласовании движения с декорацией обретает свой стиль и сохраняет его единство.
В «Лоле» появился еще один новый элемент – цвет. Он используется режиссером с таким же размахом и служит той же цели усиления выразительности. Для трактовки каждого эпизода используется определенная хроматическая «доминанта», имеющая также символическое значение. Пурпур и золото преобладают в осеннем эпизоде с Листом; голубое и серое – в воспроизведении юности Лолы; белое и серебристо-серое – в баварском эпизоде. По контрасту с этим в сценах цирка во всю ширь развернута полная хроматическая гамма, в которой сверкает золото при ярких лучах юпитеров, придающих лицу Мартин Кароль вид маски и превращающих героиню в персонаж уже легендарный, «нечеловеческий». Как это далеко от «естественного» цвета, которым похваляется – безо всякого на то основания – суперпродукция».
Столько же изобретательности и те же дерзания в отношении использования звука. Это сказалось прежде всего в стремлении сделать неслышимым все, что лишено драматического интереса. Офюльс позволяет расслышать лишь то, что важно. Все остальное долетает, как шепот, намеренно приглушенный, или доносится в виде обрывков речи, различаемых в шуме голосов, как это бывает в действительности. Только в студии подносят микрофон к самому носу слуги. В «Лоле» до нас смутно доносятся какие-то распоряжения, зовы, «ворчание» кучера, чему и не должно уделять внимания. Никогда, а еще не достигалось такого понимания естественности в звучании голосов. Впрочем, в большинстве случаев Офюльс даже в диалогах отрывает голос от образа. Так, например, зритель не видит Листа, когда тот говорит; два персонажа даются крупным планом («сделка» в отношении замужества Лолы), но диалог ведется другими двумя персонажами, находящимися на заднем плане. Музыка вторгается тоже необычно: она не накладывается куски, в которых нет диалога, ибо молчание, тишина, оправдывают их наличие (проезд кареты в маленьком немецком городке среди ночи). Музыка начинает звучать в динамических моментах фильма как дополняющий элемент, присоединяющийся к цвету, движению, щелканью кнута...








